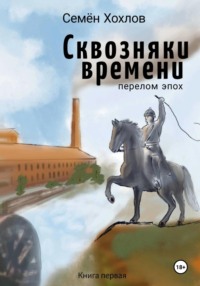Czytaj książkę: «Сквозняки времени. Книга первая. Перелом эпох»
Посвящается моим родителям, привившим мне любовь к литературе и истории
Пролог
Старуха вышла из леса и сразу поняла, что в деревне творится неладное. Ее дом полыхал огромным костром, выкидывая высоко вверх клубы густого черного дыма. Без всякой жалости бушующий огонь поедал сейчас все ее сокровища – редкие травы и коренья, которые она без устали собирала в самых дальних уголках леса. Некоторые из них были еще неведомы людям, и травница рвала их, просто чувствуя таящуюся в них силу. Эти травы могли спасти много людских жизней, снять самую острую боль и излечить почти безнадежно хворую скотину, но чья-то злобная рука пустила ей под крышу «красного петуха».
Вскоре она разглядела поджегших дом мужиков. Они бежали в ее сторону с искаженными от злобы лицами. В первом из бегущих травница узнала неудачливого жениха ее дочери, в руках у него поблескивал обнаженный сабельный клинок.
Старуха уже хотела развернуться и шагнуть в лес, всегда служивший источником ее сил. Она знала, что стоит ей только это сделать, как ветки деревьев сомкнутся за ее спиной и сделают невидимой для преследователей, которые будут носиться по лабиринту лесных тропинок, видя впереди какой-то смутный силуэт, и только спустя полчаса поймут, что петляют, как зайцы, вокруг одного и того же места или, наоборот, вдруг окажутся за много верст отсюда и будут брести полдня, чтобы выйти на дорогу.
Однако в стороне раздался мальчишеский крик, и травница увидела, что по опушке к ней спешит ее внук, он был лишь немного ближе, чем бежавшие на нее мужики.
Старуха поняла, что не может просто уйти и бросить мальчика. С удивительной ясностью она вдруг увидала, что произойдет на этой поляне через несколько мгновений, а вслед за этим осознала все намного верст и лет вокруг и вперед. Увидала не ее, а другой большой горящий дом, окруженный вот такими же, как эти, озлобленными мужиками. Увидела стоящую на опушке леса молодую женщину, смотрящую широко распахнутыми глазами на пожар и на сгорающих в огне людей. Девушка повернула голову и посмотрела на травницу. Посмотрела точно так же через года и расстояния.
Выползшая из-за горы туча стала закрывать солнце. Громыхнул гром, и налетевший ветер разом перемешал солнечное тепло и холод грозы, окатив всех первыми крупными каплями дождя. Повернувшись в сторону бегущих мужиков, старуха забормотала:
– Сумрак спускается с каменных гор,
На брата брат поднимает топор.
Дико кружатся и свищут ветра,
Ужасом полнится наша земля!
Змеи речные, услышьте меня!
Вороны, совы, слетайтесь сюда!
Звери лесные, мой слышьте наказ!
Древа чащобные, знайте мой сказ!
– …Если на землю прольется здесь кровь,
Если невинную жизнь кто прервет,
От наказанья они не уйдут,
Внуки за дедов ответ понесут!
Казалось, что слова травницы шли уже не от нее: они словно вплелись в рокот грома и шум бури, проникали внутрь и кололи холодными иглами под самое сердце. Подбежавший мальчик обнял бабушку, словно бы стараясь спрятать ее от страшных, бегущих на них с саблями мужиков.
– …Тверже железа пусть станут слова,
Помнят их ветер, огонь и вода!!!
Подскочивший первым мужик схватил мальчика за рубаху и, ударив саблей по голове, свалил его на землю. Жуткий блеск клинка еще несколько раз мелькнул в воздухе, удар молнии зажег стоящую поблизости сосну, людей на поляне сек ливень, из стороны в сторону шарахался ветер. Пространство, казалось, лопалось под ударами трех стихий и из образующихся трещин вытекали слова знахарки:
– …Смутные годы вернутся не раз,
Через столетья прорвется мой глас,
Но явится дева душою чиста
И остановит кружение зла…
Глава 1. 1995-й
Пригородный электропоезд подходил к станции, постепенно сбавляя ход. В холодном тамбуре толклись несколько пассажиров и проводница. Стоянка поезда здесь была трехминутной, и высадка пассажиров напоминала операцию десантирования.
На стрелке перед станцией вагон шарахнулся в сторону, и Света чуть не упала на стоящего рядом парня, по всей видимости, тоже студента. Вообще среди пассажиров этого поезда чаще всего можно было встретить студентов и пенсионеров. Те и другие относились к категории льготников, и билет им полагался за полцены. Поезд Челябинск – Кропачево хоть и считался пригородным, но преодолевал почти триста километров, в оборудованных креслами вагонах имелись туалет и купе проводников, властительницы которых проверяли билеты при посадке и торговали чаем и газетами во время следования по маршруту.
В темноте за окном пробежало несколько фонарей, и состав, заскрипев тормозами, остановился. Проводница открыла дверь и приподняла платформу подножки, в тамбур тут же ворвался февраль и облизнул стены белыми язычками бурана.
Пассажиры быстро повыскакивали на перрон, ночь обещала быть морозной, градусов двадцать пять, не меньше. Было видно, как из соседних вагонов по два-три человека выходили пассажиры, сразу поднимая воротники или натягивая капюшоны пуховиков-алясок. После шести с лишним часов в поезде мороз бодрил и заставлял пританцовывать. Поезд дал короткий свисток и начал быстро разгоняться, до конечной станции ему оставалось еще километров пятьдесят.
Когда промелькнул последний вагон с треугольником красных фонарей на торце, приехавшие пошли через пути в сторону небольшой одноэтажной станции, над выходом которой светилось название «Вязовая». На площадке перед ней стояли несколько машин и старенький автобус с работающим двигателем.
– Такси! Такси недорого! – водители машин начали наперебой предлагать свои услуги приехавшим. Двое попробовали было спросить цену, но, услышав ответ, махнули руками и двинулись вместе с остальными к автобусу, на котором им предстояло доехать до своих городков – Юрюзани и Катав-Ивановска.
Маршрут по железной дороге был не единственным: из Челябинска до Катав-Ивановска можно было доехать прямым автобусом за пять часов. Но на автобусе не действовали студенческие льготы, и такая поездка обходилась втрое дороже. Студенчество Светланы длилось уже пятый год, подходя к логическому концу, и за эти годы она почти привыкла добираться до родного города вот так по-цыгански, с пересадками.
Больше часа старенький «скотовоз» пробирался между горами, рыча на подъемах и потом неожиданно быстро ныряя под гору вниз, подслеповато пробивая пургу светом фар. Шел второй час ночи, когда Светлана вышла на своей остановке. В это позднее время район был оставлен без освещения: город экономил на электричестве, только в нескольких окнах горел неровный синеватый свет, видимо, полуночники смотрели телевизоры.
После большого и грязного Челябинска снег под ногами казался особенно чистым и от этого скрипучим. Вот и родной подъезд со знакомым с детства запахом: какая-то смесь борща, сигаретного дыма и теплого уюта. Третий этаж, дверь направо. Чтобы не будить всех, Света не стала нажимать кнопку звонка, а вместо этого тихонько постучала. С полминуты девушка вслушивалась в тишину, потом из-за двери раздался тревожный мамин голос:
– Кто там?
– Мам, это я!
Быстрые повороты ключа – и Света в маминых объятиях, особенно теплых после морозной улицы.
– Светик! Родная моя! Я прям как чувствовала, что ты приедешь, спать не ложилась! – Лидия Васильевна даже немножко подпрыгивала от счастья.
Из зала в трико и майке появился отец и обнял дочь.
– Ну вот и Светланка! А мать тебя заждалась, все ворчала, что ты на Новый год не приехала! – он повернулся в сторону другой комнаты и громко сказал. – Таня! Сеструха приехала!
– Тише ты! – шикнула на него мама. – Пусть спит, у нее завтра важная контрольная! – в ней проснулась учительница. – Доча, ты голодная? Суп погреть?
– Нет, мам, только чаю!
– Валера, – обратилась она к папе, – поставишь чайник?
– Уже бегу! – ответил папа и, щелкнув выключателем, прошел на кухню.
Света прошла в ванную и сунула руки под струю теплой воды. Пальцы с мороза никак не хотели слушаться. От всех предметов к девушке потянулись знакомые запахи детства, окутывая домашним теплом. Впрочем, студентка уже знала, что домашний уют через недельку-другую пребывания в родительской квартире начнет ее тяготить, и потихоньку девушка затоскует по свободе гораздо менее обустроенной комнатки в общежитии. Света мысленно одернула себя: не в этот раз, сейчас она приехала домой не отдыхать, а работать.
Когда девушка вошла на кухню, то убедилась, что ее фраза «Только чай!», как и следовало ожидать, была воспринята весьма условно: на столе уже стояли бутерброды с сыром, печенье и два вида варенья.
– Ты на электричке? Почему не предупредила, что едешь? – с напускной строгостью спросила мама. – Мы бы тебя встретили!
– Я до последнего часа не знала, получится сегодня выехать или нет, – оправдалась Света.
Она знала, что у папиного видавшего виды ВАЗ-2103 нет нормальной зимней резины, поэтому машина зимой стоит на приколе в холодном гараже. Сообщи она родителям о своем приезде, так они, чего доброго, рискнули бы ехать за ней на станцию, а это почти тридцать пять километров по дорогам, имеющим в это время года на Урале форму ледяного корыта, в котором с трудом разъезжаются встречные машины.
– В поезде холодно было? – спросила мама, заметившая бледность рук дочери.
– Да нет! Немножко замерзла, пока от остановки шла. Там такая метель!
– Да уж, не май-месяц! – весело вставил папа. – Ты к нам надолго?
Было заметно, что мама даже перестала дышать при этом вопросе.
– Пока материала к диплому не наберу в нашем музее. Так что на два-три месяца! – ответила Света.
– Ух ты-ы! А-а! – оба родителя радостно выдохнули. Мама опять потянулась обниматься.
– Только чур не занянчивать меня и не закармливать, а то я от вас сбегу!
– Слушаемся! – бодро ответила мама. – Пойду тебе постелю, пока вы тут чай пьете.
Мама вышла. Было слышно, как она выдвигает ящики комода, достает чистое постельное белье. Папа с минуту молча разглядывал дочь, явно любуясь. Его старшенькая многое взяла от жены: та же фигура, те же внимательные глаза в очках; но многое пришло и со стороны отца: Светины волосы имели русый оттенок, как у тети и бабушки. Форма бровей и жесты тоже были его. Эх, наверное, уже много парней успело посохнуть по его дочери. Он прервал свои размышления и спросил:
– Ну а тему диплома тебе уже утвердили?
– Да, «Восстание Емельяна Пугачева в горно-заводской зоне Челябинской области».
– Ого! – удивился отец. – А почему не про Великую Отечественную или не про Гражданскую? Сама такую тему выбрала?
– Не совсем, это Ольга Павловна, мой руководитель. Она целую серию похожих тем раздала студентам из разных городов. Говорит, что там очень много сложных невыясненных моментов, которые заминались в советский период.
– Да уж! – поддержал папа. – Как говорится, мы живем в стране с непредсказуемым прошлым! Ты как, не пожалела, что пошла на историка учиться?
– Чего жалеть? Раз начала – надо доучиваться!
Глава 2. 1915-й
Антон остановился на краю поляны и неспеша обвел ее глазами, стараясь запомнить до мелочей. Травы стояли высокие и сочные: как на заказ весь июнь дожди сменялись ведрышком, напитывая все зеленое силой. Уже после солнцеворота девятого июня, когда миновали самые короткие в году ночи, хотелось начать косьбу, но делать этого было нельзя, потому что трава еще не осеменилась. За тысячелетнюю историю Руси в крестьянстве выработались законы, нарушение которых считалось тяжким грехом. Одним из таких грехов против земли являлся ранний покос. Если срубить траву слишком рано, не дав ей уронить семена в почву, то оскудеет земля и перестанет кормить живущих на ней людей. Наконец настал Петров день, заведенный издревле предел, после которого косьба переставала быть запретной.
Гнедых еще раз осмотрел поляну, пытаясь запомнить ее нескошенной, чтобы потом сравнить с тем видом, что будет после уборки. Ему вспомнился фотограф, что приезжал к ним в город каждый год. Многие заводчане наряжались всем семейством и шли к нему, чтобы сделать групповой портрет. Дело это было недешевым, и многие откладывали на фотографию деньги по несколько месяцев, зато в домах на самых видных местах стали появляться семейные портреты. «Живете не хуже князей», – любили шутить гости, рассматривая эти рамки. Антон усмехнулся: вот бы позвать фотографа, чтобы запечатлел поляну до уборки и после! Наверное, многие из знакомых покатились бы со смеху, узнав о таком желании слесаря, но Антон Гнедых мог бы любоваться фотографией поляны часами.
Он снял косу с плеча и опустил перед собой так, чтобы острый кончик воткнулся в землю, а пятка косы смотрела в небо – теперь со стороны коса напоминала треугольник. Достав из кармана небольшой брусок точильного камня, Антон поплевал на две противоположные грани и начал быстро проводить бруском то по внутренней, то по внешней стороне лезвия, постепенно спускаясь от пятки к носу. Затем Антон выдернул косу из земли, завел за правое плечо и поставил на окосье. Теперь, когда серп лезвия торчал из-за его плеча, нос косы был перед самыми глазами и можно было наточить и его.
При заточке брусок и коса выдавали звонкие ритмичные звуки, разносящиеся далеко по округе. Похожие ответные звуки неслись сейчас со всех окрестных гор, на полянах которых косари готовились к работе. Встав сегодня затемно, Антон десять верст шел до своего покоса, расположенного за Фарафонтовым мостом, и в темноте летней ночи видел многих таких же, как он, покосников, группами и поодиночке идущих и едущих на телегах на свои паи. Считалось, что слепни и мошкара меньше летят на светлую одежду, поэтому казалось, что люди одеты по-праздничному – в длинные белые рубахи и длинные штаны.
Перед началом работы полагалось прочесть молитву или хотя бы попросить Божьего благословения, но Антон, в отличие от деда и отца, верующим себя не считал, поэтому, просто выдохнув: «Коси коса, пока роса!», пошел вперед. Поначалу он чувствовал, что тело за год забыло движения, отчего первые действия получались какими-то резкими, однако с каждым шагом вспоминалась былая сноровка, и коса быстро летала вправо-влево, вправо-влево.
При каждом движении влево лезвие косы описывало большую дугу и подрезало траву, причем все травинки ложились на землю верхушками в правую сторону, особенно красиво при этом смотрелись полевые цветы. При следующем движении влево лезвие косы срезало новые травинки, а пятка подгребала срезанные в предыдущий раз в ряд. Дойдя до противоположного края поляны, Антон вернулся назад и пошел косить второй ряд. После каждого второго ряда он подтачивал косу, а пройдя семь-восемь рядов, устраивал небольшой перекур.
Солнце поднималось все выше, становилось все жарче, и к комариному звону стал добавляться тяжелый гул слепней. Похожие на огромных мух, они кружили вокруг разопревшего в тяжелой работе тела. Улучив подходящий момент, слепни садились на обтянутые участки одежды и больно кусали прямо через ткань. В такие мгновения приходилось прерываться и лупить по кровососам руками. На место поверженных врагов тут же заступали другие. Антон собирался прервать работу на самые жаркие дневные часы, поэтому он то и дело посматривал в сторону дороги, по которой сынишка должен был принести еду к обеду.
Завершая очередной ряд, Гнедых увидел, как за кустами, по которым проходила граница его поляны, работает сосед. Он и раньше уже чуял его по звукам точила и по ржанью соседской кобылы в недалеком леске. У самого Антона семья была безлошадной, и сено с покоса он вывозил обычно ближе к зиме, когда можно было недорого нанять кого-нибудь из соседей или родственников с лошадью.
– Бог в помощь, Антон Данилович! – сосед стоял у куста с косой в руке.
– Благодарствую, Алексей Антипович!
Антон докосил ряд и подошел к кусту. Две мужские ладони встретились в крепком рукопожатии. Алексей Куницын был на полголовы повыше Антона, да и в плечах был пошире. Несмотря на пятый десяток, в темных волосах на голове и в аккуратных усах еще не было видно ни одного седого волоса. Ворот рубахи соседа был широко распахнут, от волосатой груди шибало крепким мужским потом, что привлекало целую тучу мух, комаров и слепней. Однако казалось, что Алексей Антипович не обращает на них никакого внимания, как часто бывает с охотниками и людьми леса.
Пожалуй, Куницына можно было отнести к заводскому начальству, поскольку он был старшим мастером соседнего с Антоновым цеха. На эту должность Антипович выбился из рабочих, однако Антон знал, что мастеровые в цеху его недолюбливают, потому как старший мастер со своего брата рабочего драл три шкуры, требуя такого качества работы, которое многим казалось излишним.
Присев под кустом в тенек, они свернули самокрутки и закурили. От едкого самосадного дыма мошкара отступила, давая возможность поговорить.
– Ты тоже сегодня первый день косишь? – спросил Алексей Антипович.
– Первый! Сам знаешь, начальство только вчера отпустило! – ответил Антон.
Каждый год заводское начальство давало рабочим шесть дней после Петрова дня для работы на покосе. Хотя жалование за эти дни не платили, мастеровые были рады возможности убрать сено на своем наделе или помочь родственникам.
– Один косить будешь? – снова спросил старший мастер.
– Старший сын, как на грех, ногу на рыбалке об корягу поранил. Может, через день-другой подживет. А младшой – тот еще косу держать не научился!
– Вот и у меня пацан тоже еще до косы не дорос! – посетовал Алексей Антипович. – А девок я даже и не учил. С ночевой их с собой не возьмешь: того и гляди застудятся ночью. Вот уж как грести станем, так они и приедут, а завтра муж сестры обещал подсобить.
Антон увидел, как по дороге идет его младший сын. В кутерьме дел с вечера Татьяна не успела напечь хлеба, и они условились, что тормозок на покос принесет Андрейка. Гнедых встал, чтобы пойти навстречу сыну.
– Антон Данилович, я с собой литровочку прихватил. Чуть попозже отнесу ее в ручей, чтобы захолодела. Заглядывай вечером на огонек!
– Ну что же, загляну, коли приглашаешь! – пообещал Антон и пошел встречать сына.
Подойдя к краю поляны, где начинались свежескошенные ряды, Андрейка принялся их пересчитывать, делая длинные шаги от одной полоски травы к другой. Антон с улыбкой смотрел на арифметические потуги сына, который в этом году окончил второй класс начального земского училища. Школьная наука давалась сыну легко, особенно нравилась математика.
Полвека назад работал на Катавском заводе кузнец Матвей Больщиков, был он мужик с головой и стал понемногу откладывать рабочую деньгу. После указа Александра II об отмене крепостного права у мастеровых появилась возможность выбирать, где работать и чем заниматься. Накопив капиталец, Матвей ушел с завода и сделался купцом. Дела у бывшего кузнеца пошли в гору, и все три его сына тоже стали купцами, войдя в Уфимскую купеческую гильдию.
Матвей, однако, воспитал сыновей так, что они помнили, что их отец вышел из мастеровых. Один из его сыновей Василий Матвеевич Больщиков выделил средства на постройку двухэтажного здания для начального земского училища. Строившие здание каменщики с удивлением и гордостью рассказывали, что в классах не будет печей, вместо этого все здание оборудуется паровым отоплением. Такие дома только-только начинали возводить в столице и губернских городах, поэтому жители Катав-Ивановска очень гордились строившейся школой. Наконец год назад училище открыло свои двери, и в него сразу потянулись и те, кто пока был совсем неграмотным, и та ребятня, которая до этого ходила в церковно-приходскую школу.
Еще каких-нибудь двадцать лет назад большинство мастеровых относилось к грамотности своих детей как к чему-то не очень нужному. На завод мальчиков принимали с двенадцати лет, до этого возраста они могли помогать матерям по хозяйству, ходить за скотиной и работать в огороде. Отправляя ребенка на ежедневную учебу, семья лишалась дополнительных рабочих рук.
Но в стране год за годом происходили заметные изменения. Быстро начала расти сеть железных дорог, и в последнем десятилетии уходящего века через соседний Усть-Катав была проложена Самаро-Златоустовская «чугунка», потянувшаяся дальше к Владивостоку железной колеей Транссибирской магистрали. Главным изделием железоделательных заводов стали рельсы, и для их перевозки Катав-Ивановский завод соединили с Транссибом дополнительной железнодорожной веткой.
Мастеровые все чаще сталкивались в работе с разного рода приказчиками, и понемногу до них стало доходить, что владеющие грамотой люди могут выбиваться в жизни на более хлебные места. Еще одна польза от учебы проявилась во время русско-японской войны, когда осилившие грамотность солдаты смогли писать домой с далеких фронтов письма, в то время как их неграмотные товарищи были вынуждены прибегать к услугам более образованных сослуживцев для передачи привета родным.
Поэтому в семьях рабочих все чаще стали собирать своих отпрысков в школы, надеясь, что те со временем вместо тяжелой заводской работы у верстаков, станков и огнедышащих печей смогут занять места у конторских столов или чертежных досок.
Антон уже не раз крутился ночью на бессонной постели, размышляя о том, как бы пристроить своего младшего в реальное училище, после которого была открыта дорога для обучения на инженера. Но ближайшее реальное училище располагалось в Златоусте и было платным. К высшему образованию в Российской Империи допускались выпускники реальных училищ, гимназий и кадетских корпусов. Полностью бесплатным образование было только в кадетских корпусах, выпускники которых чаще всего шли по военной стезе. Обучение в гимназии было самым дорогим, зато гимназисты имели право поступать в любые университеты, обучение в которых, однако, было недешевым. Выпускники реальных училищ имели право держать экзамены на физико-математические факультеты университетов. У Антона даже сердце замирало от таких мыслей, но для этого требовались немалые деньги.
Сам Гнедых еще мальцом окончил церковно-приходскую школу, где местный попик обучил ребят читать по складам и кое-как считать. Но больше всего времени в этой учебе священник тратил на изучение молитв и Закона Божьего. С детских лет, с той самой скамьи в одном из помещений их большого двухэтажного храма, Антон стал задумываться, почему у одних есть все, а у других почти ничего и как это все терпит Бог? К тому моменту, когда он повзрослевшим подростком был принят помощником слесаря на завод, он уже твердо знал, что никакого Бога нет, а значит, неоткуда рабочему человеку ждать помощи, разве что от таких купцов, как Василий Больщиков.
– Ну как, комиссия довольна работой? – спросил Антон у сына.
– Двадцать девять рядов! – с восхищением сказал Андрейка.
– Сейчас мы с тобой тридцатый скосим!
Антон несколько раз взмахнул косой, чтобы закосить новый ряд, потом подозвал сына и поставил перед собой.
– Левой рукой держи окосье, правой берем рукоять! – стал объяснять он сыну. – Делаем взмах, всем корпусом надо поворачиваться! Шаг вперед! Взмах, шаг вперед! Лезвие должно прям над землей лететь, если траву высоко срезать, потом грести трудно будет. Взмах, шаг вперед!
Сделав несколько повторяющихся движений вместе с мальчиком, он отпустил инструмент.
– Теперь давай сам!
Андрейка попытался сделать самостоятельный взмах, но коварная коса не захотела двигаться параллельно земле и лезвие воткнулось в грунт.
– Пап, у меня не получается!
– Ничего, ничего! Сноровка сразу не приходит, ее нарабатывать надо! Моей косой трудно учиться, «пятерка» тяжеловата для тебя. Я, как с покосом управлюсь, тебе «четверку» настрою, и мы с тобой потренируемся на пустыре. Траву-то для нашей Буренки еще надо будет подкашивать до конца лета!
Размер кос традиционно измерялся в четвертях. Одна четверть аршина или одна пядь равнялась расстоянию между кончиками вытянутых в противоположные стороны большого и среднего пальцев руки. Такая мера длины была очень удобной в хозяйстве, поскольку не требовала никаких измерительных инструментов. Если лезвие косы имело длину в один аршин, то ее называли «четверкой», если пять четвертей – «пятеркой».
– Научишься косить, и будете вместе с братаном в следующем году мне пятки подрезать! – подбодрил сына Антон. – Как там, кстати, Петька?
– Попробовал с утра на ногу встать, но ему больно, поэтому пока по избе на одной ноге прыгает!
– Вот же нашел время ногу сбедить! – подасадовал Антон. – Ладно, Андрейка, пойдем обедать!
Они подошли к краю поляны, где находились остатки прошлогоднего шалаша. Антон размотал принесенный сыном тормозок с караваями хлеба, соленым салом, огурцами, вареными яйцами и картошкой. Пока Андрейка освобождал яйца от скорлупы, Антон порезал хлеб и сало, и они принялись перекусывать.
Запив нехитрый обед молоком, Андрейка обратился к отцу с просьбой, которую лелеял всю дорогу до покоса:
– Пап, а можно я с тобой тут в лесу ночевать останусь?
Несколько дней назад, приготовляясь к покосу, отец с матерью договорились, что косить вместе с отцом пойдет Петька. Но теперь, после неудачной Петькиной рыбалки, Андрейке захотелось занять его место и, как совсем взрослому, ночевать на покосе с отцом. Антон на минуту задумался, размышляя, как бы помягче отказать младшему сыну. Без навыка косьбы тот был не работник и мог помочь только в качестве кострового, но костровой был бы нужен, только если бы тут работала целая бригада.
– Андрейка, ночи холодные, а ты без теплой одежки!..
– Я могу домой за одеждой сбегать!
– Андрей, ну сам подумай, время ли сейчас туда-сюда бегать, двадцать верст – это не шутка! А кто матери по хозяйству поможет? Одной воды сколько надо: и для Буренки, и для огорода!
Мальчик повесил голову и чуть не плакал от обиды.
– Ты же сейчас дома за главного мужика, пока я на покосе! – продолжил убеждать Антон. – Я и тут сейчас на твою помощь рассчитываю, нужно побольше дров для костра запасти и балаган подправить, прошлогодний уже никуда не годится!
Услышав, что он вместе с отцом будет строить шалаш, Андрейка воспрял духом.
– А что нужно для балагана?
– Возьми топор и сходи наруби побольше лапника! Если сушняк увидишь, то неси его для костра!
Через несколько часов, когда новый балаган красовался хвойными стенами и рядом были заготовлены сухие ветки и сучья для костра, Антон отправил довольного сына в город, а сам направился на поляну, чтобы продолжить косьбу.
К вечеру, когда раскаленное солнце начало цепляться за верхушки деревьев, жара стала спадать. Вместе с жарой куда-то попрятались слепни, и косить стало легче. Антон проходил все новые и новые ряды, сам удивляясь тому, сколько удалось сделать за первый день.
Наконец, решив, что на сегодня хватит, Гнедых отнес косу к балагану и по крутой, еле угадываемой в густых зарослях тропинке спустился к протекающему в низинке ручью, чтобы умыться и набрать в котелок воды. У ручья, раздевшись по пояс, громко кряхтя и отдуваясь, ополаскивался Алексей Антипович.
Антон стянул с себя заскорузлую от пота рубаху и, став рядом с соседом, принялся горстями черпать и лить на себя воду. Ручей начинался в сотне саженей отсюда, и бьющая прямо из-под земли родниковая вода была ледяной. Она приятно обжигала натруженное за день тело и словно бы смывала верхнюю грубую коросту усталости, оставляя в мышцах приятное эхо дневного труда.
Ополоснувшись, Антон наскоро прополоскал и отжал рубаху. Натянув на себя мокрую льняную ткань, он увидел, как Алексей Антипович достает из ручья бутыль зеленого стекла.
– Антон Данилович, заглядывай начало покоса отметить! – призывно взболтнув бутылкой, сосед стал подниматься от ручья.
Гнедых вернулся к своему балагану и, захватив жестяную кружку, картошку, сало и хлеб, отправился вечеровать к Алексею Антиповичу.
В густеющем лесном сумраке под висящим на толстой сырой палке котелком уютно плясали язычки огня, быстро поедая сухие ветки тальника. Такой костер почти не давал углей и поэтому был непригоден для долгого обогрева, зато позволял быстро сварить кулеш или вскипятить воду для чая.
Покосники негромко стукнулись жестяными кружками, и от холодного, как слеза чистого первача по всему телу стало разливаться приятное тепло. Антон и Алексей захрустели огурцами. Несколько минут они молча, с аппетитом отработавших день мужчин закусывали хлебом и салом.
– Ну вот, слава Богу, и косить начали! – первым прервал молчание Алексей Антипович. – Травы в этом году добрые! Еще бы картошка уродилась, и тогда зимовать не страшно. Мы все хоть и на заводской работе, а все равно от природы зависим!
– У меня еще дед любил повторять, что наши мужики одиннадцать часов в день – рабочие, а остальное время – крестьяне! – согласился Антон.
– Оно, конечно, так, только у нас на Урале с чистого крестьянского труда сыт не будешь – земля не та! – Алексей Антипович достал кисет и стал неспеша вертеть самокрутку. – Я по молодости работал в Воронежской губернии, мать у меня из тех мест, вот там – земля, так земля, чернозем! Палку в землю воткни – и она прорастает!
– Ну и как у них сейчас там? Многих на войну забрали?
– Да! Двоюродный брат писал, что как в прошлом году царь мобилизацию объявил, то которые и сами просились. Говорит, что в деревнях да по хуторам людей много стало, а земли свободной нет, вот мужики и не знают, куда себя девать. В город ехать – ремесло надо какое-нибудь знать, на завод или фабрику кого попало, сам понимаешь, не берут! А тут война! Ну и мужички, кто помоложе да посмелее, и пошли! Племянник мой тоже пошел, деньги уже родителям присылал, они на них патефон купили!
– Да… – задумчиво произнес Антон. – А ведь с нашего завода мало кого взяли!
– Говорят, что царь военному министру велел в первую голову крестьян набирать, а мастеровых пока не трогать!
– Надолго ли это «пока»? – Антон тоже полез за кисетом. – Ты Артура Батыева видел?
– Две недели назад видел его пьяного на базаре, на костылях еле шкандыбает. Мужики говорили, что он какие-то жуткие вещи рассказывает, они их батыевыми сказками называют!
– Истории он и вправду невеселые рассказывает, но вралем Артур раньше никогда не был, и я ему верю! – Антон потянул из костра тлеющую с одного конца веточку и прикурил от нее.
– Он вроде в вашем цеху раньше работал? – уточнил Алексей Антипович.
– В нашем, – подтвердил Антон. – Сначала, как пацаном пришел, так до действительной службы со старым Михеичем работал. Потом, как из армии вернулся, еще два года отработал. Ну а прошлым летом, как мы германцу войну объявили, его опять забрали.
– Ну и что, Батый рассказывает, как он ногу потерял?
– Говорит, что их прямо с Урала куда-то в Германию отправили. Первую неделю наши наступали и почти без боя немецкие городки занимали. Германцы вроде как не ожидали, что мы на них попрем, ну наши офицеры и раздухарились, что все так легко получается. А потом немцы с силами собрались и ка-ак дали по нашим! Батый говорит, что никто из наших генералов ничего и понять-то толком не успел. Только немцы принялись из пушек стрелять, а пушки у них такие, что за несколько верст бьют и даже не видно, где они стоят! Вот под такой выстрел Артур и угодил. Видимо, еще дешево отделался, потому что его увести успели, а через несколько дней после этого всех, кто там стоял, окружили и кого перебили, а кого в плен увели. Наш главный генерал, чтобы в плен не попасть, застрелился!