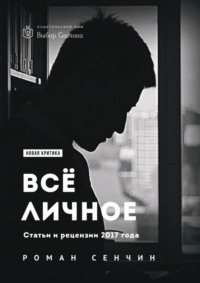Czytaj książkę: «Все личное. Статьи и рецензии 2017 года», strona 4
Между котельной и подъездом
Илья Константинов. Мятежник. М.: ПЕНТА, 2016
Очень трудно, а может, и невозможно определить рамки, разделяющие документальную прозу и художественную, сказать, что вот это фикшн, а это нон-фикшн. К тому же между ними возникли и довольно бурно развиваются (впрочем, возникли, наверное, еще на заре литературы, но в последнее время активно вводятся в литературоведение) not fiction, faction…
Может, и не нужно делить, определять, хотя это в природе читателя – ему хочется знать, было ли это на самом деле или автор всё выдумал; было ли так или не совсем так…
Не стану касаться зарубежных литератур, взгляну на нашу, русскую. Точнее, на крошечный ее временной отрезок. Вот писатели-эмигранты первой волны. Во многом ради денег большинство из них пишут этакие беллетризированные воспоминания о литературной жизни России 00 – 20-х годов. Бунин, Георгий Иванов, Ходасевич… Георгий Иванов особенно активно эксплуатировал эту тему, используя один и тот же сюжет в нескольких очерках, вольно или невольно переиначивая его. И сколько критики, а то и брани, обвинений во лжи выслушал…
Или возьмем оставшегося в Советском Союзе Мариенгофа. Его книгу «Роман без вранья». Множество известных имен, и в первую очередь главный герой – Есенин, узнаваемые из произведений других авторов факты, реалии, но каждый (или почти каждый) исследователь того периода, о каком писал Мариенгоф в своей книге, отшатнется в негодовании, если вы заговорите с ним о «Романе без вранья», закричит тонким от возмущения голосом: «Это – враньё»! Вранье без романа!» Да и современники встретили книгу Мариенгофа более чем враждебно – автор на долгие годы стал изгоем.
Или вот сверстник Иванова и Мариенгофа Валентин Катаев, которому довелось дожить до вегетарианских времен так называемого застоя, а вернее – до старости, когда опасаться было уже не очень нужно. И он выплеснул несколько главных, по моему мнению, произведений своей жизни. В том числе и роман «Алмазный мой венец», где под прозрачными псевдонимами, а точнее прозвищами, вывел многих писателей 20-х годов. И тоже попал под каток обвинений во лжи, хотя свидетелей описанных (или выдуманных) событий к тому времени практически не осталось. Возмущались дети и внуки легко узнаваемых прототипов, почитатели, литературоведы. (Позднейшие исследования доказали, кстати сказать, что почти всё Катаевым взято из действительности, а не порождено старческим воображением.)
А вот Василий Аксенов, на закате жизни написавший роман «Таинственная страсть» о своих современниках-литераторах. Тоже обвинения, скандалы, издательские купюры без ведома автора, находящегося, впрочем, к тому времени в бессознательном состоянии… Новую жизнь скандалу дала экранизация «Таинственной страсти», где сценаристы поработали более чем вольно…
Но – главное. Читать все эти произведения интересно, интереснее любой, даже самой талантливой беллетристики, самой глубокой и умной художественной прозы… Известные прототипы, или тени известных, известные приметы времени, обстоятельства, многие ситуации, и всё это документальное (или же псевдо-документальное) описано художественным языком.
О политике таким же методом написано значительно меньше, чем о творческом мире. Хотя интерес к политическим процесса, к фигурам, участвующим в них куда больше, чем к литературному процессу, богеме. Может быть, это можно объяснить тем, что изнутри о политике писать по существу некому – или писательского дара с гулькин нос, или страшно рассказать обо всем начистоту (а тем более правдоподобно пофантазировать на тему действительно произошедшего). Даже мемуары политики-пенсионеры пишут по большей части настолько сухие и пресные, столького не договаривают, что возникает вопрос: а зачем написали-то?
…После этого длиннющего, но, как мне кажется, оправданно длиннющего, введения перейду к сути – расскажу о книге Ильи Константинова «Мятежник».
Думаю, многие запомнили этого бородатого депутата Верховного Совета России 1990—1993 годов, одного из лидеров обороны Белого дома в октябре 93-го…
Судьба Константинова типична для социально активного человека тех первых лет так называемой «новой России» – России, во многом насильственно брошенной в начальную стадию капитализма со всеми ее ужасами и озверением.
Перестройку он встретил кочегаром одной из ленинградских котельных. Вошел в круг радикальных демократов – Марины Салье, Анатолия Собчака, Галины Старовойтовой, – а через неполные пять лет упоминался в СМИ исключительно в одном ряду с Макашовым, Баркашовым, Анпиловым… Ночь на 5 октября встретил в случайном подъезде, куда забились бывшие защитники Дома Советов…
События этих пяти лет – между котельной и подъездом – и составляют содержание романа-хроники «Мятежник», занимающего основной объем одноименной книги.
Это ни в коем случае не мемуары, а действительно роман (ну, может быть, если судить слишком строго, – повесть). Повествование ведется от первого лица, главного героя зовут так же, как и автора, среди персонажей есть Ельцин, Руцкой, Хасбулатов, Макашов, Немцов, Зюганов, Лимонов, но язык вполне художественный, много прямой речи, есть лирические отступления, находится место и сатирическим штришкам, самоиронии.
Наверняка историки и очевидцы тех событий найдут в романе Константинова неточности, но, на мой взгляд, это вполне исторически достоверное произведение. А главное, это исследование процесса изменения восприятия людьми того, что происходило в стане и со страной, отношения к главной надежде демократов (а демократами в конце 80-х были чуть ли не все) Борису Ельцину. Константинов проводит исследование на себе – защищавшем Дом Советов с Ельциным внутри от ГКЧП в августе 1991-го, а в сентябре – октябре 1993 года – того же Дома Советов от Ельцина и его сторонников…
Не стану пересказывать сюжет «Мятежника», спойлерить, как говорится. Надеюсь, у книги будет читатель, она этого достойна. Тема, конечно, тяжелая, но читается легко, с увлечением. Да и само время тогда было увлекательным – страшным и увлекательным. Иногда даже не верилось, что всё это происходит на самом деле, в реальности…
Что называется, для затравки, приведу два отрывка из романа.
Вот о первом за много десятилетий явлении триколора на официальном мероприятии (на дворе май 1990 года), который через год с небольшим станет государственным флагом России:
«…Двое депутатов-москвичей, из числа демократов, установили на своих столиках трехцветные бело-сине-красные флаги времен Российской империи.
– Позор! – кричал в микрофон кто-то из «Коммунистов России», – в зале заседаний Съезда народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики я вижу флаги власовцев – пособников фашизма, предателей русского народа. Требую удалить фашистскую символику из зала!
– Прошу убрать постороннюю символику из зала, – не слишком уверенно затараторил председательствующий.
– Это флаг не пособников фашизма, это флаг государства российского, – горячился один из москвичей. И, между прочим, это флаг Российской республики, существовавшей с февраля по октябрь 1917 года; республики, уничтоженной в результате кровавого большевистского переворота!
– Да что с ними разговаривать, – дюжий коммунист бросился к флажку, пытаясь его сорвать.
– Убери руки, – возвысил голос бородатый демократ.
Началась небольшая свалка, в которой флажки удалось отстоять.
Борис Ельцин, сидевший с каменным лицом среди депутатов Свердловской делегации, будущий владыка всея Руси, казался совершенно безразличным к происходящему; взгляд его был устремлен куда-то вперед, в сторону председательского места, которое он мысленно готовился взять».
А это очень яркий пример лабиринта власти… Герой романа осенью 1991 года возвращается из поездки в Северную (территория России) и Южную (территория Грузии) Осетии с пакетом документов, которые передали ему в Цхинвале для президента РСФСР Ельцина. Докладывает Виктору Илюшину, помощнику Ельцина:
«Как раз в тот момент, когда я находился в Цхинвали, состоялось заседание Верховного Совета Южной Осетии, на котором был принят целый ряд важных решений. Я привез оттуда документы.
Илюшин молчал, не проявляя ни малейшего интереса к моим словам.
– Там обращение в Президенту России, личное письмо председателя Верховного Совета Гассиева, справка о сложившейся ситуации, подготовленная военными, другие секретные документы, – я положил пакет с документами на стол, перед Илюшиным. На конверте значился гриф «Совершенно секретно» и крупным шрифтом: «Президенту РСФСР Ельцину Б. Н. Лично, в собственные руки».
Илюшин искоса посмотрел на конверт и осторожно отодвинул его от себя подальше:
– Напишите Борису Николаевичу записку на депутатском бланке с изложением сути дела. Я передам. А пакет пока заберите». <…>
В назначенное время я вновь был в приемной. Не говоря ни слова, Илюшин протянул мне мою записку, на которой рукой Ельцина красным карандашом было начертано: «Разобраться Руцкому». <…>
Руководитель секретариата Руцкого Алексей Царегородцев <…> не хуже него (Илюшина. – Р. С.) понимал в тонкостях бюрократического этикета:
– Александр Владимирович эти бумаги не примет, – категорично заявил он, повертев в руках пакет.
– Но ведь президент поручил!
– Вы видите, что написано на конверте: «Ельцину в собственные руки». Вице-президент не имеет права его вскрывать.
– А вы понимаете, что там идет война?
– Тем более! Не впутывайте Александра Владимировича. У него и без того неприятностей хватает: чего только на него не вешают, как дело гиблое – сразу Руцкой! Написано: «Ельцину», вот Ельцину и вручайте.
<…> Пакет жег мне руки, и я поспешил к Бурбулису, в то время – третьему лицу в официальной российской иерархии. <…>
– Вскрывать не имею права. И звонить Борису Николаевичу по этому вопросу не буду, он уже в курсе, – вяло отреагировал он.
<…> И вот я снова в пахнущем кофе и табаком большом кабинете Хасбулатова. Руслан Имранович спокоен и даже несколько ироничен:
– Хе-хе! – тихо хмыкнул он, выслушав рассказ о моих хождениях по президентским кабинетам. – Такова техника безопасности власти. Ну ничего, не расстраивайся, я тебя в это дело впутал, я и выпутаю. Мы этот пакет сожжем, не вскрывая.
– Как сожжем? – не понял я сначала.
– Так, спичкой… Никакого риска! Пойти, Илья, – он резко перешел на серьезный тон, – у нас нет другого выхода: вскрывать нельзя, хранить нельзя, выбрасывать нельзя и отправлять обратно – недипломатично. Сожжем, не вскрывая, и заактируем. При свидетелях. Согласен?
Разочарованно пожав плечами, я кивнул в знак согласия. Вскоре в туалетной комнате исполняющего обязанности Председателя Верховного Совета РСФСР весело заиграло пламя небольшого костерка, в котором сгорели не только южноосетинское «Обращение к президенту и народу России» и прочие совсекретные документы, но и мои последние политические иллюзии».
После Беловежского соглашения и начала «шоковой терапии» Константинов и часть демократов уходят в оппозицию не столько Ельцину, сколько его правительству. К оппозиционерам присоединяются сначала «умеренные» коммунисты и «не оголтелые» националисты, а потом и радикальные… В итоге вице-президент Ельцина Руцкой и большинство депутатов оказались против дальнейших шагов ельцинского правительства, не подчинились противоречащему конституции указу 1400, и Верховный Совет был разогнан силой.
Многие недавние соратники Константинова из демократического лагеря, вовремя перешедшие к Ельцину или хотя бы поведшие себя тихо в те дни 1993-го, были избраны в Государственную думу, получили высокие посты, помощь в бизнесе, он остался, в общем-то, не у дел. Для одних с клеймом мятежника, для других – как честный человек.
…Несколько слов о рассказах. В каком-то смысле они дополняют роман. В том смысле, что мы лучше можем узнать самого героя «Мятежника», его родословную, город Ленинград, где он родился и вырос, сформировался… В большинстве своем это крепкие вещи. Некоторые, правда, слишком коротковаты, напоминают миниатюры и зарисовки, хотя ничего страшного в этом нет.
После «Мятежника», где фабула стала мне ясна после первых пяти-семи страниц, почти все персонажи были известны до романа, и интересовал особый взгляд автора, стилистика изложения, я читал рассказы как прозу с большим интересом.
Впрочем, выделю рассказ, тоже по материалу очень мне близкий, – «Братство народов». В нем о межнациональных драках в общежитии одного из ленинградских ПТУ, да и вообще о быте пэтэушников. Действие происходит в первой половине 80-х. Герой рассказа устраивается воспитателем в это общежитие и погружается в настоящий ад. Тюремные порядки, воровство, группировки русских, дагестанцев, туркменов… Написано удивительно сильно, причем без патетики и гротеска.
А почему рассказ мне близок… В 1989 году после окончания школы я поступил (правда, экзаменов никаких не было) на годичные курсы в одно из строительных ПТУ Ленинграда. И там было всё точно как в рассказе Константинова. Даже пейзаж – тот же: «Общежитие строительного ПТУ, где мне предстояло работать, располагалось на окраине города, в самом конце длинной, застроенной панельными домами улицы, напротив конечной остановки одного из трамвайных маршрутов. Там, собственно говоря, в то время Ленинград и заканчивался: в полукилометре от нашего здания начинался самый настоящий лес…» Один в один конец улицы Народной, где находилось наше училище; только у нас общежитие было пятиэтажное, а в рассказе Константинова девяти… Но неужели подобное творилось не в одном училище Ленинграда?.. Да и Москвы, и других городов Союза…
Вот такой длинный текст получился. С единственной целью – заинтересовать потенциального читателя книгой замечательной прозы Ильи Константинова.
Январь 2017
Я просто хочу быть свободным, и точка
Об Илье Кормильцеве я узнал, как и большинство, в связи с «Наутилусом Помпилиусом» – в то время, когда эта рок-группа обрела первую, еще не грандиозную, но стойкую среди меломанов известность. Конец 1986 года, альбом «Разлука» с «Праздником общей беды», «Ален Делоном», «Эта музыка будет вечной», «Казановой», «Скованными одной цепью»…
Я делал запись альбома с «оригинала» – кассеты, имеющей под футляром отпечатанную на пишущей машинке бумажку с названиями песен, фамилиями участников. И отдельно был указан автор текстов почти всех песен – Илья Кормильцев.
Честно говоря, «Наутилус Помпилиус» («Нау») не входил в число главных для меня, да и большинства тех, с кем я общался на почве рока, групп, по причине, может быть, для кого-то диковатой: слишком профессионально. Но в советском роке (понятия «русский рок» тогда не существовало), для нас, слушателей, самым важным был не профессионализм, а нечто близкое, родное, и даже примитивность исполнения, простота текстов трогала больше, чем отточенность и поэтическая сила.
К тому же «Наутилус» нарушал, наверное, важнейший, хотя и неписаный закон рок-музыки: поет тот, кто написал текст песни. В этой группе тексты – на самом деле, зачастую настоящие стихотворения, – писал в основном тот, кто не пел и не играл… В этом плане «Наутилус», конечно, выбивался из общей рок-среды. Нарушение неписаного закона уводило группу в сторону социальной эстрады, которая в годы перестройки была довольно популярна.
Из вышенаписанного может сложиться впечатление, что «Наутилус» я недолюбливал. Да нет, ценил, имел все магнитальбомы того времени, а потом бегал в поисках виниловых пластинок. Помню, первую пластинку, где на одной стороне были песни «Нау», а на другой «Бригады С», купил в магазине совхоза «Победа» (такая вот перекличка с песней Башлачева «Грибоедовский вальс») что километрах в пятидесяти от моего родного Кызыла…
Служа в армии, я раздобыл – попросил прислать ленинградских приятелей – сборник стихов Ильи Кормильцева и напевал своим голосом, на свою мелодию:
в нашей семье каждый делает что-то
но никто не знает что же делают рядом
такое ощущенье словно мы собираем
машину которая всех нас раздавит
наша семья это странное нечто
которое вечно стоит за спиною
я просто хочу быть свободным и точка
но это означает расстаться с семьею
кто здесь есть? брат сестра тесть!
смотрите на меня – я иду поджигать
в пижаме и с нелепым огнем
смотрите на меня хотя бы потому
что я просто иду
я иду поджигать наш дом
Кстати, точек и запятых в сборнике не было. Для меня такое не стало открытием – еще в собрании сочинений Маяковского, ребенком, я натыкался на подобное, – но как это правильно, давать свободу строкам. Даже в прозе знаки препинания нередко мешают, а уж в поэзии – почти всегда. И многие поэты, кстати, их не расставляли. За них это делали редакторы, корректоры…
В середине 90-х мой – да и не только мой – интерес к «Нау» упал почти до нуля. Впрочем, как и к року в целом. Началась взрослая жизнь, совпавшая с безработицей, безденежьем. Нужно было бороться за существование… Как-то без эмоций я узнал, что группа распалась и воспринял это без печали – распады групп происходили постоянно.
Казалось, Илья Кормильцев остался там, в моей юности, автором текстов нескольких десятков песен, которые я иногда переслушивал на уже начавшем тянуть старую пленку магнитофоне (проигрыватель и дорогущие некогда пластинки были давно заброшены).
Но Кормильцев явился как переводчик. Многие произведения тех, кем я зачитывался в конце 90-х и в 2000-е были переведены Кормильцевым. Уэлш, Керуак, Паланик, Берроуз, Ник Кейв, Том Стоппард, Бегбедер, Кроули, Хоум… Не владея знанием иностранных языков, я не могу судить, насколько Кормильцев придерживался оригинала, но читать его переводы было увлекательно. Мир за пределами России был показан хорошим русским языком. Чего не могу сказать о большинстве нынешних переводов.
Кормильцев сделал и отличный перевод «Заводного апельсина», который я уже много лет ищу, чтоб перечитать, но так и не могу найти…
А третьим воплощением Ильи Кормильцева для меня стало его книгоиздательское творчество.
Это было действительно творчество. «Ультра. Культура»… Она просуществовала года четыре, а кажется, успела вместить в себя (или же породить) целую литературную эпоху…
Небольшие независимые издательства – великое дело. Как и независимые киностудии, звукозаписывающие фирмы, театральные студии… Именно в них чаще всего и можно прочесть, увидеть, послушать настоящее, ценное.
В Москве, по крайней мере, и в 90-е, и в 2000-е, и теперь было и есть немало небольших и независимых издательств. Но в основном они настолько небольшие, что книг их почти не видишь, а те, что иногда попадаются, напоминают брошюры, самоделки. По-настоящему заметно и влиятельно разве что «Ад Маргинем» и, короткое, но яркое время, была «Ультра. Культура».
Книги, изданные Кормильцевым, сразу привлекали к себе внимание. Внешним видом, так сказать. (Отдельные томики до сих пор можно встретить в магазинах, и глаза за них цепляется.) Пестрые, призывающие к себе.
И подбор авторов… Впрочем, слово «подбор» не совсем подходящее – Илья сотоварищи черпали то, что вряд ли (или наверняка) не могло быть выпущено в больших издательствах. Что-то из-за коммерческой бесперспективности, что-то по эстетической или идеологической неприемлемости, а то и из страха, что издателей потащат в суд. Тем более что после истории с «Голубым салом» Владимира Сорокина, «Пилотажами» Баяна Ширянова риск испортить репутацию, а то и попасть на крупный штраф стал вполне реальным.
Не буду перечислять книги зарубежных авторов, приведу фамилии лишь нескольких российских литераторов, издававшихся «Ультра. Культурой». Часто совершенно разных по взглядам (по крайней мере в то время), но находившихся на грани, крайних… «Ультра».
Эдуард Лимонов, Андрей Бычков, Андрей Родионов, Александр Проханов, Борис Кагарлицкий, Станислав Белковский, Алина Витухновская, Гейдар Джемаль, Всеволод Емелин, Алексей Цветков…
Кормильцев издал первую книгу Германа Садулаева «Я – чеченец!» и выпустил «Скины: Русь пробуждается»… Слово «либерал» сейчас ругательное, да поведение людей, называющих себя либералами, нередко напоминает деятельность каких-нибудь тоталитаристов… Кормильцев много ругался в интернете, разорвал отношения с Вячеславом Бутусовым, отбивался от нападок то леваков, то националистов. Но это не мешало его по-настоящему либеральной издательской политики. В «Ультра. Культуре» могли высказаться приверженцы всех взглядом. И за эти высказывания уже после смерти Кормильцева издательство подвергалось судебным преследованиям. Может, и закрылось вскоре не из-за финансовых трудностей, а по иным причинам…
Мне особенно памятны два коллективных сборника «Ультра. Культуры» – «Последние пионеры» и «Поколение «Лимонки»… Я тогда уже во всю публиковался, были даже книги, но в издательство Кормильцева пойти всё не решался. Казалось, слишком круто. Надеялся, что или он, или его сотрудники заметят мои вещи (антибуржуазные, протестные) и пригласят… Читая тексты из этих сборников, я вздыхал: классная книга, но неполная… (Думаю, такие мысли литератору простительны.) Успокаивал себя мыслью, что свой первый роман, который тогда писал, «Лед под ногами», отнесу в «Ультра. Культуру». Но не сбылось…
Знаком лично я с Кормильцевым не был. Видел его несколько раз на рок-концертах в конце 80-х, а потом в Москве, в 2000-е.
Осенью 2003 года «независимые издательства» то ли не пустили на книжную выставку на ВДНХ, то ли аренда стендов была непомерной. И они сняли на день или два самолет возле 57-го павильона. У входа, как стюард, посетителей встречал пышущий здоровьем и энергией Илья Кормильцев. В салоне на узких столах были разложены книги, на самолетной кухоньке были водка, бутерброды… Получился такой уютный клуб – разговаривали, листали книги, выпивали.
В январе 2004-го в старом, еще в Большом Козихинском переулке, помещении книжного магазина «Фаланстер» состоялась презентация сборника «Последние пионеры»… Вернее, не состоялась. Собралось человек пятьдесят, в том числе не так давно вышедший на свободу Эдуард Лимонов, и тут здание буквально окружили милиционеры. Рота, не меньше.
Кормильцев пытался доказать, что это литературный вечер, будут звучать стихи, проза, но собравшихся заставили разойтись. Помню его даже не обиду, не злобу, а – растерянность и недоумение. Через три года я снова увидел его таким…
Телевизор я всегда смотрел редко, с интернетом стал ладить вообще недавно. Предпочитал не загружаться новостями, не захлебываться в информационном потоке… Но однажды, включив телевизор, наткнулся на лежащего, держащегося за спинку кровати Кормильцева. Постаревшего, растерянного. Он говорил журналистам, что это не хоспис, а диспансер, отсюда выходят… Из дальнейших комментариев новостников, я узнал, что у Кормильцева неожиданно обнаружился рак позвоночника последней степени… Через несколько дней он умер.
…Те, кого ты пусть не лично знаешь, но наблюдаешь со своей ранней юности уже что-то сделавшими, чего-то добившимися, обычно кажутся тебе намного взрослее. И тут, взглянув на годы жизни Ильи Кормильцева, я с удивлением понял, что он был всего на десять с небольшим лет старше меня, и прожил-то совсем мало. Сорок семь лет. И – пусть это звучит как штамп – успел очень много. И очень много оставил. Думаю, на долгое время, еще не на одно поколение.
«Наутилус Помпилиус» я по-прежнему слушаю изредка. Впрочем, многие песни помню наизусть. Заучились без усилия. И одна строчка из песни-стихотворения «Наша семья» приходит всё чаще и чаще, щекочет язык и душу: «я просто хочу быть свободным и точка». Мало кому удается воплотить это желание. Илье Кормильцеву, не затворнику, не какого-нибудь монаху искусства, а до крайности общественному человеку, уверен, удалось.
Февраль 2017
Darmowy fragment się skończył.