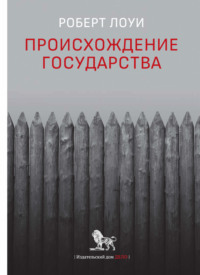Czytaj książkę: «Происхождение государства», strona 3
Этот комбинированный эффект воинственности и управленческих способностей, особенно в комбинации с сильной личностью, хорошо иллюстрируется примерами из истории Африки. Было бы ошибочным предположение, что негры Судана и негры-банту одинаково следовали политическому образцу таких обширных монархий, как Уганда, где несколько миллионов человек подчинялись одному суверену. Несмотря на то что на Африканском континенте такие случаи удивительно часты, в отличие от партикуляризма Океании и Американского континента, всей шкале величин, обнаруженной в Америке, может быть найдено соответствие в Африке. Например, у народа фанг, племени народности банту, живущего на юге Камеруна, в Испанской Экваториальной Гвинее и северных районах Французского Габона политической единицей является деревня с двумя рядами хижин и домом собраний для мужчин, в котором совершаются все общественные действия. У них нет ни короля, ни даже в строгом смысле вождя, а есть лишь нечто вроде старейшины, самого богатого человека в обществе, на самом деле не обладающего какой-либо существенной властью17. По контрасту с этим у коса и других банту Юго-Востока есть конституционные монархи, связанные с населением в десятки тысяч человек узами безоговорочного повиновения и трогательной лояльности, с одной стороны, и нежной заботы о благополучии подданных – с другой. Как на этом фундаменте может быть построена впечатляющая нация, иллюстрирует хорошо известная история зулусов. Примерно до 1810 года они были мелкой группой, ни в чем не превосходившей соседние кафирские племена. Примерно в начале XIX века незаконнорожденный сын инкоси (вождя) зулу Сензангакона по имени Чака, поссорившись со своим отцом, бежал к Дингисвайо, инкоси Мтетвы. После смерти Сензангакона Дингисвайо сверг и убил назначенного им наследника и поставил на его место Чаку, который таким образом стал монархом по милости своего патрона, но после смерти Дингисвайо обрел независимость. После ожесточенной борьбы за власть Чака стал доминирующей фигурой в политике Южной Африки, подчиняя племя за племенем, пока его владения не распространились до залива Делагоа (бухты Мапуту), охватив территории десятков ранее независимых племен. Последовательность шагов, которые предпринял Чака на пути создания этого королевства, выглядели следующим образом. Во-первых, Чака оказался военным гением, произведя революцию в традиционной тактике южных банту, заменив тростниковые копья укороченными тяжелыми ассегаями (иклва) со стальными наконечниками и заставив свои войска двигаться сомкнутым строем. Во-вторых, он усовершенствовал идею, уже развитую Дингисвайо, а именно содержание постоянной армии, насчитывавшей, по разным оценкам, от 12 000 до 50 000 человек и разделенной на полки по 2000 человек в каждом. Но самое главное – Чака разработал метод включения в свое королевство побежденных племен. Их вождям обычно разрешалось осуществлять власть в качестве заместителей Чаки, за исключением тех случаев, когда они могли быть заменены королевскими фаворитами. Женатых мужчин иногда убивали, но холостяков призывали в армию, а женщин добавляли в королевский гарем. Некоторые отдаленные группы на самом деле не входили в объединенное королевство, а просто становились его данниками, как в случае с народом тонга. Подробности правления Чаки, впрочем, хотя и представляют исключительный интерес, не касаются цели нашего исследования. Очевидно, что его успехи были связаны не только с воинственным характером народа, но и с его способностью организовывать как свою военную машину, так и то население, которое она подчиняла своему владычеству18.
Не претендуя на универсальность собранных здесь примеров, мы можем сказать, что они делают понятным тот прогрессивный рост в размерах, который был характерен для истории многих государств, и указывают на начальные ступени в этом развитии.
II. Касты
Если верить такому проницательному социологу, как профессор Франц Оппенгеймер19, проблема происхождения государства является смежной с проблемой происхождения каст. Он утверждает, что для всех известных истории государств характерно господство одного класса над другим – в целях экономической эксплуатации. Возможно, конечно, что в будущем эта характерная черта может исчезнуть, но вызванные этим изменения будут настолько фундаментальными, что сделают, скорее всего, старое понятие государства неприменимым и нам придется придумать какое-то новое название, например такое, как Freibürgerschaft (свободное содружество) для получившегося типа гражданской организации. В то же время более простые нестратифицированные формы общества, представленные, скажем, более примитивными народами земного шара, охотниками и земледельцами, являются примерами, с точки зрения Оппенгеймера, всего лишь анархии, предшествовавшей собственно государству. Оппенгеймер довольно подробно обрисовывает ход эволюции социальной организации общества, во всяком случае для Старого Света. Когда кочевники-скотоводы вступают в контакт с оседлыми земледельцами, они сначала занимаются примитивным грабежом и резней. Позже, однако, просвещенный эгоизм побуждает их щадить побежденных, позволяя им зарабатывать средства к существованию и становиться объектами более регулярного и рационального ограбления. Может возникнуть постоянная система уплаты дани, когда земледельцы приносят плоды своих трудов в шатры кочевников. Еще позже кочевники оседают на земледельческой территории, устраивая повсюду военные колонии и предоставляя своим данникам некую степень самостоятельности в отношении своих внутренних дел. Вероятно, представители завоевателя организуют постоянные резиденции в поселении каждого земледельческого вождя. Наконец, две изначально отдельные группы сливаются в единую национальную единицу: воинственные завоеватели могут получать все что пожелают от подчиненной касты, но сами, в свою очередь, защищают их от чужой агрессии. Общность языка способствует развитию сентиментальных отношений и последующей интеграции стратифицированного целого, но в то же время классовое расслоение подпитывается мифом завоевателей об их природном превосходстве.
Эта теория не только имеет определенное правдоподобие a priori, но и может быть подтверждена многочисленными фактами. В свете наших нынешних знаний могут быть представлены даже более красноречивые свидетельства, чем Оппенгеймер смог почерпнуть из «Народоведения Ф. Ратцеля, хотя необходимо сделать оговорки в отношении их интерпретации. Рассмотрим некоторые из этих свидетельств.
В Западном Судане существует любопытно стратифицированная группа обществ. Манде и фульбе не просто делятся на патрицианскую и плебейскую касты, но состоят из целого набора ступенчато организованных классов. Благородный класс в соответствии с обсуждаемой теорией состоит из чистокровных завоевателей страны. Противоположной крайностью являются кузнецы, которых набирают из числа чистокровных аборигенов, по-видимому, имеющих статус простолюдинов. Местная знать, с другой стороны, превратилась в касту менестрелей: они стали доверенными лицами вельмож королевства, занимаются сочинением поэм, воспевающих деяния их покровителей, временами даже пугая последних своей осведомленностью в их семейных тайнах, а также выступают воспитателями юношей благородных кровей. В дополнение к своему искусству они зарабатывают ремеслом кожевников. Крепостные крестьяне были потомками связей между завоевателями и местными женщинами; они были привязаны к земле, иногда до тысячи человек могли подчиняться одному члену правящей касты, но сами обладали правом держать рабов и могли рассчитывать на полное освобождение посредством соответствующей формальной процедуры. Если верить Фробениусу, аристократы являются потомками воинственного племени скотоводов, которые захватили и поработили земледельческий народ и впоследствии развили все признаки касты, соперничая с рыцарями средневековой Европы в гордыне и неукоснительном следовании условному кодексу чести. Идеальный аристократ должен быть красивым, щедрым и смелым; он никогда не воспользуется бесчестным преимуществом над противником на поле боя, и, хотя ни один благородный человек не может по-плебейски завладеть чужим имуществом без ущерба для его чести, угоны скота в больших масштабах были явно в его духе, и от него ожидали, что он будет одурманивать себя медовым пивом или пшенным отваром. Короче говоря, по отношению к средневековой Европе мы могли бы сказать: “Tout comme chez nous” («Все как у нас» – фр.)20.
Нет необходимости отдельно указывать на те детали в приведенном примере, которые укладываются в схему Оппенгеймера. Однако одна любопытная аномалия должна привлечь наше внимание. Кузнецы, чистокровный аборигенный класс, не «эксплуатируются», а, наоборот, получают продукты земледелия от мандинго, и нам прямо сообщают, что их не столько презирают, сколько боятся.
То, что это явление не уникально, видно из данных восточноафриканских исследований, которые снабжают нас даже избыточно богатыми материалами, относящимися к этой теме. Например, у сомалийцев Африканского Рога есть не менее трех отдельных классов изгоев. Однако один из них – иибир не только не угнетается господствующим населением, но фактически живет в праздности, получая дань с каждого сомалийского отца семейства при рождении ребенка и с каждого жениха в день его свадьбы. Эта странная прерогатива основана на предполагаемых сверхъестественных способностях иибиров, которых боятся, как колдунов, способных накладывать чары, а также потому, что, по слухам, после смерти они исчезают, не оставляя после себя бренного тела. Другую группу составляют томал, или кузнецы, от которых сомалийцы зависят, поскольку только они производят ножи, мечи, копья и топоры. Наконец, мидганы занимаются дублением кожи и охотой. Каждая большая семья держит нескольких из них в качестве прислуги, но они считаются нечистыми, так что брак с ними табуирован, а любой сомалиец, нарушивший этот запрет, низводится до ранга кузнеца21. На примере иибиров явно видна аналогия с суданскими кузнецами, и он служит предостережением против применения экономического схематизма к социальному устройству общества у первобытных народов. Ибо под воздействием чувств или религиозных концепций они, подобно другим человеческим существам, склонны презирать утилитарные соображения.
Скотоводческие племена масаи, проживающие в Британской и бывшей Германской Восточной Африке, напоминают сомалийцев тем, что они поддерживают сложную систему взаимных отношений со своими соседями. Живущие в окрестностях земледельцы банту иллюстрируют начальную стадию эволюции подчиненного класса, согласно теории Оппенгеймера, они вообще не являются частью политии масаи, а лишь подвергаются спорадическим набегам мародерствующих воинов масаи, грабежам и резне. Характерно, что более сильное в военном отношении племя изобретает остроумные рационализации, чтобы оправдать свое поведение. Бог, по-видимому, наделил масаи правом на весь скот в мире. Если бы нехорошие банту мирно отдавали свой скот, можно было бы избежать всех этих неприятностей. Но, увы, они нечестиво цепляются за свое имущество, и, таким образом, их ограбление становится религиозным долгом масаи.
Совсем другой статус у вандоробо, кочующих по территории масаи первобытных охотников-собирателей. К ним относятся с презрением, но используют как шпионов. Помимо этого, они абсолютно свободны от навязывания им любых отношений специфически экономического характера по той простой причине, что скотоводы масаи, полностью отказавшиеся от охоты, не употребляют в пищу никакой дичи.
Наконец, есть класс кузнецов-изгоев, к которым питают презрение даже вандоробо. Предположительно когда-то они были отдельным племенем и в соответствии с этой точкой зрения, вне всякого сомнения, представляют собой прежде всего наследственную, а не профессиональную группу туземцев, ни один член которой не может избежать позора, связанного с его кастой, путем прекращения занятия их традиционным ремеслом. Вместе с тем в исключительных случаях настоящий масаи может выполнять кузнечные работы без обязательной потери статуса, даже если его соплеменники будут временно косо на него смотреть.
Кузнецы живут обособленно, и к ним относятся как к неизбежному злу, их профессиональные способности никоим образом не улучшают их индивидуального положения. Ни один масаи не остановится в хижине кузнеца, и, наоборот, и ни один масаи не женится на дочери кузнеца. Незаменимые продукты профессионального труда изгоев считаются нечистыми и перед употреблением должны быть очищены от скверны путем смазывания жиром. Ночью само слово «кузнец» табуировано, поскольку его произнесение приводит к нападению львов на лагерь. Масаи может безнаказанно убить кузнеца, в то время как даже случайное убийство изгоем кого-то из масаи должно искупаться убийством нескольких кузнецов. В этом случае также появляется изобретательное оправдание жестокого обращения с париями: Бог запретил кровопролитие, а кузнецы, изготовляя оружие, соблазняют людей преступить божественную заповедь. Вся нелепость этой рационализации доходит до нас только тогда, когда мы вспоминаем, что вся организация масаи зависит от действий их воинов и что почет в их обществе зависит почти исключительно от эффективности в истреблении их врагов22.
Хотя вандоробо и кузнецы все еще остаются за пределами того, что можно было бы назвать государством масаи, они, очевидно, имеют более тесные отношения с господствующим народом, чем банту, поскольку, занимая одну и ту же землю, они представляют собой начальную стадию союза со своими угнетателями.
Darmowy fragment się skończył.