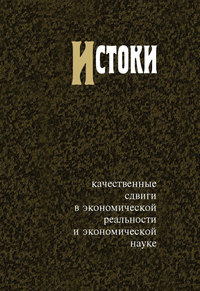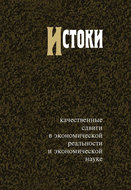Czytaj książkę: «Истоки. Качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке», strona 7
Таким образом, в ходе своего анализа Джевонс указывает на различные «ошибки» потребителей. Некоторые из них совершаются вследствие «причуд» и прочих внешних причин, другие связаны с тем, что потребители неспособны принимать взвешенные решения, третьи отражают неумение индивидов четко оценить удовлетворение, которое можно получить от потребления конкретных благ. Существуют ошибки, связанные с неведением потребителей относительно «истинной» пользы от каких-то благ, и, наконец, самые худшие ошибки происходят от того, что потребители недостаточно высоко оценивают «истинную» пользу от будущего потребления. Джевонс, очевидно, предполагал, что некоторые типы ошибок эмпирически менее важны, чем другие. Так, например, он считал, что последствия «причуд» невелики, а также компенсируются со временем. Однако с другими ошибками, например связанными с распределением потребления во времени, а также с систематической недооценкой некоторых конкретных благ (например, библиотек), нельзя обойтись так просто, так что они, по мнению Джевонса, требуют формального исследования экономистами-теоретиками.
Этот тип ошибок также стал аналитическим основанием для многочисленных рекомендаций Джевонса относительно просвещения потребителей, неправильно тратящих свои средства.
V. Заключение
В ходе анализа экономического выбора и Джевонс, и Менгер различали «правильные» и «неправильные» решения потребителей и описывали те результаты, которые вытекали бы из правильных (ведущих к равновесию) решений для экономических агентов и экономики. Подобному методу сопутствует неоднозначный подход к экономической политике, который, возможно, способствовал некоторому недопониманию общей политической позиции этих авторов.
Оценки потребителя управляют экономической системой у Менгера, если последствия заблуждений и прочих осложнений не существуют, игнорируются или компенсируют друг друга. В случае преобладания цен, которые «правильно» отражают лежащую в их основе реальность – «правильную» оценку благ потребителями, – т. е. «экономических цен», распределение ресурсов будет отражать (правильные) желания потребителей, играющие в экономике верховную роль. Менгер, похоже, предполагал, что рынки стремятся к экономическим ценам, но однозначно писал, что по большей части нельзя считать, что такие цены уже установились205. Его понимание предпринимательских ошибок и других заблуждений служило для того, чтобы отделить экономику реального мира от управляемой потребителем «экономической» модели.
Почти то же самое можно сказать о Джевонсе, которого, как и Менгера, одни считали крайним либералом, сторонником laissezfaire, а другие – приверженцем государственного вмешательства. Хотя в теоретическом анализе Джевонса говорится о равновесном обмене и предполагаемой совершенной информации, он четко писал, что на практике сделки заключаются близорукими, плохо информированными, нетерпеливыми или просто капризными потребителями. Его решительные высказывания в пользу политики laissez-faire в «Теории политической экономии» основаны на предпосылках о наличии у потребителей совершенной информации и рациональности, но таких потребителей нельзя считать репрезентативными для «экономической теории Джевонса» как таковой.
Одно предварительное заключение, которое можно сделать из приведенного здесь сравнения Джевонса и Менгера, вытекает из их разного понимания так называемого движения по направлению к равновесию. И Менгер, и Джевонс считают потребителей близорукими и нетерпеливыми. Но Менгер полагает, что потребители активно стремятся улучшить свой процесс принятия решений, в то время как, по мнению Джевонса, они не способны достичь такого улучшения без образования.
Перевод с английского Н. В. Автономовой
Ф. В. Комим
Джевонс и Менгер: регомогенизация? Жаффе двадцать лет спустя
Комментарий к статье С. Дж. Пирт
Перевод сделан по: Comim F. V. Jevons and Menger Re-Homogenized? Jaf é after 20 years: A Comment on Peart // The American Journal of Economics and So ciology. 1998. Vol. 57. No. 3. Р. 341–344.
В своей работе о регомогенизации Джевонса и Менгера Сандра Дж. Пирт с глубоким пониманием погружается в историю маржиналистской теории. Эта статья должна быть внимательно прочитана и признана самостоятельным аргументом в дебатах о маржиналистском движении. Вначале ее можно понять как попытку произвести переоценку тезиса Жаффе о дегомогенизации Вальраса, Менгера и Джевонса исходя из более тщательного изучения природы экономического человека у Джевонса. В пользу этой интерпретации говорит то, что новизна статьи заключается в том особом значении, которое в ней придается общим чертам теорий Джевонса и Менгера, не получившим должного отражения в работе Жаффе. Однако на самом деле Пирт поднимает вопрос, с аналитической точки зрения отличающийся от темы работы Жаффе, а именно проблему разрыва между теорией и практикой в истории маржиналистского анализа. Обсуждая значение этой статьи, необходимо иметь в виду, что все три тезиса, предложенные историками для оценки истоков маржинализма (гомогенизация, дегомогенизация, регомогенизация), были сформулированы с разными целями.
Тезис о гомогенизации как таковой не был постулирован, но представляет традиционное мнение. Коутс пишет об этом: «Объединенные достижения Джевонса, Менгера и Вальраса в начале 1870-х гг. действительно представляли собой существенный интеллектуальный прорыв в развитии экономического анализа и могут рассматриваться как революционные с точки зрения выводов, если не с точки зрения новизны или скорости распространения»206. Этот тезис применялся либо для того, чтобы выразить концепцию экономической науки как знания, вооруженного инструментами207, либо для того, чтобы провести историографическое разграничение между классической и неоклассической теориями208, либо для того, чтобы выделить предмет и метод экономической науки, выросшей из трудов Джевонса, Вальраса и Менгера209. Общей чертой трех различных версий тезиса о гомогенизации было признание явной прерывности в экономической мысли, связанной с принятием маржиналистского анализа как аналитического метода. Подход, под разуме ваю щий гомогенизацию Вальраса, Джевонса и Менгера, часто также подразумевает, что Менгер стоит особняком в этом триумвирате. К примеру, только игнорируя вклад Менгера, Мировски может утверждать, что «самым серьезным качественным изменением, внесенным “маржиналистской революцией”, было успешное проникновение математического дискурса в экономическую теорию»210. Выделение общих черт у этих трех авторов осуществлялось для того, чтобы решить некоторые из перечисленных выше задач.
Говоря о дегомогенизации маржиналистской теории, Жаффе не только предлагает исследовать различия между трудами Менгера, Джевонса и Вальраса, но и призывает изменить цель историографического исследования так, чтобы должным образом охарактеризовать индивидуальный вклад каждого автора211. Вследствие такого изменения цели – изменения, позволяющего уделить больше внимания теоретическим структурам и влияниям, чем аналитическим инструментам, – Жаффе утверждает, что различия между теориями Менгера, Джевонса и Вальраса важнее, чем то, что их объединяет. О некоторых из этих различий Жаффе уже писал раньше в статье, в которой, вслед за Шумпетером, утверждал, что использование Вальрасом предельного анализа как части модели конкурентного рынка отмежевывает его от двух других «революционеров»212. Поскольку до этого историки уже и так рассматривали Менгера отдельно от Вальраса и Джевонса, в статье 1976 г. Жаффе попытался окончательно сформулировать новую историографическую задачу и привлечь внимание к различиям между Джевонсом и Вальрасом. Его исследования привели к выводу о том, что «не только подход Джевонса разительно отличался от подхода Вальраса, но и отправная точка его анализа была иной»213, – справедливое утверждение в пределах (но только в этих пределах) заданного Жаффе контекста. Принимая это во внимание, аргументы Пирт в пользу регомогенизации нужно понимать не только как общие рамки для оценки вклада Джевонса в маржиналистскую теорию, но также как постановку новой историографической проблемы. С этой точки зрения разногласия между Жаффе и Пирт относительно соотношения теорий Менгера и Джевонса не имеют первостепенного значения. Когда Пирт рассматривает авторов через призму расхождений между теорией и практикой, она исследует иной тезис, в некоторых аспектах несопоставимый с другими утверждениями, основанными на других аналитических задачах. Те аспекты, которые выделяет Пирт, сравнивая Менгера и Джевонса, не совсем совпадают с теми, о которых пишет Жаффе. Жаффе анализирует расхождения между Менгером и Джевонсом по следующим пунктам: подход к структуре потребностей с точки зрения оценки, равновесие, гедонистическая психология, использование математики, понятие причинной связи. Пирт же исследует их сходства в вопросах потребительского поведения, подхода к сложным случаям, разделения теории и практики.
Таким образом, характеристика, которую Пирт дает Менгеру и Джевонсу, напрямую не пересекается с характеристикой, которую дает им Жаффе, и не противоречит ей. К примеру, те аспекты потребительского поведения, которые она подчеркивает, относятся не к общей утилитаристской схеме Джевонса, но к таким проблемам, как близорукость оценки людьми будущих потребностей при принятии межвременных решений, а также неверные экономические решения, принимаемые «необразованными трудящимися классами». Пока все хорошо. Однако из-за того, что она выдвигает новую историографическую проблему, сопоставление «экономических цен» и «цен реального мира» у Менгера и сопоставление «теоретически совершенных рынков» и «рынков на практике» у Джевонса приобретают значение, которое нельзя оценить с точки зрения, принятой Жаффе. В результате Пирт при помощи этого сравнения иллюстрирует тезис о том, что взгляды Джевонса на человеческое поведение были сложнее, чем принято считать, и что некоторые сходные черты теорий Менгера и Джевонса остаются неисследованными, когда историография маржиналистской теории концентрируется на других аналитических задачах. Большее значение, однако, имеет затронутая Пирт тема разделения теории и практики в экономической истории. В более ранних работах Пирт сравнивала Джевонсову идею о том, что средние величины не являются релевантными для объяснения экономических явлений, и то различие, которое Джон Стюарт Милль проводил между теорией и практикой214. В то время как метод Милля подчеркивал значение противоречащих теории фактов и конкретных наблюдений для устранения несоответствий между теоретическими результатами и конкретными аспектами реальности, Джевонс признавал маловажными все те элементы, которые не способствовали установлению закономерностей и паттернов. Пирт объясняет это расхождение отчасти различными предпосылками двух авторов относительно возможности определить четкие законы человеческого поведения, а отчасти разными мнениями о необходимости соотносить теоретические аргументы с конкретными явлениями. В этой статье Пирт, приводя доводы в пользу регомогенизации Менгера и Джевонса, рассматривает позицию Джевонса относительно расхождений между теорией и практикой во многом в соответствии с работой Уайта215. С этой точки зрения статья Пирт скорее является не пересмотром тезиса Жаффе, а возвращением к ее давнему интересу к проблеме разрыва между теорией и практикой в истории экономической науки, который в этой работе выражается через самостоятельный тезис о регомогенизации.
Перевод с английского Н. В. Автономовой
Ф. Фонтен
Менгер, Джевонс и Вальрас: негомогенизация, дегомогенизация, гомогенизация
Комментарий к статье С. Дж. Пирт
Перевод сделан по: Fontaine Ph. Menger, Jevons, and Walras Un-Homogenized, De-Homogenized, and Homogenized: A Comment on Peart // The American Journal of Economics and Sociology. 1998. Vol. 57. No. 3. P. 333–339.
I. Что же, в конце концов, имел в виду Жаффе216, говоря о дегомогенизации Менгера, Джевонса и Вальраса? Первое, что приходит на ум, – это что в какой-то момент они были гомогенизированы и Жаффе пытался вернуть им изначальный статус «негомогенизированных» авторов. Тут возникает новый вопрос: что означает слово «гомогенизация»? Возьмем, к примеру, гомогенизацию молока. В процессе гомогенизации молока молекулы содержащегося в нем жира разбиваются на мельчайшие частицы; суть всего процесса в том, чтобы смешать различные элементы молока в однородную массу так, чтобы сливки не отделялись от молока. Возможно ли, в таком случае, что, используя метафору из области химии, Жаффе пытался сказать коллегам-экономистам, что теории Менгера, Джевонса и Вальраса оказались несправедливо «низведены» до уровня простейших формулировок? Этот подход всегда был популярен при оценке различных школ в истории экономической мысли; он представляет собой хитрое средство отвлечения внимания от собственного вклада автора в экономическую науку. Не использовал ли аналогичную метафору еще Давид Юм? В письме Морелле о другой группе экономистов, а именно о физиократах, он предлагал следущее: «Я надеюсь, что в своей работе вы разгромите их, раздавите их, сокрушите их, оставив от них лишь пыль и золу!»217 На самом деле метафора Юма не может быть приравнена к метафоре Жаффе, хотя и помогает проиллюстрировать последнюю. Действительно, Кенэ, Бодо, Мирабо и прочие давно были гомогенизированы, т. е. смешаны до однородной массы, в которой их возможные различия были не видны. Иными словами, Юм имел в виду, что пришло время превратить физиократов в ничто (а не привести их теорию к простейшей форме), в мелкие частицы, такие как пыль и зола; это скорее пульверизация, а не гомогенизация.
Как выясняется, Жаффе интересовал не столько сам процесс гомогенизации, сколько его результат. Он прекрасно знал, что Менгер, Джевонс и Вальрас были смешаны в однородную массу под названием «маржиналистская революция»218, но не слишком распространялся на этот счет, ограничившись одной лишь краткой, хотя и информативной, ремаркой:
«Преувеличенное значение, которое историки экономической науки придают изобретению инструмента предельной полезности, когда говорят о тройном открытии маржиналистской теории, согласуется с Шумпетеровым определением науки как “знания, вооруженного инструментами”. Слишком узкое толкование этого определения часто используется ими, чтобы отвлечь внимание от собственно знания и привлечь его к инструментам, применяемым для формального структурирования этого знания. То, что само знание важнее, чем инструмент, посредством которого оно создается, нам понятно из того факта, что теоретические построения Менгера, Джевонса и Вальраса, возведенные при помощи сходных вариаций одного и того же инструмента, заметно отличались друг от друга и совершенно поразному повлияли на развитие теоретических моделей, в то время как сам инструмент вообще вышел из употребления»219.
Получается, что целью Жаффе было не столько прояснить природу гомогенизации, сколько подчеркнуть изъяны, связанные с ее результатом. Тому, кто хочет на самом деле узнать что-то из его работы, стоит иметь это в виду, потому что точно так же, как Жаффе не стал рассуждать о процессе гомогенизации, он не удосужился дать определение «дегомогенизации»220. Получается, что призыв Жаффе к дегомогенизации не вполне корректен. Статье Жаффе подошло бы название «Менгер, Джевонс и Вальрас: негомогенизация и дегомогенизация», потому что в его работе содержится два четких утверждения. Во-первых, «дегомогенизация» должна напомнить историкам экономической мысли, что «распространенная практика объединения под одним заголовком Менгера, Джевонса и Вальраса»221 не должна заслонять от них того факта, что Менгер, Джевонс и Вальрас – это три разных автора, каждый с собственными взглядами. С этой точки зрения Жаффе на самом деле выступал не в пользу дегомогенизации, которая должна последовать за неудачной гомогенизацией; скорее он заострял внимание на предпосылке проведения качественных исследований в области истории экономической мысли, а именно на изучении первоисточников. Таким образом, он предлагал подходить к Менгеру, Джевонсу и Вальрасу как к негомогенизированным авторам.
Во-вторых, дегомогенизация связана с одним возможным последствием такого подхода. Различия между авторами могут временами, хотя и не обязательно, быть важнее, чем точки их соприкосновения. В случае Менгера, Джевонса и Вальраса Жаффе четко дал понять, что намерен выяснить, «не заслоняет ли от нас использование единого названия для трех “революционных” новаторских теорий 1870-х гг. тех самых различий, которые по прошествии времени стали казаться намного важнее, чем то, что их объединяло»222. Таким образом, Жаффе предполагает, что дегомогенизация – это процесс, обратный гомогенизации, и что можно, соответственно, дегомогенизировать Менгера, Джевонса и Вальраса примерно так, как можно деконструировать нечто, что было сконструировано.
В своем комментарии я хотел бы указать на то, что нет смысла интерпретировать дегомогенизацию Менгера, Джевонса и Вальраса как попытку восстановить их воображаемое исходное положение негомогенизированных авторов. Иными словами, альтернативой гомогенизации, проиллюстрированной тем, что Жаффе называет «учебниками по истории экономической мысли, построенными по одному стереотипу», является не столько дегомогенизация, сколько негомогенизация, непосредственное изучение первоисточников, позволяющее признать и акцент на различиях между Менгером, Джевонсом и Вальрасом – дегомогенизацию, и акцент на их сходных чертах – гомогенизацию как две отдельные установки при чтении этих авторов.
II. Пирт соглашается с Жаффе в том, что нужно подходить к Менгеру, Джевонсу и Вальрасу как к негомогенизированным авторам:
«Я не хочу сказать, что Вальраса, Джевонса и Менгера надо регомогенизировать. Но внимательно изучая первоисточники… можно обнаружить у Джевонса куда более сложные воззрения на человеческое поведение, чем те, что ему обычно приписываются. Эти воззрения имеют много общего с предпосылками теории Менгера: предрасположенностью человека к развитию, принятием им решений в условиях неопределенности, важной ролью ошибок, а также значением фактора времени при принятии решений»223.
Однако она также возражает Жаффе: она считает, что «попытка дегомогенизировать Джевонса, Вальраса и Менгера, возможно, привела к тому, что некоторые ключевые общие черты теорий… Джевонса и Менгера оказались в тени»224. К сожалению, Пирт пала жертвой неоднозначной терминологии Жаффе: она представляет гомогенизацию и дегомогенизацию как два противоположных подхода, хотя из структуры и содержания ее статьи совершенно очевидно, что она считает их комплементарными. Убедительный пример этой неоднозначности являет собой следующее заявление Пирт: «Может быть, в таком случае имеет смысл “регомогенизировать” Джевонса и Менгера, но не Вальраса?»225. То есть она считает, что все три автора в какой-то момент были гомогенизированы, что Жаффе их дегомогенизировал и что, возможно, пришло время регомогенизировать хотя бы двоих из трех на основании их общих взглядов на человека, принимающего решения.
Есть две причины, по которым Пирт не стоит противопоставлять свои аргументы аргументам Жаффе. Одна из них: ничто не свидетельствует о том, что гомогенизация и демогенизация исключают друг друга или что они должны производиться по очереди. Соответственно, нет никакой нужды в «регомогенизации» авторов в области истории экономической теории. Гомогенизация и дегомогенизация отражают разные точки зрения, принятые историками экономической мысли в ходе изучения первоисточников, – скажем, пользуясь примером Жаффе, определение науки либо как знания, вооруженного инструментами, либо как структурированного знания. Более того, может быть полезно взглянуть на Менгера, Джевонса и Вальраса под заголовком «Маржиналистская революция 1870-х гг.», если нужно показать, что их труды обнаружили знаменательный разрыв с классической теорией вообще и Рикардо в частности. Напротив, стремление классифицировать этих авторов вместе может оказаться не столь актуальным для тех, кто видит больше преемственности в аналитических разработках 1870-х гг. Отчасти дело тут в собственных научных интересах историка экономической мысли. И я достаточно пессимистично смотрю на возможность примирить противоборствующие точки зрения при помощи внимательного изучения первоисточников 1870-х гг. Весьма вероятно, что гомогенизация и дегомогенизация сосуществовать будут еще долго.
Есть и другая причина, по которой Пирт не следовало бы перенимать определение дегомогенизации как противоположности гомогенизации, принятое Жаффе. Она начинает с перечисления различий между Менгером, Джевонсом и Вальрасом (точнее, в конечном итоге различий между Вальрасом, с одной стороны, и двумя его современниками – с другой), а заканчивает демонстрацией того, что у Джевонса и Менгера были одинаковые взгляды на экономического человека. Точнее, она настаивает, что «для Джевонса и Менгера вопрос определения цен не был ключевым»226, а для Вальраса был и что последнего «куда меньше интересовала разработка теории субъективной оценки потребительских благ»227. Далее она подчеркивает, что и Менгер, и Джевонс считают человека, принимающего решения, подверженным заблуждениям, чувствующим нерешительность и сталкивающимся с информационными лакунами. Если статья Пирт – это не попытка соединить дегомогенизацию и гомогенизацию, то я не знаю, что это.
Однако если правда, что дегомогенизацию и гомогенизацию следует рассматривать как взаимодополнения, то от их комбинации должна быть какая-то польза. Иными словами, зачем нам вообще гомогенизировать и дегомогенизировать Менгера, Джевонса и Вальраса? Из статьи Пирт понятно, что оправдание использованию этого смешанного подхода – более ясное понимание воззрений Джевонса и Менгера на экономического человека. Однако нужен ли нам для этого Вальрас? Аналогичным образом, нужен ли нам Джевонс, чтобы разобраться с Менгеровым экономическим человеком? И, наконец, нужен ли нам Менгер, чтобы понять Джевонсова экономического человека?
Пирт не дает подробного ответа на первый вопрос. К примеру, она не высказывает суждения о том, объясняются ли сходные взгляды Джевонса и Менгера на экономического человека тем, что в отличие от Вальраса они концентрируются на поведении при обмене, а не на определении цены при совершенно свободной конкуренции. Сходным образом, тот факт, что «Вальраса куда меньше интересовала разработка теории субъективной оценки потребительских благ», не проливает света на тот факт, что «и Менгер, и Джевонс считают потребителей близорукими и нетерпеливыми»228. Это просто свидетельствует о том, что Вальрас выбрал иное направление исследований. Вальрас вполне может отличаться от Джевонса и Менгера, но это ничего не говорит нам о том, почему у Джевонса и Менгера были схожие взгляды.
Что касается двух других вопросов, Пирт выражается яснее, хотя она могла бы и больше углубиться в объяснение сходных черт Менгерова и Джевонсова экономического человека. Дело в том, что ее аргументация, хотя и интересная, остается сомнительной. Возможно, между взглядами Джевонса и Менгера на экономического человека и есть сходство. Однако похоже на то, что это сходство заслоняет одно ключевое расхождение между Джевонсом и Менгером. В то время как описание экономического человека как заблуждающегося, плохо информированного существа у Менгера относится к сфере теории, за исключением теории цен, у Джевонса оно преимущественно относится к сфере практики. Конечно, не следует забывать случай торга при заключении сделки (bargaining), в ходе которого Джевонсов экономический человек напоминает Менгерова тем, что принятие им решений очень сильно зависит от информации. Очевидно, что в таких ситуациях необходимая информация не связана с «общностью знания», на которую Джевонс ссылается в случае совершенного рынка; она приобретается «в ходе сделки». Однако, как признает сама Пирт, в подобных ситуациях экономическим человеком движут мотивы, которые более или менее чужды экономической теории. Аналогичным образом можно найти общие черты в идеях Джевонса и Менгера о том, как потребители принимают решения. Пирт утверждает, что и у Джевонса, и у Менгера потребители могут заблуждаться относительно того, что на самом деле является для них благом. Однако и здесь тоже, как оказывается, сравнение должно быть уточнено. Когда «Джевонс признавал, что действия потребителей являются следствием множества “внешних”, “прихотливых” или “пагубных” воздействий»229, он всего лишь хотел сказать, что на практике его условия максимизации полезности могут быть неприменимы. Соответственно, сомнительно, что Джевонс счел бы подобные воздействия частью экономической теории. Напротив, у Менгера понятия «действительных» и «воображаемых» благ открывают возможность для изучения ошибок самой экономической теорией. В любом случае остается неразрешенным вопрос: существует ли однозначная связь между тем, как принятие решений рассматривается в теории обмена, и тем, как оно рассматривается в теории полезности?
III. В заключение я хотел бы подчеркнуть, что попытка Жаффе дегомогенизировать Менгера, Джевонса и Вальраса все еще актуальна. Более того, критической необходимостью является признание вклада каждого из авторов в экономическую науку как самостоятельного, поскольку это может обогатить содержание современной экономической теории. На сегодняшний день только теория экономического равновесия Вальраса пользуется заслуженным вниманием. Однако, как наглядно демонстрирует нам Пирт, историкам экономической мысли может также быть весьма полезно исследовать сходство между экономическим человеком у Менгера и Джевонса не только потому, что оно может пролить свет на их рекомендации относительно экономической политики, но и потому, что оно представляет собой интересную точку зрения на эволюцию парадигмы homo economicus начиная с 1870-х гг.
Перевод с английского Н. В. Автономовой
Darmowy fragment się skończył.