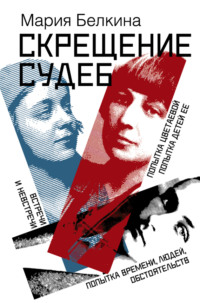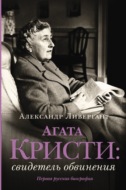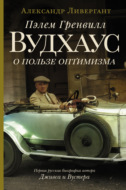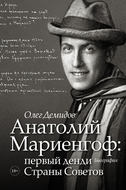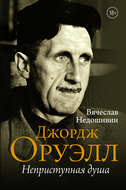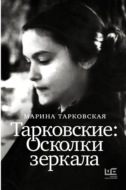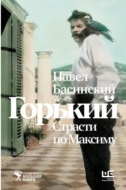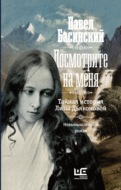Czytaj książkę: «Скрещение судеб»
© Белкина М.И, наследник, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Вместо предисловия
Скрещение судеб – ведущий мотив романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»: на фоне войн и всеобщих бедствий герои встречаются, расстаются, теряются и вновь сталкиваются. Пастернак писал, что так хотела земля под их ногами и небо над их головами… К подобным скрещениям героев недоверчиво отнеслись современники поэта, Набоков желчно иронизировал над частыми совпаденьями в «Докторе Живаго». Но жизнь – самый великий автор. И это хорошо знала Мария Белкина, назвавшая свою книгу о Цветаевой «Скрещение судеб».
На первых же страницах книги перед нами подобное скрещение судеб – своего рода ключ к последующему повествованию.
Начало 1940 года. Зима. Поздним вечером у памятника Тимирязеву у Никитских ворот случайно встречаются Борис Пастернак, критик Анатолий Тарасенков и будущий автор книги – Мария Белкина. После нескольких незначащих фраз поэт сообщает Тарасенкову, что в Москву инкогнито приехала Марина Цветаева. Он предлагает им познакомиться. Для Тарасенкова, собиравшего по крупицам ее стихи, поэмы, прозу, – это огромное потрясение. Затем они обсуждают трагические события последних дней. Арест Мейерхольда, жестокое убийство его жены, актрисы Зинаиды Райх, в собственной квартире. Мария Белкина здесь пока только слушатель, свидетель. Она недавно вышла замуж за Тарасенкова, Пастернака знает только по отдельным публикациям, о Цветаевой тоже слышала крайне мало. Но она чувствует, что присутствует при важном событии. Она запишет этот разговор, с него начнутся долгие, длиною во всю ее жизнь, отношения с Цветаевой. Мария Белкина запишет, что ответила тогда Пастернаку, что слышала, будто бы напали на след убийцы; была арестована домработница Мейерхольдов… Спустя годы, в разговоре с Ариадной Эфрон (они подружились после возвращения Ариадны из Туруханской ссылки), Белкина вспомнит о том, как впервые услышала от Пастернака о появлении Цветаевой в СССР, как они обсуждали смерть Зинаиды Райх, – и неожиданно Ариадна ответит ей, что именно в этот момент, когда эти трое стояли у Никитских ворот, в камеру на Лубянке, где она сидела, втолкнули домработницу Мейерхольдов. Как она в ужасе рассказывала об изувеченном теле Зинаиды Райх, как не могла понять, что от нее хотят следователи. Этот сюжет выглядит как картина из фильма. И Мария Иосифовна всегда рассказывала подобные истории как живые, такими они и оставались в памяти.
Вот таким плетением связей, судеб и событий движется повествование этой необычной книги. Так происходят встречи и разлуки Марии Белкиной с главными героями – Мариной Цветаевой, Георгием Эфроном (Муром) и Ариадной Эфрон.
Темная сталинская эпоха была особенно богата на совпадения и скрещения, которые, как волны, то прибивали, то отбрасывали людей друг от друга. Мария Белкина рано научилась чувствовать и понимать внутренний язык событий, тайный смысл пересечений, свершающихся в ее судьбе.
«Скрещение судеб» – это не мемуары и не роман из жизни Цветаевой, не исследование и не документальное повествование – это яркий и очень личный рассказ Белкиной о своем времени, о попытке Марины Ивановны, ее семьи и детей выжить в невозможных обстоятельствах. Его отличает не только исповедальной тон, но, что важно в этой книге, – на читателя не давит авторитет мемуариста, который порой склонен кого-то награждать восторженными отзывами, а кому-то давать резкие оценки.
Такой рассказ получился в результате ее сложного пути к «Скрещению судеб». Мария Белкина долго не решалась писать о Цветаевой. Сначала надеялась, что это сделает ее муж – Анатолий Тарасенков, но он умер в 1956 году. Была уверена, что книгу напишет Ариадна Эфрон, но ее воспоминания о матери заканчивались отъездом в эмиграцию, то есть 1922 годом. Мария Белкина еще долго оглядывалась, ожидая достойнейшего.
В середине семидесятых книга стала складываться не только из ее собственных воспоминаний, но из записей «уходящей натуры», сохранившихся писем и архивов. День за днем Мария Иосифовна обходила свидетелей последних двух лет жизни Цветаевой в Москве и тех, кто знал ее еще в двадцатые годы. В самом начале работы ей очень хотелось уйти, исчезнуть из повествования, чтобы ее, как автора, вовсе не было видно, – слишком несоизмеримым казался ей собственный и цветаевский масштаб. Но в какой-то момент она ясно почувствовала, что тогда этот текст лишится чего-то очень существенного, поняла, что сможет дать читателю полную картину происходящего только через собственное свидетельство, сквозь свою личную историю.
Перед самым своим уходом Мария Иосифовна поняла, что не успела написать о собственной жизни. Но кое-что успела рассказать. Родилась она в Екатеринбурге в 1912 году. Ее отец был художник-оформитель, живущий на заказы; он оформлял дома культуры, дворцы труда. Когда-то, до Первой мировой войны, помогал расписывать в Санкт-Петербурге особняк Кшесинской. Он глубоко презирал большевиков и считал, что их власть вот-вот кончится. У него было убеждение, что советская школа испортит девочку. Марию Белкину учила на дому очень хорошая женщина, народоволка, которая ушла из дома отца, коменданта Московского Кремля, и пошла в учительницы по убеждению. Но со временем отец вынужден был просить учительницу устроить Машу в школу, сразу в старший класс, поэтому мимо нее прошла пионерская и комсомольская организации, она не ходила на собрания, не интересовалась общественной жизнью. Мария Иосифовна всегда подчеркивала, что долго не знала, что такое страх. У нее сформировался сильный характер и здравый взгляд на вещи, что в эти годы было огромной редкостью.
Голубые, глубоко посаженные глаза, длинная белая коса – когда она познакомилась с Тарасенковым, ее красота была абсолютно несовременной. Все находили в ней сходство с актрисой, игравшей Дуню в немом фильме «Станционный смотритель». Во дворе писательского клуба в конце тридцатых годов находился теннисный корт, она решила заниматься теннисом. Константин Симонов, ее товарищ по Литинституту, к которому она обратилась за помощью, сказал ей, что для начальных занятий теннисом он слишком сильный партнер, ей нужен кто-то из начинающих. Он показал на Тарасенкова и представил их друг другу. Так они и познакомились. Потом пошли гулять по Москве. Он читал ей наизусть множество стихов, и больше всего – Пастернака. Мария Иосифовна хорошо знала классику XIX века, а тут на нее обрушился поток другой, не известной ей, поэзии. Она была просто заворожена. Гуляли они всю ночь, а под утро возвращались через Дорогомиловскую заставу. Тарасенков повел ее к дому в Конюшковский переулок через дворы и сараи. Обитатели московских домиков, более напоминавших дачи, в теплые ночи стелили себе прямо во дворе; Тарасенков проводил ее через дыры в заборах, через огороды, они то перешагивали, то перепрыгивали через спящих и, наконец, вышли к ее дому. Мария Иосифовна удивлялась, как он знал Москву, ее тайные ходы и выходы; только потом открылось, что он несколько лет прожил беспризорником на улице. Через несколько дней он сделал ей предложение. Он был разведен и жил один в чердачной комнатке на Пятницкой улице, где помещались только стол и койка, а из окна был выход на крышу. Тарасенков любил открыть окно, оставив крошки хлеба на крыше, и тогда десятки белых голубей подлетали к окну и заполняли его узкую комнатку. Когда Мария Иосифовна первый раз пришла к Тарасенкову в гости, ее поразила эта комнатка, полная белых птиц.
Она не сразу дала согласие выйти замуж, плохо представляя себя женой и матерью.
Но была зачарована тарасенковскими знаниями поэзии, его добрым и приветливым нравом. Она не знала его критических статей: социалистический реализм, о котором он писал, был ей абсолютно безразличен, как и всеобщее увлечение Маяковским. Они поселились в маленьком доме на Конюшках вместе с ее отцом и матерью. Именно туда Тарасенков принес всю свою огромную коллекцию поэзии начала XX века.
Конец лета, осень 1940 года, весна 1941-го прошли в доме Тарасенкова и Белкиной под знаком Цветаевой. Встречи, разговоры, прогулки. Но Тарасенков в это время учился на курсах военных корреспондентов, а ранней весной 1941 года его и Гроссмана командировали в Прибалтику писать об участниках боев с белофиннами. Тарасенков вернулся в Москву почти к самому началу войны. Мария Иосифовна эвакуировалась с сыном и родителями в Ташкент, но в начале 1942 года вернулась в Москву, а затем устроилась корреспонденткой в Совинформбюро. Дошла почти до Берлина. Участвовала в вылетах так называемых «ночных ведьм» – летчиц знаменитых «У-2».
После войны она стала совсем другой. От туберкулеза в 1946 году умер отец. Она увидела трагедию и унижения близких ей друзей во время кампании борьбы с космополитами. Ужасалась тому, как ее муж мечется между любовью к поэзии, в частности к Пастернаку, и необходимостью писать о нем разносные статьи. После ранней смерти мужа в 1956 году (ему было 46 лет!) ее жизнь началась с белого листа, она осталась главой маленькой семьи – с матерью и сыном, именно тогда окончательно оформился ее твердый характер и обостренное чувство справедливости. Она много ездила по стране, писала очерки, печаталась в «Новом мире» Твардовского. Исполнила мечту Тарасенкова и сделала на основе его собрания книг библиографический труд «Русские поэты XX века. 1900–1955». Но главное было впереди. Она помнила, что встреча с Цветаевой, может быть, самое важное, что случилось в ее жизни.
В предисловии она рассказывала: «Писалось “Скрещение судеб” в те годы, когда никакой надежды на то, что книга может быть издана в России, в тогдашнем СССР, не было, писалось в стол. Это был конец семидесятых – восьмидесятые годы. Тогда произведения Солженицына, Сахарова ходили из рук в руки в самиздате или изданные за рубежом, и за чтение и хранение этих книг, да и за романы Набокова или за “Доктора Живаго” могли посадить и – сажали! Тогда шли процессы над инакомыслящими, их держали в тюрьмах, в психиатрических больницах, высылали из страны. Тогда, в восьмидесятых, мы все в отчаянии и страхе за Андрея Дмитриевича Сахарова, прильнув к радиоприемникам, ловили “голоса”, надеясь хоть что-то узнать, как он там, в ссылке в Горьком».
«Скрещение судеб» было опубликовано в 1988 году в издательстве «Книга». Успех был оглушительный. Сразу же появилось несколько пиратских изданий, бороться с которыми Белкина не стала. Книга многократно переиздавалась. Началось ее шествие по миру. Она вышла на немецком языке во Франкфурте-на-Майне двумя изданиями, на французском в Париже. Была переведена в Польше, Италии. Раскрывались архивы, и приходилось дописывать все новые и новые главы. К счастью, Марии Иосифовне была дарована длинная жизнь – 96 лет. Она даже успела доработать издание после 2000 года, когда стали открыты архивы Цветаевой в ЦГАЛИ. Сегодня мы держим в руках окончательный текст книги, которую Мария Белкина подготовила в 2007 году, но увидеть уже не смогла. Она ушла из жизни в январе 2008 года. Ее книга осталась одним из самых лучших памятников Марине Цветаевой и ее семье.
Наталья Громова2017
От автора
Судьбе угодно было распорядиться так, что Цветаева трижды прошла через мою жизнь. Первый раз – ее стихи, она сама, живая, сущая во плоти. Это было в 1940–1941 годах. Потом минуло много лет, и в 1955-м, в начале сентября, вернувшись из Туруханской ссылки, порог нашего дома – уже не в Конюшках, где бывала Марина Ивановна, а в Лаврушинском – переступила Аля, Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Цветаевой. И ожила Марина Ивановна в разговорах с Алей, в ее рассказах, в наших воспоминаниях о тех уже минувших днях, когда мы с моим мужем Тарасенковым встречались с Цветаевой и ее сыном.
И снова шли годы, шла жизнь, и непосредственность и острота этой второй встречи с Мариной Ивановной таяли и уходили туда, в далекое вчера, которое неумолимо становилось историей.
Аля, Ариадна Эфрон, блестящий литератор, художница, посвятила оставшиеся годы своей жизни всецело наследию матери. Она была одержима стремлением открыть Цветаеву российскому читателю, который в те годы и имени этого еще не слышал! Сделать достоянием всех то, что было известно лишь узкому кругу любителей поэзии, да и то главным образом в списках. Подобное по тем временам представлялось почти немыслимым – биография поэта, творчество выпадали из дозволенного… Но «с чисто цветаевским упорством», – как говорила потом Ариадна, – преодолевая все препятствия, чинимые на ее пути партчиновниками от литературы и цензорами всех мастей и рангов, стихи и проза Марины Ивановны начинали пробиваться в советскую печать. В 1961 году была, наконец, издана – с третьей попытки, истонченная до предела, – книжечка ее стихов, а в 1965-м, в большой серии «Библиотеки поэта», – том стихов. Это была уже сенсация! Потом «Мой Пушкин», потом «Просто сердце», потом… Но до тех дней, когда Цветаева завладеет миллионами сердец, когда станет одним из самых читаемых поэтов в стране, – Аля не доживет. Правда, это будет уже совсем иная Россия. А в той, советской России, в СССР, сколько душевных сил потратит она, сколько унижений и обид стерпит, открывая Цветаеву! Она еще успеет оставить нам прекрасные воспоминания о матери. В 1975 году жизнь ее оборвалась…
И тогда я стала составлять ее посмертный сборник (он будет издан только в 1989 году!), решив включить в него и ее письма, которые сами по себе являются литературными произведениями. Мне пришлось прочитать сотни ее писем к друзьям и знакомым, а они были и моими друзьями и знакомыми. А затем мне была предоставлена возможность познакомиться с архивом покойной сестры мужа Цветаевой Елизаветы Яковлевны Эфрон, и еще я помогала разбирать архив самой Али.
И волею случая или волею неизбежной закономерности произошло так, что Марина Ивановна встала на моем жизненном пути в третий раз. Теперь уже в своих письмах, в письмах Али, Мура, в письмах мужа своего Сергея Яковлевича, с которым мне так и не довелось встретиться; в фотографиях, в документах. А потом я вспомнила и о ящиках письменного стола Тарасенкова, которые не были разобраны до конца, и о своих давних и забытых записях, которые я вела от случая к случаю, просто так, не помышляя о том, что стану когда-либо писать о Цветаевой. Да и теперь еще не помышляла, но по странному стечению обстоятельств в те годы после смерти Али ко мне с какой-то неукротимостью стали стекаться все новые и новые сведения о жизни Марины Ивановны, о жизни Али и Мура. И самым неожиданным образом я вдруг сталкивалась с людьми, которые, как и я когда-то, встречались с Мариной Ивановной, и разговор сам собой заходил о ней. И я, поначалу не стремясь к этому и занятая другой работой, стала замечать, что хочу я этого или не хочу, – но я уже вовлеклась. Словом, третья встреча с Цветаевой затянулась…
Марина Ивановна когда-то сказала: «Писать обо мне по существу – не отчаялся бы только немец». Но я не отчаялась! (Хотя и не немец.) Хотя долго сопротивлялась и не хотела писать эту книгу, понимая, сколь сложна работа и какую ответственность я беру на себя. Но выхода не было – мне так много было уже известно доподлинного, а вокруг в те годы столько говорилось и столько появлялось в печати за рубежом всякой небыли о Марине Ивановне и о ее семье, что я не имела права, не смела все то, что знала, унести в небытие. И это «знаю» тяжелым грузом давило на меня и не давало спокойно жить, и единственной возможностью было избавиться от этого груза, сбросить его с плеч – рассказав! И потом еще я начала убеждаться, что, в силу многих обстоятельств, есть нечто, о чем могу поведать только я, и никто другой…
Книга задумана как триптих – «Марина Ивановна», «Мур», «Алины университеты» – и представляет единое, неделимое целое. Это документальное повествование, в нем нет места выдумке и литературным прикрасам. Я старалась быть предельно точной и объективной, насколько, конечно, вообще можно быть объективным, ибо любой документ объективен только пока он мертв, пока к нему не прикоснулась живая рука. А то, что хранила моя память и мои записи, я старалась перепроверить и уточнить. Но говоря о последних годах, проведенных Мариной Ивановной в Советской России, я не могла не говорить и о всем ее, таком трагическом, жизненном пути…
Главное в жизни Марины Ивановны было творчество, стихи, но стихи рождались от столкновения ее с людьми, а людей и отношения с людьми она творила, как стихи, за что жизнь ей жестоко мстила… Писать о Марине Ивановне, не касаясь сугубо личного, оказалось невозможным, что меня очень тогда смущало! Но я знала, что сама Марина Ивановна из своей личной жизни тайны не делала и очень откровенно и очень многим писала о своих увлечениях, отлично понимая, что письмо – это завтрашняя гласность, но даже и при жизни, в тридцатых годах, собиралась издать как роман в письмах на французском языке одну из своих личных переписок. И потом любая недомолвка, любое умалчивание только прибавили бы лишние слухи и толки, которыми и так опутаны как ее имя, так и вся семья в целом. А так повелось уже, что жизнь большого художника неизбежно становится достоянием всех. И еще – имени ее, творениям ее суждено бессмертие, но жизнь ее, как и любого смертного, была ограничена определенным отрезком времени, а время так быстротечно и так переменчиво… И потому еще одна задача стояла передо мной – книга должна напомнить время!
Писалось «Скрещение судеб» в те годы, когда никакой надежды на то, что книга может быть издана в России, в тогдашнем СССР, не было, писалось в стол. Это был конец семидесятых – восьмидесятые годы. Тогда произведения Солженицына, Сахарова ходили из рук в руки в самиздате или изданные за рубежом, и за чтение и хранение этих книг, да и за романы Набокова или за «Доктора Живаго» могли посадить и – сажали! Тогда шли процессы над инакомыслящими, их держали в тюрьмах, в психиатрических больницах, высылали из страны. Тогда, в восьмидесятых, мы все в отчаянии и страхе за Андрея Дмитриевича Сахарова, прильнув к радиоприемникам, ловили «голоса», надеясь хоть что-то узнать, как он там, в ссылке в Горьком…
И все же жизнь постепенно, но неуклонно менялась, и вот в 1986 году забрезжила надежда, что книга может быть напечатана. И я с опаской отнесла рукопись в редакцию, вынув «Алины университеты», боясь, что тюрьмы и лагеря могут напугать издателей. Но рукопись попала в руки решительного редактора – к Тамаре Громовой. Она уговорила меня дать «Алины университеты» и умело повела книгу, обходя вышестоящее начальство, которое по привычке все еще страшилось, колебалось. И странно представить себе – тогда была еще цензура, последняя цензура! Правда, цензор уже не диктовал, а только предлагал…
В 1988-м, летом, увидело свет первое издание «Скрещения судеб». А дальше у книги была уже своя жизнь, не зависевшая от автора. Она была сразу переведена на иностранные языки.
Но моя работа с книгой не прекратилась, и в дальнейших переизданиях пришлось делать много добавлений.
Работа над книгой тогда, в 1988 году, не была завершена, и во втором, а особенно в третьем издании пришлось много добавлять, многое дописывать. Бег времени в те дни столь убыстрялся, что казавшееся вчера еще сокрытым навечно – сегодня становилось явным. А к середине девяностых годов, наконец, стал доступным самый страшный, самый засекреченный архив страны – архив КГБ – НКВД. «Дела» замученных, расстрелянных, ни в чем не повинных людей, «Дела» тех, кто был отправлен на долгие сроки на каторгу в лагеря за не совершенные ими преступления… И в этом архиве, в «Деле» мужа Марины Ивановны, Сергея Яковлевича Эфрона, расстрелянного в 1941 году, были обнаружены два ее письма к Берии, в которых она пытается защитить мужа и дочь…
В середине девяностых стали известны письма Марины Ивановны к Ариадне в лагерь, а также многие другие письма, неизвестные доселе, написанные ею в двадцатых годах и в предотъездные годы из Парижа. И в этих письмах она подробно рассказывает друзьям о невыносимой жизни в Париже, о неизбежности отъезда, о страхе перед этим отъездом. И часто поминает о том, сколь утомительно и скучно переписывать тетради, которые она вела всю жизнь и теперь готовит к отъезду… Об этих переписанных тетрадях рассказывала мне и Ариадна, утверждая, что мать отлично понимала – что можно, что нельзя везти с собой в СССР. И говорила, что уже тут, в России, тетрадей она не вела. А в отрывочных записях, «вмурованных» между строк переводов, не все можно разобрать. Так что я не очень рассчитывала, что в 2000 году архив Цветаевой станет доступным, закрытый Ариадной в ЦГАЛИ, там будут особые открытия.
Теперь архив доступен. Несколько тетрадей опубликовано. Для цветаеведов, литературоведов, занимающихся творчеством или жизнеописанием поэта, там много найдется полезного. У моей же книги задача была иная.
Сердечно благодарна за помощь Л.Г.Бать, Р.Б.Вальбе, Н.П.Гордон, Е.Б.Коркиной, Л.А.Мнухину, А.А.Саакянц, Л.М.Турчинскому, А.А.Федерольф-Шкодиной.
2006