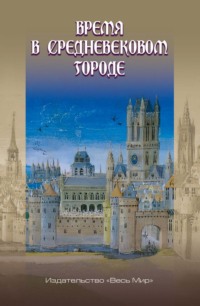Czytaj książkę: «Время в средневековом городе»
© Коллектив авторов, 2024
© ИВИ РАН, 2024
Город и его время
О чем бы ни говорил историк, он говорит о времени. А соизмеряя время исторических событий с прошлым и настоящим, встраивая их в картину мира и в собственную космологию, он говорит о вечности – таком измерении Вселенной и такой системе координат, когда всякая точка отсчета и любой сюжет могут вырасти до космических масштабов, задавая движению мысли вдохновляющие перспективы.
Особенности восприятия времени в городской среде, исторического прошлого города, многие другие темы и сюжеты были рассмотрены на организованной Институтом всеобщей истории РАН в сентябре 2022 г. конференции «Время в городе: долгое Средневековье и его наследие»1. В ходе работы секций «В начале времен», «Право и бесправие на оси времени», «Время церковное и время мирское», «Профессиональное время: исчисление и управление», «Историческое время города: события и память» и «Переживаемое время» прозвучали классические для исторической науки вопросы о том, кому принадлежит время, кто его устанавливает и распоряжается правом его использовать, о способах измерения времени – и унаследованных от древнейших времен, и специфически городских. Легенды об основании городов и яркие события их истории были рассмотрены в контексте как радикальной смены парадигм, так и стойкого консерватизма, целенаправленного закрепления давних или воображаемых традиций, конструирования и деконструкции исторической памяти, многих и разнообразных усилий по ее поддержанию и закреплению. Интенсивность бега времени, контрастирующая с размеренностью обычной жизни, особенно остро ощущалась во время осад городов и других катастрофических для государства и личных судеб горожан событий, в период войн и потрясений, что задало исследованиям такие направления, как изучение восприятия времени, индивидуального переживания каждого его мгновения и исторически изменчивого отношения к его течению. Воображаемое прошлое, оценки горожанами исторического, фольклорного и христианского времени, визуализация свидетельств прошлого в пространстве средневекового города переплетались с анализом метафор, отразивших ключевые моменты истории и ход времени. В 2023 г. некоторые из этих тем были освещены в разделе «Время в городе: долгое Средневековье и его наследие» 7-го выпуска Электронного научно-образовательного журнала «История»2: функциональность и экономическая ценность времени, способы фиксации горожанами конкретных моментов времени, реальных и мифических событий городской истории.
В продолжение и развитие этих и многих других идей была задумана и подготовлена эта коллективная монография о времени, каким оно было в средневековом городе и каким виделось его жителям, их современникам и их потомкам.
Основание города и ранняя его история обычно небогаты документальными и личными свидетельствами, историческая память сохраняет их в виде мифических и легендарных образов. Много позднее, нуждаясь в обосновании древности и потому – законности своих прав и привилегий, потомки восстанавливают их истоки ab urbe condita, целенаправленно конструируют память о своем историческом прошлом, ориентируясь как на линейную – историческую, так и на циклическую, в рамках литургического цикла, темпоральность. Один из принятых способов, полагавшихся наиболее весомым, включал восстановление и закрепление имен и деяний великих основателей – как Субра, первооснователя Милана, представленного в этой книге А. Н. Масловым (раздел 1.2). Божественная история отражалась в деяниях влиятельных духовных лиц – как, например, в истории епископов Меца, рассмотренных А. И. Сидоровым (раздел 1.1).
Желание помнить о том, что было в далеком прошлом, и понимание ценности такого знания присуще далеко не каждому.
На материалах истории российских городов XVIII в. это показывает В.В. Ткаченко (раздел 1.4). Исключительную ценность городского прошлого в его соотношении с монастырской историей, опыт воссоздания легендарного контекста правильного прошлого и документального подкрепления законности своих притязаний – А.А. Анисимова (раздел 1.3).
Время – всегда весомый аргумент. Оно весьма убедительно, когда «дополняет» изложение событий и обстоятельств, и оно вполне самодостаточно, поскольку обладает способностью выступать доказательством и устанавливать правомерность. Такое свойство времени не зависит от его «величины». Убедительной будет как отсылка к самому недавнему моменту – если нечто произошло только что, а значит, это видели, слышали и знают все, так и к седой древности – если нечто случилось или началось так давно, что даже об этой давности почти или же совсем ничего не известно, само это определение будет авторитетно и основательно.
Измерение неуловимого и бесконечного времени и, тем более, соотнесение его с человеческой жизнью в ее повседневности покушается на безмерность не принадлежащей средневековому человеку вечности. Время «не столько осознавалось или осмыслялось (прошлое – настоящее – будущее; “я” во времени), сколько переживалось в момент деятельности» – так определяет ключевую особенность мировосприятия человека эпохи Средневековья М.В. Винокурова (раздел 2.1). Однако средневековые горожане остро нуждались в точности обозначения и измерения своего времени: чтобы рассчитать сроки исполнения обязательств, внесения платежей, начала и окончания рабочего дня и прочих дел. Английские горожане XIII–XV вв. представлены М.В. Винокуровой (раздел 2.1); парижские ремесленники и торговцы XIII в. – Е.Н. Кирилловой (раздел 2.2); парижские чиновники XIII–XV вв. – С.К. Цатуровой (раздел 4.1); один успешный прежде купец из Дмитрова XVIII в. – В.Д. Любковым (раздел 4.2).
Право определять время и устанавливать конкретный его момент для всех, всюду и навсегда принадлежало духовной, а затем и светской власти. Претензия на это право и его отчуждение индивидом – как, например, Раулем Спифамом, идеи которого представлены П.Ю. Уваровым (раздел 3.1), или восставшими горожанами во Фландрии XIV в., притязания и действия которых рассмотрены А.А. Майзлиш (раздел 3.2), – это откровенное покушение на власть. Свои размышления о феномене города-государства и о понимании государственности представил М.А. Юсим (раздел 3.3).
Временные критерии существенны для организации социального мира: они определяют возникновение, изменение и прекращение правоотношений, они задают правовым нормам экономическое и, в определенной степени, психологическое измерение. Связанные с фактором времени категории североитальянских нотариальных актов XIII–XIV вв. изучены Н.Б. Срединской, (раздел 5.1), кредитные отношения христиан и иудеев в Кастилии XIII–XV вв. рассмотрены И.В. Билецкой (раздел 5.2).
Представляя свои сюжеты, весьма разноплановые, авторы предлагают оригинальные подходы к изучению представлений о времени, дают свои определения ключевым для их сюжетов понятиям, которые в этой книге не сведены к единому знаменателю. Деление книги на 5 частей акцентирует круг проблем, к рассмотрению которых авторы других разделов также обращаются, дополняя и корректируя общую ментальную карту.
Город эпохи долгого Средневековья противопоставлен в этой книге сельскому миру, органической частью которого он являлся. Циклическое время аграрной экономики не было неизмеримым: земледелие и скотоводство не терпят невнимания к срокам, требуют соблюдения порядка и последовательности действий, учета их продолжительности и признания их неотложности. Городской образ жизни соотносится и с природным циклом, и с литургическим годом, но сконцентрированная в городе деятельность – религиозная, интеллектуальная, административная, экономическая – нуждалась в разнообразных и качественно иных критериях времени: мелких и дробных, строгих, независимых от сезона, погоды, личных интересов и мнений. В своей повседневности горожане использовали разнообразные способы определения времени, как хорошо известные ранее, так и новые, городские по своей природе, позволявшие уточнять и перепроверять точность оценки и измерения конкретного момента времени и его движения, хотя вряд ли создававшие и применявшие их горожане специально задумывались об этом. Историки, авторы этой книги, выявляют их особенности, соотношения и значение.
В этой книге есть такие средневековые мегаполисы, как Париж, Милан и Гент, есть и малые города – как Ромни, Дмитров или Комин; здесь представлены разные горожане – ремесленники, чиновники, купцы, ростовщики, интеллектуалы. Динамичный поток времени, заданный векторами исследований историков, сплетает их идеи с судьбами и мыслями средневековых горожан на страницах этой книги.
Е.Н. Кириллова
Раздел 1
Историческая память средневекового города
1.1. Время, пространство, история и память в раннесредневековом городе: казус Меца
Конструирование памяти об историческом прошлом города в Средние века – относительно новая тема в современной медиевистике, а в отечественной науке и вовсе едва намеченная3. Сюжетов, посвященных собственно раннесредневековым городским образованиям, здесь почти не найти. Причем, по вполне объективным обстоятельствам – из-за крайне скудного состояния источниковой базы. В этом смысле редкое исключение представляет собой корпус каролингских текстов, имеющих отношение к Мецу. Речь идет, как минимум, о нескольких значимых памятниках: «Деяниях мецских епископов» Павла Диакона (ок. 783 г.)4, метрической (ок. 776 г.) и прозаической (до 855 г., ок. 917 г.) версиях списка епископов мецской кафедры5 и Сакраментарии Дрогона (Paris, BN lat. 9428, Мец, ок. 850 г.)6. Опираясь на эти материалы, можно составить довольно ясное представление о том, как и почему во второй половине VIII–IX в. в среде местного духовенства целенаправленно конструировалась многовековая история города – важнейшего центра каролингских реформ. Ниже речь пойдет именно об этом.
Разумеется, Мец фигурирует в самых разных каролингских текстах – дипломах майордомов и королей, житиях, исторических сочинениях и др. Но совершенно эпизодически, главным образом в связи с погребением или поминовением упокоенных там представителей семьи Пипинидов-Арнульфингов, визитами королей, а также в связи с решением разного рода имущественных и юридических вопросов местной кафедры (пожалование земель и привилегий, предоставление иммунитета и др.)7. Впрочем, эта вспомогательная информация тоже полезна.
Целенаправленное конструирование памяти об историческом прошлом Меца началось во второй половине VIII в. составлением метрической версии списка и заказом на написание «Деяний», а закрепилось несколько десятилетий спустя доработкой списка и изготовлением Сакраментария. Это стало следствием сразу нескольких процессов, протекавших параллельно. Исследователи уже обращали внимание на то, что при Каролингах происходило постепенное усиление внутренней консолидации церковных общин во Франкском королевстве, институциональной, культурной и ментальной одновременно. Таковая выражалась, например, в возведении новых церквей и образовании при них мавзолеев «своих» лидеров (епископов, аббатов), собирании максимально возможного числа святых мощей в одном месте для усиления его сакрального потенциала, а также в составлении историй отдельных монастырей или епископских кафедр, ориентированных на формирование групповой идентичности. Сочинения в жанре «Деяний», по меткому замечанию Мишеля Со, являлись, по сути, нарративной разновидностью все тех же мавзолеев8. Следует отметить, что Мец стоял у самых истоков этого процесса и в известной мере задал ему направление9.
Имелись и другие, не менее важные обстоятельства. Так, мецские предстоятели с ранних пор оказались теснейшим образом связаны с каролингским двором. Арнульф Мецский, который считается одним из предков Каролингов, занимал местную кафедру в 612–621 гг., а после смерти был похоронен здесь же – в расположенной неподалеку от города церкви Святых Апостолов, которую позднее назовут уже его именем. На протяжении последующих 250 лет семейная память о нем неуклонно крепла. Житие Арнульфа10, составленное уже в VII в. кем-то из современников на основании собственных наблюдений и по рассказам близких к Арнульфу людей11, отлично знали и в Меце, и при дворе. Помимо этого, существовали и семейные предания, а одну историю (о чуде с кольцом, символизировавшем отпущение грехов Арнульфу) в середине 780-х гг. Павлу Диакону поведал лично Карл Великий12. С начала VIII в. рядом с Арнульфом стали хоронить других членов семьи. За последующие полтора столетия здесь упокоились сын Пипина Геристальского Дрогон (708 г.), дочери Пипина Короткого Ротхайда (?) и Адельгейда (?), дочери Карла Великого Адельгейда (774 г.) и Хильдегарда (783 г.), супруга Карла королева Хильдегарда (783 г.), а также его сыновья, сводные братья император Людовик Благочестивый (840 г.) и архиепископ Дрогон (855 г.). Из этого списка видно, что до второй четверти IX в. у Меца как одной из усыпальниц правящей династии был хоть и важный, но все же второстепенный (например, по сравнению с Сен-Дени) статус, а выход на первые позиции оказался скоротечным – Дрогон стал последним погребенным там Каролингом. Однако куда важнее тот факт, что королевский мавзолей в Меце формировался системно и целенаправленно – в итоге именно здесь оказалось сосредоточено больше всего погребений представителей каролингской семьи.
Во второй половине VIII в. при епископах Хродеганге (742/748– 766 гг.) и Ангильраме (768–791 гг.), возможно, представителях одного аристократического клана13, Мец стал ведущим полигоном для каролингских реформ в области литургии и распространения среди священства правил монашеского общежития14. Оба предстоятеля в разное время занимали высокие должности при дворе (первый был референдарием, второй руководил придворной капеллой и в этом статусе являлся, по сути, главой всей франкской церкви), а Хродеганг помимо прочего принимал непосредственное участие в организации визита папы Стефана во Франкию в 753–754 гг. для помазания Пипина Короткого на царство и даже получил от папы архиепископский паллий. В 794 г. Людовик Благочестивый, будущий император франков, взял в жены Ирменгарду, которая, как считается, состояла в родстве, по крайней мере, с Хродегангом15. Вряд ли такое решение было случайностью. В любом случае, круг замкнулся. Отныне мецскую кафедру связывали со двором теснейшие политические, церковные и семейные узы16. И то, что Дрогон, незаконнорожденный сын Карла Великого, занял ее в 823 г., было вполне естественно. В 834 г. он же возглавил королевскую капеллу – сначала при дворе Людовика Благочестивого, а после его смерти при дворе императора Лотаря I и, подобно Ангильраму, на время стал неформальным главой франкской церкви. Активное и довольно раннее конструирование исторической памяти местной церковной общины имело таким образом куда более серьезные основания, чем кажется на первый взгляд.
Для мецского клира история города – это история кафедры, а стержнем, своеобразным становым хребтом, вокруг которого формировалась историческая память, стал список предстоятелей. Метрическая версия последнего появилась при Ангильраме не раньше 774 г.17 и включала 37 имен18. Остается только догадываться, насколько исчерпывающим был этот список, кем и на основании каких сведений он был составлен19. Но главная его цель, очевидно, заключалась в том, чтобы заявить о непрерывной истории кафедры от апостольских времен до эпохи Каролингов.
Когда появилась прозаическая версия, точно не известно, вполне возможно, она родилась уже при Дрогоне (823–855 гг.). Список имен в них полностью идентичен до Ангильрама (затем продолжен ок. 855 г. до Дрогона и ок. 917 г. до Руотперта), однако нарратив серьезно разнится. Составитель метрической версии сосредоточился, собственно, на каталогизации. Он пронумеровал всех епископов, попутно занимаясь объяснением этимологии отдельных имен, благо иные в этом отношении были довольно красноречивы (Целестий, Феликс, Пациенс, Виктор и др.), и связывая те или иные достоинства предстоятелей непосредственно с их именами20. В прозаической версии мы не найдем нумеризации, равным образом опущены все этимологические комментарии, зато каждое имя теперь сопровождалось указанием даты смерти его носителя или, согласно христианской традиции, подлинного «дня рождения» (dies natalis)21. По сути, перед нами мартиролог.
При всем формальном сходстве содержания обеих версий они воплощают собой два принципиально разных отношения ко времени. Прозаический список был ориентирован на циклическую темпоральность. Как и положено мартирологу, он имел меморативную природу, поскольку создавался явно для регулярного поминовения (и собственно систематического укрепления исторической памяти), а функционировал в рамках литургического цикла. На это помимо прочего указывает и тот факт, что он сохранился в Сакраментарии, т. е. сборнике текстов, предназначенном для совершения литургии.
В основе метрического списка, напротив, лежала линейная темпоральность, и это, безусловно, не было случайностью. Текст появился в эпоху бурного расцвета каролингской анналистики, очень специфической формы нарратива, глубоко эсхатологического по своей природе, основной задачей которого была ориентация на линейной хронологической шкале с опорой на особо памятные события, поиск собственного места во времени, стремительно мчавшемся к своему концу22. Метрический список, как кажется, имел ту же природу и представлял собой попытку осмыслить историю кафедры в эсхатологической перспективе23. На протяжении столетий кафедрой руководили исключительно достойные пастыри, а иные и вовсе стали святыми. Благодаря этому в Меце накапливалась благодать, что делало данное место при всех прочих равных более предпочтительным в контексте будущего спасения.
С другой стороны, линейное время обладало удивительной пластичностью, могло растягиваться или сжиматься – в зависимости от актуальных потребностей. Как именно это происходило, хорошо видно на примере «Деяний мецских епископов». В основу своего сочинения Павел Диакон положил метрическую версию списка предстоятелей (другой он не знал) и там, где это было возможно, существенно дополнил его исторической фактурой, почерпнутой из разных источников (устной традиции, письменных текстов, данных археологии и семейных рассказов)24. Через описание деяний епископов25 автор показал историю Меца как особого сакрального пространства, формирование которого восходило непосредственно к апостольским временам. Св. Климент, основатель кафедры, жил, предположительно, на рубеже III и IV вв., однако под пером Павла он оказался не только современником блаженного Петра, но даже принял от него посвящение в сан26. Мецская кафедра таким образом ставилась в один ряд с другими древнейшими европейскими кафедрами – равеннской, миланской, аквилейской, но прежде всего, римской27, от которой напрямую происходила и на которую ориентировалась. При этом достойная памяти история города в представлении местного клира не выходила за пределы новозаветной эпохи, но оставалась исключительно в рамках шестого и последнего века земной истории человечества, что соответствовало эсхатологической природе поэтического списка.
Параллельно Павел решал другую, не менее важную задачу – воссоздавал сакральный ландшафт Меца или, точнее, мецской епархии, очевидно, актуальный на момент создания «Деяний». В рассказы о епископах он вставил упоминания о конкретных церквях и монастырях, таким образом максимально точно локализуя пространство исторической памяти своей аудитории. Так, с Климентом связана основанная им церковь св. Петра в старом римском амфитеатре28, с Руфом и Адольфом – церковь св. Феликса29, с Ауктором – церковь св. Стефана, с Арнульфом – церковь Святых Апостолов, позднее названная его именем, с Сигебальдом – монастыри Нова-Целла и Новум-Вилларе, наконец, с Хродегангом – церковь и монастырь св. Петра, а также монастыри Горце, Хилариак и Лорш. Церкви св. Петра, св. Феликса и св. Стефана фигурируют в рассказе в связи с чудесами – в первой никогда не было ядовитых змей и вообще никакой заразы; во второй мощи Руфа и Адольфа «отвечали» пением псалмов на молитвы живых; третья единственная избежала разграбления и поругания во время страшного нашествия гуннов, кроме того, в ней сохранилась древняя алтарная плита, сначала расколовшаяся, а затем чудесным образом воссоединенная (Павел не преминул упомянуть, что лично ощупал трещину). Церковь св. Арнульфа упоминается в связи с тем, что именно ей была отведена роль королевского некрополя. Все остальные церкви и монастыри перечислены в качестве зримого воплощения пастырской заботы мецских предстоятелей – епископы их строили, окормляли и снабжали святыми мощами.
Для Павла истории города вне истории кафедры как бы не существовало. Но это не все. Через Арнульфа Мецского, чьи потомки при активном участии предстоятелей Меца взошли на франкский трон в 751 году, история кафедры оказалась также полноправной частью истории франкского государства и одновременно истории семьи Каролингов. Очевидно, для Ангильрама, как заказчика текста, было важно акцентировать внимание на этом сюжете30. Павел много внимания уделяет Арнульфу и его деяниям, а затем на время прерывает повествование о епископах, чтобы подробно рассказать о генеалогии Каролингов – от Арнульфа до Карла Великого и его потомства, с попутной имплементацией троянского мифа в историю правящей династии. Также Павел приводит собственные поэтические эпитафии, посвященные упокоившимся в Меце сестрам, супруге и дочерям Карла31.
Эта связь, несомненно, отчетливо осознавалась мецским клиром и позднее не раз манифестировалась. Недаром именно в Меце в 869 г. местный епископ возложил на голову Карла Лысого корону Лотарингии, а в сокровищнице кафедрального собора не случайно хранилась знаменитая конная статуэтка каролингского государя. В нарративном плане эту связь акцентировал прозаический список епископов, предназначенный, как уже было сказано, для регулярного литургического поминовения.
Иллюминированный Сакраментарий, заказанный Дрогоном, незаконнорожденным сыном Карла Великого, создан в контексте той же логики. Нарративно он сосредоточен на литургическом служении, визуально выстроен вокруг ключевых персонажей и событий новозаветной истории, среди которых наряду с Христом, его учениками, раннехристианскими святыми и мучениками фигурирует также Арнульф Мецский (в инициале «D» на fol. 91r представлены фрагменты его жития), а дополнен самым полным на момент создания мартирологом с указанием дней поминовения всех предстоятелей32.
Арнульф – единственный епископ Меца, чьи деяния удостоились визуализации. Здесь следует отметить один важный момент, на который историки, кажется, до сих пор не обращали внимания. Арнульф совершил много чудес при жизни и после смерти, однако для изображения были выбраны только те чудеса, которые святой сотворил в статусе епископа. Пространство внутри инициала разделено крестообразно на четыре части. Повествование начинается в левом верхнем углу и движется слева направо и сверху вниз, повторяя порядок чтения книги. Сначала мы видим Арнульфа изгоняющим демонов из бесноватой женщины на глазах у толпы во время совершения крестного хода вокруг города, затем молящимся в церкви Св. Креста об избавлении от аналогичных страданий другой бесноватой, далее исцеляющим прокаженного посредством Таинства Крещения и, наконец, через Причастие спасающим от смерти маленького сына некоего тюрингского аристократа по имени Нутилон – согласно тексту жития отец уже собирался отрубить умирающему голову и предать его тело сожжению по языческому обычаю (на миниатюре Нутилон показывает рукой на фигуру идола в виде собаки или волка, установленную на постаменте за его спиной; за постаментом бьется в конвульсиях еще один бесноватый – элемент, очевидно, призван явить зрителю дьявольскую сущность идола). Для Дрогона, таким образом, память о своем славном предке была неотделима от истории кафедры. Высокая должность и связанное с ней служение церкви и государству, Богу и королю – вот главное достоинство истинного пастыря.
В начальной части мартиролога на fol. 127v есть маргинальные пометы, оставленные двумя руками33 второй половины IX – начала Х в., при помощи которых с опорой на письменную и устную традиции дополнительно воссоздается историко-сакральный ландшафт Меца. Записи эти лаконичны, но примечательны. Так, напротив имени Климента, первого епископа города, указано, что тот построил церковь блаженного Петра в амфитеатре (что полностью соответствует рассказу Павла Диакона34 и, вероятно, позаимствовано непосредственно из текста «Деяний», а значит, представляет собой прямую отсылку к ним же, понятную для читателя того же круга), а также церковь св. Климента, в которой сам же и упокоился (Ipse construxit ecclesiam beati Petri in amfiteatrum et ecclesiam sancti Clementis ubi ipse requiescit). В свою очередь, с именем Пациенса, четвертого по счету епископа, связывают появление церкви св. Арнульфа (Ipse construxit ecclesiam sancti Arnulfi ubi ipse requievit). Характерно, что Павел Диакон на сей счет ничего не сообщает, так что, по-видимому, здесь мы имеем дело с позднейшей устной традицией, формирование которой не прекращалось35.
Отметим также, что во втором и третьем случае приводятся поздние названия церквей (например, церковь св. Арнульфа изначально была посвящена Св. Апостолам36), видимо, как более актуальные на момент появления маргиналий. Позднейшие комментаторы либо вовсе не знали оригинальных названий, либо, что более вероятно, не считали эту информацию ценной и полагали, что ею можно пренебречь ради решения других, куда более важных задач – существенного удревнения истории отдельных церквей, наиболее значимых для формирования городского сакрального ландшафта, с одной стороны, и напоминания о ключевых творцах этого ландшафта – с другой. В любом случае, перед нами еще одно свидетельство того, сколь специфическим образом в кругах каролингского клира функционировала живая историческая память, демонстрировавшая удивительную гибкость, подвижность и способность быстро адаптироваться к его актуальным потребностям.
А.И. Сидоров
Darmowy fragment się skończył.