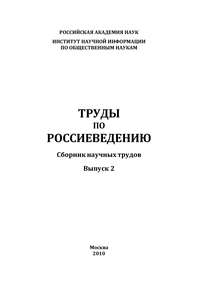Czytaj książkę: «Труды по россиеведению. Выпуск 2»
От редактора
Большинство материалов второго выпуска «Трудов по россиеведению» посвящены постсоветской России, точнее – России 2000-х. Нам хотелось рассмотреть это время сразу с нескольких «площадок», синтезировав – в той мере, в какой нам это доступно, – разные исследовательские подходы. Конечно, любые подходы ограничены, однако, дополняя друг друга, они способны создавать эффект резонанса, взаимоусиления, стереоскопического видения объекта.
Кроме того, мы попытались расширить и усложнить объект исследования, поместив настоящий момент в исторический контекст, придав ему темпоральное измерение. Эти интерес к истории, потребность видеть современность в «долгом» ракурсе вовсе не означают поиска «тавтологий» российского бытия, желания объяснить настоящее тем, что уже было, и уж тем более тем, что так было всегда. Конечно, все сложнее. Мы исходим из того, что постсоветская Россия – принципиально новый социоисторический феномен; его непродуктивно описывать в старых категориях. Однако было бы глупо отрицать связь нашего времени с иными русскими эпохами, наличие в нем глубинных определенностей, вырастающих из прошлого. Замкнуться в настоящем, нацелив на него весь арсенал западных теорий, – значит ничего в этом настоящем не понять (мы, конечно, не ставим под сомнение качество этих теорий; речь идет об их объяснительных возможностях для русского материала).
Современность не «вычитывается» из прошлого, но в нем возможен поиск смыслов, способствующих ее пониманию. Это особенно важно для России: здесь новые эпохи строятся на разрывах, на принципиальном отрицании преемственности; и в то же время при становлении и самоутверждении нового происходит компенсаторная активизация традиционных механизмов, связей, опыта. Их действие (и действия над ними, совершаемые в своих интересах «элитами») обессмысливают перемены, демпфируют их, придают им новые ориентиры, «переопределяя» развитие. Историческая призма необходима для познания России. Любые познавательные конструкции не могут абстрагироваться от опыта; их язык следует «заимствовать» не только «извне», но и из «словаря» русской истории и ее исследователей, из устойчивых речевых стереотипов, исторического образно-метафорического ряда. Конечно, мы не предлагаем абсолютизировать этот подход и вовсе не склонны впадать в «самобытничество», производя новые мифы по поводу самих себя. Речь идет о возможном методе исследования, способе саморефлексии, одном из аналитических подходов – не более того.
И наконец, нам хотелось выделить актуальные, «растиражированные» темы, создающие образ («для себя» и «для других») новой России. Одна из таких тем – модернизация, буквально ставшая «слоганом» 2010 г. Мы пытались понять, что скрывается за этим «социальным ярлыком», почему он оказался столь востребованным именно сейчас, на явном модернизационном «спаде», в фазе «демодернизации». Наш интерес не имеет ажиотажно-сиюминутного, идеологизированного характера. Для российской культуры это чрезвычайно важная тема, звучащая и как исторический анекдот – модернизация в России всегда не ко времени и не по силам, но бывают моменты, когда даже разговоры о ней выглядят как издевательство или слабоумие, – и как историческая трагедия: за модернизацию всегда платили непомерную цену, она никогда не приводила к ожидаемым результатам, натыкаясь на новые и заводя в старые исторические тупики. Мы – особенно в ХХ в. – выглядим как страна безнадежная, не поддающаяся такой модернизации, которая работала бы на социальное благополучие и мир. Поэтому для нас актуален вопрос: от какой модернизации нам не следует отказываться? А при ответе на него важен ракурс соотнесения России с миром, его ценностями, вызовами, ответами на изменения.
А вот другой вопрос, постоянно нас «догоняющий» и застающий врасплох: зачем нам прошлое и чем обусловлен выбор «подходящих» (каждой новой) современности образов прошлого? Актуальный в течение всего ХХ в., он стал просто вопросом вопросов дня сегодняшнего. Наше настоящее, отличающееся наследственно-небрежным отношением к историческому наследию (точнее, пренебрежением им), при этом обложено прошлым, как ватой, предохраняющей от ударов и повреждений. Почти все живут с оставшейся от прошлого «матчасти» (месторождений, заводов–газет–пароходов, родства и связей или учреждений, недвижимости, земли, или квартир, дачных участков и т.п.), а также пользуются прошлым как символической защитой.
Прошлое-символ нужно для того, чтобы убежать от настоящего: постоянно напоминать себе, что мы способны не только «балдеть» и «хаметь» от «хорошей» жизни, выкручиваться и «сатанеть» от жизни «для всех», но и строить, конструировать, запускать, сочинять и освобождать, завоевывать, побеждать и быть в мировом «авторитете». Но это не все. С помощью прошлого мы защищаемся и от него самого, от времени вообще, подпирая «прочными» историческими конструкциями свои вечные «тупики», «колеи», «застойные» паузы, свои нежелание и неспособность цивилизованно и ответственно отвечать на вызовы новых эпох, «глушим» свой страх перемен. За счет прошлого, путем его препарирования мы пытаемся – во всяком случае таков опыт ХХ – начала XXI в. – удержаться в одном времени, в какой-то придуманной нами вневременно́й «дыре». Для этого наследие разоряем, историю дробим, мажем в черно-белые тона; хорошо залакированным, «бесспорным», достойно-героическим прошлым прикрываем то, которое требует к ответу, напоминает об утраченных возможностях, пугает разнообразием, сложностью и возможностью разночтений.
В отношении к прошедшему мы по преимуществу мародеры. И оно отвечает нам адекватно: не «дается», ускользает от понимания; служит эффективно, но краткосрочно; отсекает от перспектив, ориентируя на повторение, возвращение, топтание на месте. Постоянно самоопределяясь через прошлое, сделав его основой своей идентичности, мы совершаем один и тот же порочный выбор: «грузим», нагнетаем, навязываем себе то, от чего по здравому размышлению следовало бы отказаться; отрицаем, отвергаем, громим, «реконструируем» «по-новомосковски» то, что несет в себе хоть какие-то шансы, подталкивает к размышлениям, сомнениям, самокритике. Отсюда – усеченность, бедность, ненаполняемость нашей памяти, ее смыслоотвергающий потенциал, тяга ко лжи (у нас всегда актуален массовый запрос: «обмани нас правдиво!») и компенсаторная потребность в «лжеобличении» и «правдовосстановлении» (не случайно в 2000-е стали модными «слоганы»: с одной стороны, «история непознаваема, это всегда миф», с другой – «историческая правда необходима, она – в документе, в архиве, в памяти очевидца/участника…», «боритесь с фальсификаторами истории!»). Разговор о конструировании прошлого, его востребованных, «тиражных» образах – это всегда разговор не об истории (или не столько о ней), а о состоянии современного общества. Именно в таком смысле важны материалы о постсоветской памяти, о специфике «воспоминаний» 2000-х, которые вошли в этот выпуск.
Столь же актуальны на первый взгляд вполне ретроспективно-«архивные» и в этом смысле нейтральные материалы рубрики «Наследие – наследникам». За этими текстами, безусловно, представляющими и самостоятельную ценность, – вечный спор разных русских эпох, полемика между изгнанным, ушедшим, утраченным и победившим, действующим, определяющим нас теперешних. (В таком контексте вовсе не случайным кажется жанр одной из публикаций – дискуссия с источником/автором/мнением из прошлого.) Выяснение отношений между тем, что было, и тем, что есть, имеет смыслообразующее значение: только поняв, что в нашей истории было жизнеспособно или обречено, что следовало уничтожить или сохранить, можно освободиться от груза прошлого, совершенно сознательно принять его, выстроить преемственные линии и обозначить свое сегодняшнее место во времени. Неразрешенный спор эпох выливается в современные «бои вокруг истории»; гражданское противостояние по поводу прошлого демонстрирует, что гражданская война, развязанная в начале ХХ в., не завершилась и спустя столетие. В такой ситуации невозможны самоопределение, ответ на вопрос «кто мы?» – нас как сообщества нет; отсутствует база для солидаризации – как в отношении прошлого, так и по поводу будущего.
Некоторые материалы «Трудов…» представляют для нас интерес по не вполне очевидным причинам. Это касается прежде всего рубрики «Семинары Центра россиеведения». Будучи посвящены важным темам и дополняя материалы разделов «Современная Россия» и «История и историческая память», семинары являются своего рода собранием актуальных мнений, позиций, взглядов на политическую ситуацию в стране. Поэтому дают некий срез не только состояния определенных проблем, но и состояния научного сообщества.
Как нам кажется, семинары (да и не только они) демонстрируют важную тенденцию в современных (в данном случае политологических) исследованиях. В постсоветское время мы многое узнали и поняли о себе, о режиме и культуре; в общем-то, сложилась смысловая конструкция 2000-х. Достаточно очевидно, что наличная действительность с политической точки зрения малоинтересна и малоперспективна. Поэтому исследователи, не перешедшие полностью и окончательно на официальные позиции, сосредоточиваются либо на эмпирическом анализе, либо на «производстве» объяснительных моделей («маленьких» теорий, схем и т.п.). Многие из них не столько интерпретируют наше настоящее (оно, повторю, достаточно очевидно – что-то между скучновато и страшновато), сколько конструируют – рядом и взамен – новую реальность. В ней присутствуют игра, динамика, наконец, политика – здесь есть, с чем работать. Исследователи порождают пространство исследования. Этот тип адаптации (не скажу капитуляции) к действительности знако́м по советским временам (конечно, цели и средства тогда были другими). И он свидетельствует о наличии важных дефицитов нашего настоящего.
К «части» мнений и взглядов тяготеет небольшой, но важный раздел «Трудов…» – «Рецензии». Дефицит такого рода материалов, кризис самого жанра рецензирования, принадлежащего пространству научной полемики, особенно ощутимы в последнее время. Кажется, что пишущие друг другу малоинтересны, – откликов на чужие писания почти нет, что обессмысливает процесс исследования. Поэтому заявленный раздел для нас чрезвычайно важен. Он открывается отзывом на книгу о современной России, вышедшую несколько лет назад, в 2007 г., но вовсе не потерявшую актуальность.
Мы продолжаем темы и рубрики, заявленные в первом выпуске «Трудов…». Очевидно, что в издании по россиеведению должны появляться материалы, уточняющие предметные рамки этого исследовательского направления. Подчеркнем: при всем интересе к россиеведению его предмет крайне неопределен, «нестабилен». Круг значимых имен, идей, методологий не выявлен; идет поиск своей научной ниши. Если цель россиеведения – самопознание (и выработка для этого адекватного инструментария), то главная проблема – самоопределение, институционализация. Мы видим свою задачу в инициировании дискуссии на тему «что есть россиеведение в России?», в «архивировании» текстов, отражающих наиболее типичные или, напротив, неожиданные суждения, идеи. В этом смысле нам кажутся интересными материалы рубрики «К вопросу о россиеведении», отражающие ситуацию с русскими исследованиями за рубежом и проецирующие этот опыт на Россию. Интересны они прежде всего своей спорностью, дискуссионностью, тем, что провоцируют на размышления.
Интеллектуальная «провокативность» присутствует и в тексте нашего венгерского коллеги «Эссе о русском». Знакомство с ним (и, конечно, не только с ним) наводит русского по крайней мере на две мысли, вроде бы противоречащие самому тексту. Первая: для того чтобы быть русофилом, западному человеку лучше изучать Россию на дистанции, смотреть на нее «со стороны». Долгая близость не способствует упрочению симпатии. Вторая: чем лучше европеец понимает русский мир, чем глубже в него проникает, тем больше «чуждостей» он в нем обнаруживает. Наша неевропейскость – не в бытовом укладе жизни (это лишь следствие), а в культурно-ментальном «складе» человека, в культуре. Не только мы, русские, в большинстве своем самоопределяемся как (в лучшем случае) не- или (в худшем) анти-Запад. Европейский человек при столкновении с Россией дилемму – что это: другая Европа или нечто совсем иное, – разрешает, скорее, в пользу несходства. А здесь уже возможны варианты: от признания нас «экзотикой» (Африка или Индия, но белая и на севере), которую следует принимать, как она есть, – до русофобства. Его база, как представляется, – не в политическом заказе, а в интуитивном понимании чуждости.
Основная идея, «сверхзадача» этого выпуска – описание состояния современного российского общества через разные сферы его жизнедеятельности, поиск смысловых рамок нашей эпохи, ее определяющих значений. Решению этой «сверхзадачи», по нашему мнению, способствуют материалы завершающего раздела «Трудов…». Его обширность в этом издании представляется вполне оправданной. Более того, здесь срабатывает закон перехода количества в качество: сцепляясь в некое единство, эти тексты указывают на наличие в нашей жизни отчетливых признаков того социально-властного устройства, которое стало принято называть «русской системой». Это вовсе не только (а, может быть, даже не столько) русская власть, но и среда ее обитания, т.е. социум, люди, мы.
И.И. Глебова
Конец десятилетия
(Вместо предисловия)
Решение посвятить этот выпуск «Трудов по россиеведению» проблемам современной России (условно говоря, России 2010 г.) связано с целым рядом обстоятельств.
Юбилейный 2010-й
2010 год оказался «неожиданно» юбилейным. Причем в зеркале этих юбилеев мы можем увидеть некоторые важные черты России первого десятилетия XXI в. Итак, это и 100 лет со дня ухода и смерти Льва Толстого, и 90 лет со дня фактического окончания Гражданской войны и победы в ней «красных», или большевиков (о чем, кажется, никто не вспомнил), и 65 лет окончания Отечественной и Второй мировой войн, и 30 лет проведения московской Олимпиады (почему это событие так значительно, мы еще скажем), и 25 лет со дня начала перестройки, и 10 лет правления В.В. Путина (два последних, «медведевских» года в целом суть продолжение предшествующего режима).
Итак, по порядку. 1910 год. В России заканчивается «золотой» XIX в. Уход Толстого символизировал собою завершение периода расцвета и подъема (еще два-четыре года для истории не существенны, не заметны). «Бунт» Толстого по своим глубине и опасности был не менее значим, чем революция 1905–1907 гг. Может быть, самое яркое, что произвела Россия в свой «золотой» век, порывает с ней – ее церковью, ее государством, ее семьей, ее социальным устройством – всякие связи. Так Толстой, который был (здесь Ленин прав) «зеркалом русской революции», сам стал русской революцией. Кстати, такое в нашей истории уже случалось. Вспомним Пушкина, как-то в разговоре заметившего: Петр Великий есть настоящая революция. То же самое можно сказать и о Толстом. Сегодня мы не представляем себе масштабов того морального влияния на российское общество, которое имел этот яснополянский рюрикович. И потому его «нет» было грандиозным отрицанием всей той России. (Некоторые современники – например, Т. Манн и А. Блок – полагали, что если бы Толстой был жив в 14-м году, то не началась бы мировая война («всем стало бы стыдно»), а в 17-м году – революция. Конечно, они ошибались, особенно Блок: ведь, повторим, Лев Толстой и был революцией.)
В какой-то момент показалось, что если с уходом Толстого Россия вступила в свой страшный ХХ в., то с возвращением Солженицына, которое произошло три четверти столетия спустя, она вернулась на какие-то исконные, органические пути (чего так страстно хотел Александр Исаевич). Но этого не произошло. Как всегда, Россия идет, безусловно, своим, но – и опять же, как всегда, – новым, неизведанным путем. (Собственно, этому и посвящен очередной выпуск «Трудов по россиеведению».)
1920 год. Очевидная и безусловная победа большевиков в Гражданской войне. Всякому нормальному человеку становится ясно, что с вооруженным сопротивлением новому режиму покончено. Россия разрушена до основания, до тла – Россия «во мгле». Победители получают возможность строить свой новый мир. Именно тогда начинает складываться советская система, наследниками и продолжателями которой являемся мы. Но тогда же рождается и другая Россия («Россия в изгнании», З. Гиппиус), которая в интеллектуальной и эстетической форме блистательно реализует те интенции и тот потенциал, что были накоплены нашей страной в ее золотой век. К сожалению, они не воплотились в социально-институциональной сфере.
1945 год. Единственное, пожалуй, безусловное событие в советской истории. При всем том непредставимом ужасе 1941–1945 гг., при всех тех ни с чем несоизмеримых преступлениях сталинского режима (прежде всего по отношению к собственному народу), при всех тех неисчислимых жертвах, которые положили на алтарь Победы народы Советского Союза, война и Победа стали главным внутренним подвигом русских людей ХХ столетия. Внутренним потому, что режим сделал все от него зависящее, чтобы народ отказался воевать.
Война и Победа явились фундаментом еще одной попытки России построить гражданское общество. Оттепель, шестидесятничество, правозащитное и вообще диссидентское движение, мощный подъем русской культуры в послевоенные десятилетия имеют своим источником войну. Скажем больше. В ходе и в результате войны Россия вновь начала обретать себя. Она сумела доказать (в первую очередь, себе), что полного краха не произошло. Последовавшие подъем экономического благосостояния «широких народных масс» (середина 50-х – конец 70-х), научно-технические достижения, атомный проект, космос и т.д., несомненные успехи в сфере социально-гуманитарных наук, да и вообще модернизационный рывок также суть следствия войны и Победы. Именно в те годы первый поэт России ХХ в. Борис Пастернак зафиксирует: «Я как от обморока ожил».
65 лет со дня окончания Второй мировой войны, как это ни парадоксально, для России ничего не означают. Никаких эмоций относительно этой войны и этой победы у нашего народа нет. Может быть, единственное, что вызывает оживление или интерес, – это споры на тему, «каков был вклад союзников в нашу победу, была ли их помощь СССР значительной, решающей, несущественной и т.п.». Но все это второстепенно по сравнению с отношением россиян к Отечественной войне. Интернационализация войны и Победы для нашего человека – «элитарного» и массового в равной мере – невозможна, так как меняет (точнее, отменяет) ее смысл.
Этот пример демонстрирует важнейшую культурно-ментальную характеристику. Мы, русские, по-прежнему понимаем себя как весь мир, а не его часть, не желаем мириться со своей частностью. Поэтому и мировую историю, и мировую войну редуцируем к отечественным. Именно здесь источник нередкого у нас воинствующего национализма, отрицающего (презирающего) Другого и на этой основе возвышающего себя. Внутренняя «недостаточность», культурная «элементарность», неуверенность в себе, которые компенсируются комплексом «избранничества», – все эти болезненные свойства национального организма, на которые впервые так отчетливо и резко указал Чаадаев, в нас не просто остались, но в советские времена были развиты и укрепились в качестве «основы». На ней – видимо, за неимением других оснований – и стоит сегодняшняя Россия.
1980 год. Год обещанного коммунизма. Советская власть (власти) как всегда сдержала слово. Как пелось в популярной советской песенке: «И что было задумано, то исполнится в срок»… Исполнилось. Коммунизм пришел в СССР в виде и в рамках Московской олимпиады (у него даже был свой символ – «ласковый Миша» из «сказочного леса»). Советский человек, хоть и несколько дней, но пожил при коммунизме, о необходимости и неизбежности которого говорили двадцать лет. Кто-то поучаствовал в этом лично, другие (большинство) знали понаслышке, но время от времени всех еще подпитывает ощущение радости, счастья случившегося.
В 2010 г. об Олимпиаде вспомнили, по ТВ прошли соответствующие сюжеты и фильмы, создали даже Оргкомитет по празднованию 30-летия. Интересно, что говорили не о спортивных победах или неудачах, не о спортмероприятии, а об атмосфере тех дней – непривычно (для Москвы и СССР) доброжелательной, спокойной, радостной. В воспоминаниях ощущались невероятная, даже какая-то щемящая ностальгия, странное – человеческое, нежное – отношение к официальному, вроде бы, событию. Как будто люди пережили момент счастья, личного и общего одновременно, сближающий их и теперь. Мне всегда было непонятно такое восприятие Олимпиады 80-го. Оно явно не случайно, но чем вызвано?
«Разгадка», мне кажется, и заключается в том, что для советских людей спортивное событие приобрело важное социальное значение – реализовалась мечта. Тогда по Москве ходили шутки: мы и впрямь дожили до коммунизма. Москвичи вспоминают: летом 80-го, к мероприятию, в магазинах неожиданно появилось неслыханное по тем временам многообразие продуктов (т.е. некоторый выбор), город стал чистым, каким-то более уютным и нормальным. Он напоминал картинки Москвы из советских фильмов. Куда-то исчезли хаотические толпы, которыми и в то время была запружена центральная часть столицы (они составлялись не только из москвичей, но и из наезжавших в Москву в поисках продовольствия жителей «ближнего» и «дальнего…», командировочных и т.п., что было связано со сверхцентрализацией во всех отношениях советского общества). Из города убрали бо́льшую часть тех, кто потенциально (и актуально) мог нарушить общественный порядок. А в Москву приехали многочисленные зарубежные туристы, внесшие в нее непривычное разнообразие. И все это вкупе с празднично одетыми «хорошими» москвичами создавало иллюзию какой-то новой, необыкновенной, более богатой и красивой жизни. В общем, коммунизма.
Слово для обозначения происходившего нашлось совсем не случайно. В представлении и тогдашних советских вождей (начиная с Хрущева), и бо́льшей части народа «коммунизм» ассоциировался с сытой, «красивой», спокойной (в том числе безопасной) и праздничной (нерабочей, но и не безработной) жизнью. Образ коммунизма был в чем-то схож с наличной реальностью – скажем, с поездкой деревенского жителя в город и удивленно-радостным переживанием тех возможностей, недоступных в деревне, которые город в себе таил. Это зафиксировано, например, в прозе и кино В. Шукшина. Коммунизм воображался как «высшая стадия» нашей бытовой жизни, что-то сродни походу в магазин «Березка» или отдыху в Карловых Варах, на Балатоне, болгарском побережье Черного моря.
Вообще уровень мечтаний простого советского человека (а тогда он еще мечтал) был невысок. Коммунизм – советская мечта о нормальной жизни, нормальном городе (на манер обычного среднеевропейского), нормальных отношениях между людьми, между властвующими и подвластными и т.п. И вот мечта неожиданно «сделалась былью» в июле 80-го.
Конечно, «быль», как и все были, не могла быть точной копией мечтаний. «Реальный» коммунизм имел ограниченный – во всех смыслах этого слова – характер. Как вспоминают те же современники, необыкновенно сильным было ощущение искусственности, кратковременности и, как сказали бы сегодня, эксклюзивности происходящего. На деле вышел «урезанный», нестойкий, бедненький коммунизм. Но ведь и это понятно. Особенно его «урезанность», бедность: крайне ограничены были социальные ресурсы. Что касается искусственности, то представления о коммунизме всегда носили очень надуманный характер. Можно было тысячу раз получать пятерки на экзаменах по предмету «научный коммунизм», излагая историческую логику неизбежности «высшей стадии социализма», но как «стадия» должна устроиться в реальности, никто, разумеется, – от членов Политбюро до любого советского человека – наверняка не знал. Вот с «реальным социализмом» все было понятно: в нем жили. А коммунизм и в 1980-м оставался сладкой сказкой.
Говоря о ее воплощении, нельзя, конечно, забывать других знаковых событий 80-го года: вступления наших войск в Афганистан (это, кстати, как и «олимпиадный коммунизм», – нечто усеченно-непонятное, противоречивое и «недоделанное»; введение «ограниченного контингента» – не полновесное вторжение, не объявление войны, но точно и не «товарищеская помощь дружественному афганскому народу»), ареста Сахарова, разгрома диссидентского движения и полного зажима интеллигенции, ухудшения продовольственного снабжения по всей стране (особенно болезненного для нашего населения, неоднократно переживавшего в ХХ в. голод). И наконец, был еще бойкот Олимпиады ведущими странами Запада, что создавало ощущение если не провальности, то ущербности мероприятия. А ведь Олимпиада для тоталитарных режимов (Германия в 1936 г., СССР в 1980 г., Китай в 2008 г.) – событие прежде всего политического, а не спортивного характера; точнее, это эксплуатация спорта в интересах политической мобилизации.
Все вместе создавало вокруг Олимпиады атмосферу неуверенности, еще бо́льшей, чем прежде, изолированности, отъединенности от мира, опасного одиночества. К тому же со всех концов Союза в Москву нагнали милиционеров. Действуя вежливо, они тем не менее придавали столице имидж «режимного объекта». Это кредо советского: функция обеспечения порядка неизбежно влекла за собой установление полувоенного (в лучшем случае) положения.
Видимо, только так и мог быть построен коммунизм в СССР: на несколько дней, в одном городе, на фоне спортивных достижений, в формате одновременно декорации/зрелища и охраняемого «спецмероприятия». Парад, конкуренция – но только в спорте, охрана (с послаблениями в режиме), увеличение «пайка», порядок/безопасность, организованное народное ликование, ограниченное «конвоирование» (т.е. усеченная свобода передвижения и общения), некоторая степень открытости миру при угасании внутренних страхов и ощущения внешней угрозы – вот, видимо, советская формула «хорошей жизни» (социализма, «развившегося» до высшей стадии). В ее возможность так долго верили, что подобие с готовностью приняли за реальность. Но всякое счастье, как известно, ненадолго. Окончился наш краткосрочный и ограниченный коммунизм практически тогда же, когда и начался. Мы даже точно знаем дату: 28 июля 1980 г., в день похорон В. Высоцкого.
Впервые после 12 апреля 1961 г., дня полета Гагарина, огромные массы москвичей спонтанно – не по принуждению властей, а что называется «по зову сердца» – вышли на улицы. Там не было ничего искусственного, нереального – людей вело настоящее горе, ощущение потери. И потому из толп они мгновенно преобразились в народ. У И. Бродского есть слова: «Только размер потери и делает смертного равным Богу». С ортодоксально-христианской точки зрения это утверждение сомнительно. Но мы его используем, скорее, как метафору. Высоцкий в 70-е стал важнейшей составляющей внутреннего мира огромной части советского населения – от шахтеров до министров, от диссидентов до гэбешников. Именно его голос в то десятилетие был «эхом русского народа». Смерть первого в то время поэта России, народные похороны и народная скорбь «закрыли» московский коммунизм.
Только сегодня становится ясно, что выход масс на улицы и площади Москвы летом 80-го был исторической репетицией тех событий, которые произойдут – прежде всего в нашей столице – во второй половине 80-х: массовых демонстраций, митингов и шествий эпохи перестройки. Из дня сегодняшнего понимаешь, что народная акция «на смерть поэта» была свидетельством готовности советских людей к переменам (вскоре, кстати, об этом скажут другие поэты, ставшие голосом новой эпохи). Реальная история смела олимпийские декорации 80-го, весь тот советский коммунизм, который смог осуществиться лишь как «потемкинская деревня». Однако говорить снисходительно о нем не стоит. Ведь даже для установления коммунизма на несколько дней в одном отдельно взятом месте и в декоративной форме потребовалось сверхнапряжение всей страны, всех ее ресурсов (что засвидетельствовано участниками «строительства»). Кроме того, как показала дальнейшая история, то был единственный момент, когда мечта о коммунизме – хотя бы в таком виде – могла реализоваться. 1980 г. – «высшая стадия» развития советской жизни, советского мира. Не случайно с ним связано и воплощение советского мифа.
В начале 80-х советская история стала напоминать «хронику пикирующего бомбардировщика». Все пошло «вниз»: один за другим умирают властители, необратимо портится экономика, в «вязкой» и стойкой апатии цепенеют люди. А коммунизм улетел вместе с символом Олимпиады, Мишкой, в день ее закрытия. «До свидания, наш ласковый Миша!» – до сих пор звучит трогательно-ностальгически. А другой – вполне реальной, но тоже «ласковый» – Миша уже был в Москве.
1985 год. Начало перестройки. Конечно, тогда никто еще не знал, что в действительности надвигается. А сейчас мало кто помнит и понимает, что произошло. Хотим мы или нет, то была четвертая русская революция, антикоммунистическая и антисоветская по своей природе. На ней закончилась история коммунизма в России. Коммунистический эксперимент провалился – это факт, из которого следует исходить. Через четверть века мы живем в другой стране, с другим социальным строем, с другой территорией, с другим населением. Теперь, зная, чем закончился советский коммунизм и что сформировалось после его падения, граждане этой страны совершенно иначе видят (должны видеть) и свою историю в целом, и историю ХХ в., и – что, может быть, важнее всего – самих себя.
Четвертьвековая годовщина начала перестройки – прекрасный повод поразмышлять над тем, каков исторический субъект российской жизни, его качества, возможности, перспективы. Иными словами, именно по прошествии постперестроечной «переходной» эпохи мы можем спокойно, трезво, без всяких надежд, отчаяний, фантазмов рассказать (как и подобает исследователю), что делал русский человек в XIX – начале ХХ в. и чем это закончилось; чем занимался тот же человек на протяжении бо́льшей части ХХ столетия; что он совершил в его конце и начале следующего.
При этом мы находимся в абсолютно уникальной ситуации. Среди нас еще есть люди, воспитанные предреволюционным поколением; мы сами – стопроцентный продукт советского времени и непосредственные участники постсоветской эволюции. Не через книги и не понаслышке нам удалось пережить все три последние русские исторические эпохи. Причем, повторим, мы знаем, чем они начались и как закончились. Таких исходных условий в силу неумолимости биологических законов не будет у поколений, идущих за нами. Следовательно, главная наша задача – выработка адекватного знания о России. Или, выражаясь пафосным языком одного из самых известных персонажей нашего времени, у нас есть «единственный проект – наша страна» (А. Чубайс).