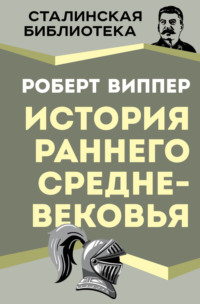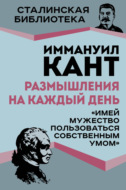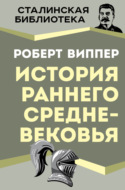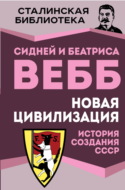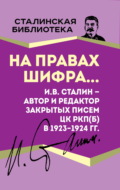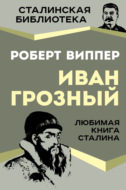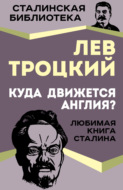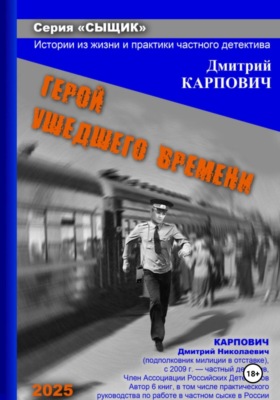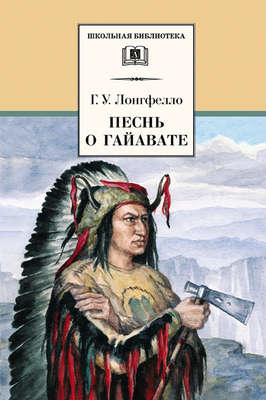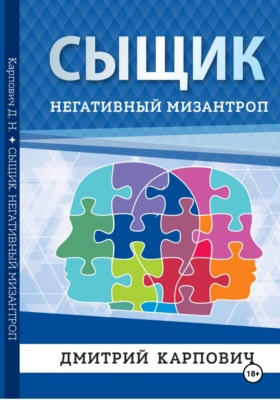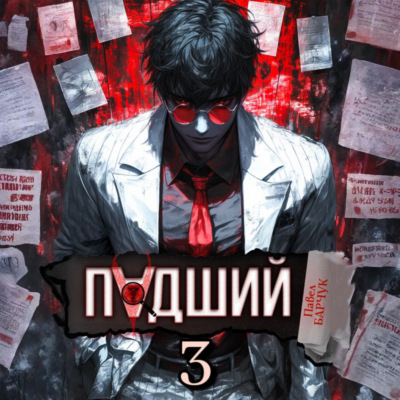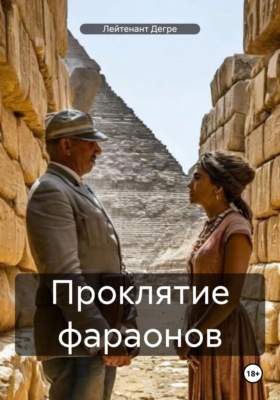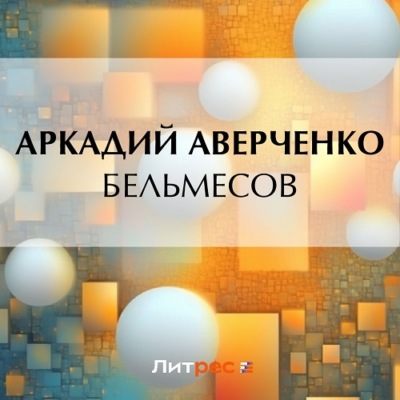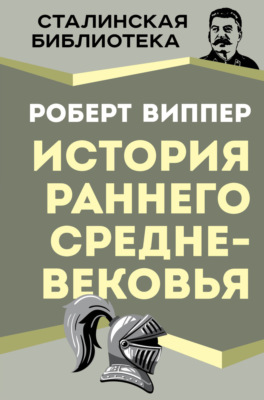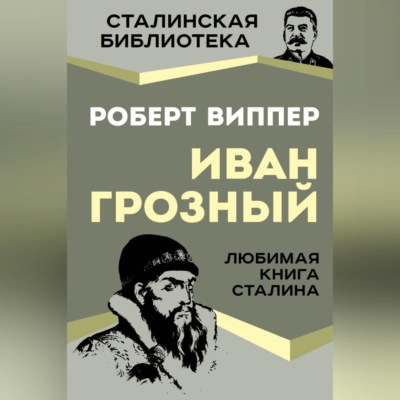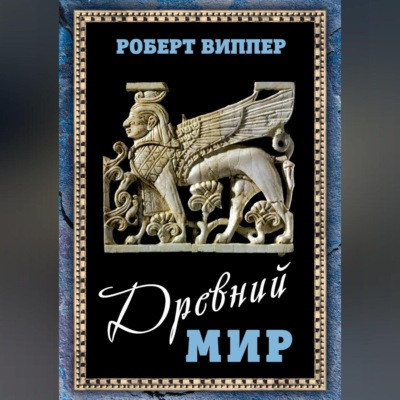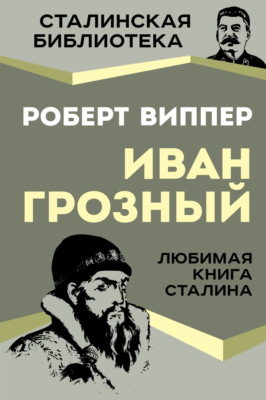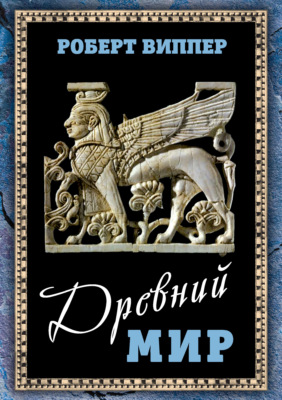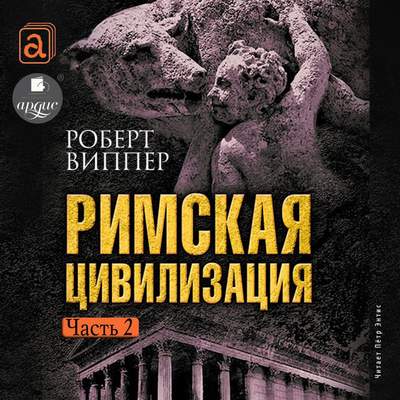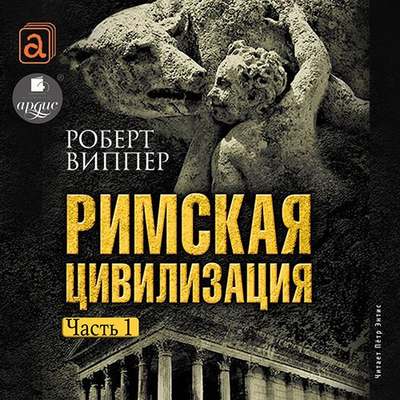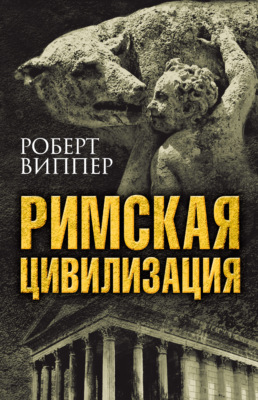Czytaj książkę: «История раннего Средневековья», strona 2
Великая китайская империя
Во время своего разделения на уделы Китай жестоко терпел от набегов кочевых племен, напиравших с севера и с запада. Но как раз удел Циньский, помещавшийся на западной границе и выдерживавший самую трудную борьбу с варварами, закалил свои силы в этих боях; около 300 г. до Р.X. он перерос по своему могуществу все другие уделы, вместе взятые. Циньский ван (князь) Чжуан-сян устремил свое оружие на покорение восточных областей, заставил отречься от престола последнего представителя Чжоуской династии (в 256 г.) и основал новую (четвертую) династию, Циньскую.
Против его сына, Чжена (246–210 до Р.X.), получившего власть в самой ранней молодости, составился большой союз восточных князей. Чжену пришлось бороться с врагами в собственном доме; сурово расправился он с родной матерью, пытавшейся занять престол вместе со своим возлюбленным. За такое непочтительное отношение к родительнице Чжен подвергся резкому осуждению конфуцианцев. С этого времени началась его вражда к ученым, которые вместе с тем служили главной опорой самостоятельности уделов.
Неизменно счастливый в своих походах, Чжен сломил сопротивление удельных князей; все они, один за другим, ему подчинились. В 221 г. он сделался единодержавным правителем всего Китая и усвоил громкий титул Шихуанди, что можно перевести как «августейший император», а также «владыка лёсса» (лёсс – желтая плодородная земля северного Китая, отсюда желтый цвет сделался придворным).
Объединитель Китая был самой крупной личностью среди китайских императоров, полный энергии и жажды деятельности, но в то же время жестокий и нетерпимый. Для зашиты от нападения варваров со стороны пустыни на севере он начинает постройку великой каменной стены. Для себя он строит громадный дворец, сгоняя на работу 700 000 осужденных на каторгу преступников. Тотчас же после объединения империи он приказал отобрать у жителей побежденных уделов оружие и отправить его в новую столицу Сян-ян (на притоке Янцзы), куда в то же время были переведены на жительство 120 000 семейств тех военных людей, которые отличились в боях за объединение империи. Затем Шихуанди отправился для обозрения своих новых владений на окраинах империи. Чтобы достойно принять государя, чиновники на местах выстроили превосходные дороги. Шихуанди выразил желание, чтобы такие дороги были всюду между главными городами областей.
Он вообще хотел настойчиво ввести везде однообразные порядки управления с тем, чтобы скрепить разрозненные до тех пор области и заставить население бывших удельных княжеств забыть свои особенные обычаи. В лице главного министра Ли-Сы император нашел ревностного и беспощадного исполнителя нововведений. Среди других мер Ли-Сы предложил упростить необыкновенно сложное китайское письмо, заменив принятое в каждой области особое написание слов однообразной для всего Китай орфографией.
Эта перемена правописания вызвала сильное недовольство в среде образованных чиновников бывших удельных княжеств, которые держались учения Конфуция, крепко стояли за старину и за самостоятельность областей. Ли-Сы не остановился перед самыми суровыми средствами борьбы. Он сделал императору следующий доклад: «Вы, государь, открыли новые пути и способы управления, благодаря которым навеки должна утвердиться Ваша августейшая фамилия. Все приветствуют и почтительно встречают их кроме книжников, которые не хотят на них согласиться.
У них на устах все время обычаи старины, они беспрерывно только об этом и толкуют. Неужели вы, государь, позволите этим людям переезжать из одной области в другую, как прежде во времена усобиц, отыскивать преданных им князей и помогать им в мятежах и восстаниях?»
«Мое мнение, что новые буквы, введенные вами, необходимо сделать обязательными, под страхом самых тяжелых наказаний. Для того чтобы скорее дойти до цели, нет лучшего средства, как сжечь Шу-цзинь и Ши-цзинь и вообще все книги, кроме лишь тех, которые содержат сведения о медицине, астрономии и гаданиях о судьбе, а также историю Циньского царствующего дома. Далее велеть всем, кто имеет старые книги, под страхом смерти выдать их властям на сожжение; после этого всякого, кто осмелится говорить о Шу-цзине и Ши-цзине, подвергать всенародно смертной казни; тому же наказанию предавать неисполнительных чиновников и всех, кто осмелится осуждать меры правительства… Когда во всех домах останутся лишь одни дозволенные книги, написанные по новой азбуке, они возьмут верх и вытеснят все другие».
В 213 г., на 33-й год своего правления, Шихуанди выпустил указ, согласно советам Ли-Сы, о сожжении книг, составленных Конфуцием и его учениками. В самой столице Сян-яне ученые и знатоки старинной литературы подняли открытый ропот. Тогда Шихуанди показал всю свою жестокость: в столице 460 человек, признанных вожаками недовольных, были закопаны живыми в землю; в разных городах сожгли несколько сот конфуцианских ученых.
Преследуя немилосердно конфуцианцев, Шихуанди увлекался в то же время учением даосов и в особенности их поисками волшебных средств, дающих бессмертие и вечную юность. Он разделял веру в существование на дальнем востоке островов блаженных, служащих местопребыванием бессмертных духов и скрывающих чудесное растение, которое дает вечную молодость. Много раз мечтатели отправлялись в открытое море к райским островам, но либо их отгоняли противные ветры, или корабли подвергались крушению. Шихуанди, который во всем был готов на решительные действия, задумал испытать чудо, посадив на корабли невинных детей; но и на этот раз сильные ветры помешали искателям добраться до цели, хотя они уверяли, что видели издали предмет своих желаний.
Вскоре после жестоких указов и казней ученых Шихуанди умер (в 210 г.), и тут сразу обнаружилось, как слаба империя, наскоро сколоченная внешними завоеваниями, как ненавистны правители, которые хоть и дали стране величие и мощь, но в то же время решились опрокинуть ее старые обычаи и местные особенности. Сын Шихуанди был убит одним из придворных после трехлетнего правления. Внук великого императора Ин-ван покончил с собою, когда войска его перешли на сторону мятежного командира Любана. Так оборвалась Циньская династия. Победитель Любан, в качестве императора принявший имя Као-цу, основал самую знаменитую в истории Китая (пятую) династию, Ханьскую (с 206 до Р.X. по 221 после Р.X.).
Между тем как Циньская династия враждовала с конфуцианцами, Ханьские императоры, напротив, построили свое управление на союзе с этой партией. Преследование книг и ученых со стороны Шихуанди и Ли-Сы, вместо того чтобы убить дело Конфуция, послужило только к возвеличению его памяти. Осуждая на сожжение составленные им сочинения, преследователи как бы окружили образ Конфуция светом мученичества. Императоры новой династии обратно показывали всем на вид свое глубокое уважение памяти Конфуция. Као-цу в 194 г. посетил могилу ученого и принес ему в жертву быка. В 191 г. до Р.X. был отменен указ о сожжении старинных книг, изданный Шихуанди. Конфуцианцы с необыкновенной ревностью принялись за восстановление текстов, собранных великим их учителем. Каждый отрывок Шу-цзиня, Ши-цзиня и Ли-цзы, извлеченный из развалин, получил значение драгоценной святыни. Император покровительствовал этой работе ученых. В половине II века до Р.X. на месте рождения Конфуция был воздвигнут храм. С течением времени такие храмы возникли во всех значительных городах Китая. Род Кунов, происходящих от Конфуция, до последнего времени пользовался в Китае величайшим почетом; старший потомок по прямой линии назывался Иен-шен-кун, что значит «князь, продолжающий род святого»; его обязанностью было служить у гроба и в храме своего предка. Вслед за возведением Конфуция в святые были возвышены в тот же небесный чин некоторые из его учеников. Ханьские императоры получили в наследство от прежней династии войны на окраинах, особенно с гуннами на севере. Они достроили великую каменную стену (длиной более 2000 верст) и пытались обойти гуннов с фланга, проникнув на восток вдоль Печилийского залива и завоевав Корею. На этом далеко не окончилась борьба с гуннами: постоянно против них посылались военные экспедиции; диких степняков задабривали грузами шелка, риса, вина, иногда отдавали их вождям в жены китайских принцесс.
Между 140 и 82 гг. до Р.X. в Китае правил неутомимый завоеватель Ву-ти, или У-ди, современник Суллы. В 119 г. он одержал решительную победу над гуннами и окончательно избавил Китай от страшных нападений. Врезавшись в самую глубину их кочевья, У-ди покорил восточный Туркестан и, переваливши через большой поперечный горный кряж Средней Азии, дошел до Ферганской долины; здесь он вступил в сношения с греческими царями Бактрии. Вместе с тем он приобрел господство над заднеиндийскими странами: Тонкином, Аннамом и Кохинхиной. Китайская империя дошла до величайших пределов своего расширения.
Конфуцианские правители и народные верования. Попытка Шихуанди перестроить по новому управление Китая и обходиться без помощи ученых знатоков старины окончилась полной неудачей. Ханьская династия, напротив, искала опоры в конфуцианцах и в них видела главное орудие для скрепления широко раскинутых, разноплеменных и разнообразных по характеру частей империи. Знание мудрости Конфуция сделалось необходимым условием для получения должности мандарина (чиновника управления). В течение долгих веков до нашего времени происходили экзамены на чины: экзаменующихся запирали для исполнения письменных работ в особые кельи, где они проводили иногда несколько суток; соревнование было весьма велико, а испытания очень строги, так что, например, на 30 000 испытуемых в трех самых населенных областях выдавались только 500 дипломов. Зато карьера ученого чиновника была вполне общедоступна: в Китае не существовало никаких привилегий (преимуществ) и никаких ограничений.
Образованный высший класс, занимавший должности, удовлетворялся рассудочной (рационалистической, от латинского слова ratio – разум) религией, проповеданной Конфуцием. Сам Конфуций и его ученики, силой императорских указов возведенные в небесный чин святых, богами не сделались: в посвященных им храмах нет никаких идолов или изображений; имена их начертаны на досках, стоящих на алтаре; в честь их только поются гимны и славословия. Почитание Конфуция входит в состав государственных обрядов, исполняемых императором, придворными сановниками и мандаринами. Только правящие и должностные лица могут приносить жертвы и обращаться с молитвами к великому Шанди (по старому обычаю под открытым небом), к солнцу, луне и звездам. Весь остальной народ воспринимает благодать от высших богов не иначе, как через их посредство.
Для конфуцианцев было ясно, что народные массы не могут успокоиться на такой сухой и далекой от них обрядности. Поэтому они допустили старые, привычные народу заклинания бесов, позволили даосам справлять молебны для прекращения засухи, для отражения опасности от тигров, для спасения душ утонувших и т. д., хотя в глазах просвещенных правителей и чиновников все эти обычаи основаны на грубых предрассудках. Мало того: конфуцианцы искусно воспользовались народными верованиями дли целей управления.
Во всяком городе империи чтится особый бог-покровитель, который есть не что иное, как умерший мандарин-правитель данной округи, императорским указом вознесенный в число небожителей. Небесный чин этих богов вполне отвечает значению данного города в империи: на небе такая же лестница почета, как и на земле; перейдя на тот свет, бывший градоначальник как бы продолжает руководить паствой; он ведет летопись добрых и злых дел человеческих: о первых докладывает великому небесному богу, о вторых князю ада. Городской бог – точно соглядатай адского правителя; в его храме обыкновенно изображены на стенах мучения, которым подвергаются нечестивцы в 10 отделениях ада, называемых «подземными тюрьмами».
Конфуцианцы не запрещают верить, согласно понятию даосов, что благочестивые и добрые души опять возвращаются на поверхность земли и возрождаются в каком-либо привлекательном образе и что злодеи, осужденные адским судом, или испытывают вечные мучения, или превращаются в нечистых и безобразных животных. На такое превращение, между прочим, осуждаются заклинатели и священники, которые не исполнили заупокойных молитв, получивши за них деньги: сначала они видят в воздушном зеркале отвратительный образ, который им суждено принять, а потом их заставляют читать неисполненные молитвы в темной адской келье при мерцающем свете лампы по мелко и неразборчиво исписанной книге. Сами конфуцианцы не верят в эти грубые картины адского суда и наказаний. Однако, чтобы вызвать в толпе страх и почтение к духовному главе своему Конфуцию, они распространяют веру, что лица, осмелившиеся разорвать или уничтожить конфуцианские книги, будут на том свете повешены за ноги и заживо ободраны.
Городской бог не только властвует над округой, но у него также есть обязанности перед людьми, он должен заботиться об их благоденствии. Когда, например, слишком долго длится засуха и не помогают никакие молебны, всем становится ясно, что это недосмотр городского бога. В таком случае, с соизволения властей, принимается мера исправления: идол, в котором предполагается присутствие самого бога, выносят из храма; с него снимают все одеяние и заставляют испытать на голом теле жгучие лучи солнца. Если же и это не помогает, тогда остается одно: свергнуть бога с его положения и заменить его другим. Конфуцианцы не только руководят всеми этими действиями расправы над провинившимся божеством, но допускают в них участие даосов, последователей Лаоцзы. Они даже признали должность верховного заклинателя духов, тьенши: потомку волшебника Чандаолина предоставлена важная духовная обязанность – наблюдать за поведением городских богов; он имеет право отнять божественный чин у провинившегося и на место свергнутого предложить нового кандидата. Однако возводить на небо новых богов тьенши не может; все его предложения рассматриваются в столице особым ведомством по делам небесным и все назначения утверждаются императором.
Конфуцианцы допустили, между прочим, обычай приносить в храм шелковые ленты с написанными на них молитвами, списком жертвоприношений, заклинаниями и т. д.; по окончании богослужения ленты сжигаются. Сожжение письмен или рисунков основано на учении даосов, утверждающих, что боги принимают лишь духовную долю всякого дара и приношения, а она освобождается и возносится к небу лишь благодаря сожжению. Вера в чудодейственную силу сожжения, чуждая конфуцианцам, все больше и больше распространялась в народе; но так как шелковые ленты стоили дорого и были не по средствам массе людей малосостоятельных, появился запрос на материал более общедоступный. В 100 г. после Р.X. управляющий императорским оружейным заводом Цай-лунь придумал изготовлять бумагу из тряпья, древесной коры, пеньки и старых рыбацких сетей. Изобретатель получил высочайшее одобрение; долго потом показывали в виде одной из достопримечательностей Китая дом знаменитого человека и камень, служивший ему подставкой при тиснении бумаги. Вслед за изобретением тряпичной бумаги скоро появился способ механического печатания. Бумага и типография изобретены были в Китае задолго до появления тех же искусств в Европе (раньше на 12–13 веков); но в то время как европейцы применили оба изобретения к распространению дешевой книги, в Китае бумага и печать стали служить религиозным и волшебным целям. Бумажные ленты, бумажные фигуры, плакаты, флаги, вывески идут в дело в огромном количестве и служат сотням разнообразных потребностей. В начале нового года красными бумажными полосками, на которых вытиснены изречения и картинки, обклеиваются двери, стены, шкапы, сундуки и ящики: цель состоит в том, чтобы обеспечить дому благоденствие, а красный цвет нужен потому, что его не любят и боятся бесы. Бумага с таинственными знаками наклеивается на крышу, чтобы отогнать духов, приносящих заразу и болезнь, или же бумагу сжигают и дают больному выпить раствор золы в воде, чтобы изгнать из него духа болезни. Сумасшедших запирают в комнаты, стены которых обклеены изображениями адских мучений; цель опять в том, чтобы напугать бесов, вселившихся в больного, и выгнать их из него.
Наконец, люди пользуются бумагой для переписки с богами. Часто перед совершением молебна, на который со стороны приглашены священники, собирают суммы по подписке. Отправляясь в храм, священники по дороге выдают подписчикам бумажные амулеты, предохраняющие от несчастий, а также принимают от них написанные на бумаге молитвы, желания и просьбы, обращенные к богам. При этом проситель должен выставить свое имя, год и день рождения и адрес для того, чтобы бог точно знал, куда ему потом направить свои милости.
Круг сношений китайской империи. Восточноазиатский мир и по своему географическому положению, и по судьбе своей культуры очень непохож на мир европейский. Европа, сравнительно бедная естественными произведениями, с ранних пор, в погоне за чужими богатствами, стала высылать воителей и колонистов; к тому же, будучи открыта в сторону других материков, Европа изобилует удобными выходами. Напротив, восточная Азия замкнута с материковой стороны высокими горами и бесплодными пустынями. Население счастливо одаренных от природы речных долин Китая не имеет основания зариться на постороннюю добычу. Восточноазиаты легко могли бы забыть об остальном мире и жить исключительно в своем культурном кругу. Так и существовали долгие века китайцы, не имея сношений даже с ближними к ним частями азиатского материка – Индией, Сибирью, Туркестаном, – и так могло бы остаться навеки, если бы к ним не являлись в свою очередь чужестранцы, не вызывали бы их на бой, на соперничество и на выселение.
К началу нашей эры, одновременно с римской империей, Китай беспокоили кочевые среднеазиатские племена, особенно гунны. Долго старались китайцы ограничиться обороной; свидетельством их усилий осталась единственная в мире крепостная стена в 2000 с лишком верст длиной. Но все-таки им пришлось выйти из границ и сделаться в свою очередь завоевателями. Сокрушая кочевников, врезываясь в глубину степей, китайские вожди шли беспрепятственно на запад от линии Дзунгарских проходов, ведущих к западному (ныне русскому) Туркестану. Самый далекий из походов был совершен в 95 г. по Р.X.: китайское войско достигло восточных берегов Каспийского моря.
Пробив себе путь наружу, китайцы открыли этим свою страну вниманию иностранцев: из эллинистических государств Передней Азии направились к ним произведения греческого и сирийского искусства и ремесла; греческие торговцы устремились за изумительным для европейца продуктом Китая, шелковыми материями. Однако китайцы, верные себе, не допускали чужих в глубину своего края: покупатели шелка доезжали только до восточного (ныне китайского) Туркестана, куда китайцы подвозили им весь товар; шелковичный червь и шелковое производство оставалось для Запада тайной. Встречая непреодолимую загородку с суши, европейцы эпохи римской империи пытались добраться до Китая океаническим путем, выходя из Суэца у Аравийского залива и огибая всю южную Азию. С берегов Тонкина, где приставали их корабли, привезли они в Европу имя страны шелка, слышанное у малайцев, – Хина, которое до сих пор принято на Западе (усвоенное нами название Китай пришло другим путем: так обозначена северная часть империи у итальянского путешественника XIII века Марко Поло).
В летописях Ханьской династии под годом, соответствующим нашему 166 г. после Р.X., значится, что китайский государь принимал депутацию от царя Антуна (это – римский император Марк Аврелий из династии Антонинов); послы прибыли морем, подъехавши к одному из южнокитайских портов. Но сами китайцы никогда не делали морских выездов в обратном направлении, к западу. То, чего не достигли европейские торговцы и путешественники, удалось буддийским монахам Индии, проникшим в Китай в обход Гималайских гор, через Бактрию и Тибет.
Буддизм в Китае. Есть рассказ о том, как император Ханьской династии, Мингди (в 61 г. по Р.X.) видел во сне парившее в воздухе над дворцом золотое изображение божества. Брат императора, тайный приверженец буддизма, объяснил, что сновидение указывает на статую Будды, и стал убеждать государя ввести новую веру в Китае: решено было отправить в Индию посольство с поручением добыть учителей и книги буддийской веры. Шесть лет спустя вернулись послы в сопровождении индийских ученых, впервые начавших переводить буддийские тексты на китайский язык. Скоро китайцы стали увлекаться буддийским учением, принимать посвящение в монашеские ордена буддистов, совершать богомолья в Индию, которая обратилась для них в страну священную.
В 221 г. по Р.X. Ханьская династия прекратилась, и Китай распался на несколько государств, между которыми начались вражда и усобицы. Хотя в 265 г. единство империи восстановилось, но правители были слабы, войско пришло в упадок, могущество Китая исчезло. Север, несмотря на великую стену, подпал опять господству гуннов, тунгузов, татар и других кочевников; для него утратились связи с Сирией, Индией и Явой, с торговцами и путешественниками, посещавшими южнокитайские порты. Императоры перенесли свою столицу подальше от беспокойной северной границы в Нанкин. В свою очередь южный Китай не принимал участия в борьбе с кочевниками; северные страны, Манчжурия и Корея, мало его интересовали.
Раздробление империи не помешало проповеди буддизма распространиться по всему Китаю. Слабые императоры смутного времени были покровителями ученых и художников, собирателями книг, любителями театра, поэзии и философии; все, что выходили из Индии, воспринималось при дворе с великим интересом. Но не только образованный класс увлекался новой религией; буддизм распространился и в народной среде благодаря тому, что проповедники искусно умели приспособляться к исконным китайским понятиям и верованиям.
В Китае буддизм сильно отклонился от своего первоначального индийского учения. В Индии последователи Будды учили, что добродетельные души освобождались от тягости переселений.
До появления буддизма в Китае не было духовенства, почти не было храмов и изображений богов. Сторонники Конфуция, рассудительные и холодные, не чувствовали потребности ни в духовниках-учителях, ни в сияющих образах неземной жизни. Даосы, последователи Лаоцзы, отдавали больше внимания миру…
Даосы являлись в дома лишь в качестве заклинателей в опасностях, в трудных исключительных случаях, но не служили постоянными исполнителями правильно повторяемых обрядов. Напротив, буддийские монахи и проповедники сумели сделаться участниками всех событий обыденной жизни. Особенно нужным лицом становился бонза, или буддийский священник, когда в семье приключалась смерть: его звали читать заупокойные молитвы, силой которых душа умершего высвобождается из ада и переносится в рай. Китайцы, более всего озабоченные судьбой своих предков, жадно воспринимали новое учение о загробной жизни; бонзы как бы принимали на себя ответственность за судьбу умерших; занимая положение посредников между миром небесным и земным, они вместе с тем создавали себе источник немалых доходов.
Буддисты принесли с собой незнакомые до тех пор китайцам мифы о божествах-покровителях, трогательные рассказы о милосердных высших существах.
Пока длилось раздробление Китая, конфуцианцы были бессильны против распространения буддизма. Но положение изменилось, когда воинственный Тай-цун (627–650) из династии Тан (правившей с 618 по 906) объединил опять великую империю, заставил признать господство китайцев в Корее, Тибете и Туркестане и возобновил могущество императорского двора.
Теперь, побуждаемые конфуцианскими учеными, власти начинают преследовать буддистов, особенно стараются разрушить их монастыри. По временам гонения принимали жестокий, беспощадный характер; тысячами изгонялись из страны буддийские монахи, во множестве закрывались монашеские общежития.
Преследования, однако, не могли сломить буддизм: слишком привыкли в Китае к его богослужению и обрядам, слишком полюбились народу его милосердые, близкие к людям боги. После временного разгрома буддизм опять стал оживать; постепенно он захватил большую часть китайского народа.