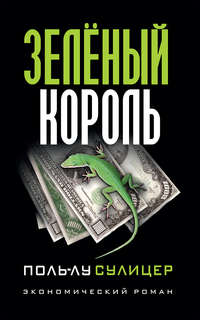Czytaj książkę: «Зелёный король»
Перевод с французского выполнен по изданию: Sulitzer, Paul-Loup. LE ROI VERT. – edition n° 1/Stock, 1991.
Охраняется законом об авторском праве. Нарушение ограничений, накладываемых им на воспроизведение всей этой книги или любой её части, включая оформление, преследуется в судебном порядке.
© edition n° 1/Stock, 1983
© Перевод. Издание на русском языке.
* * *
Моему отцу,
моей матери,
моей сестре Доминике,
моей дочери Оливии
Милли
Моим друзьям Ж-Р. Хиршу и Ж-П. Рейну
Моему дяде Полю, погибшему в концлагере
Одни предполагают,
Что он бесился. Люди подобрей
Находят в этом бешеную храбрость.
Одно лишь ясно: что в своих делах
Не может он свести концов с концами.
Уильям Шекспир. Макбет, акт V, сцена 2
Пролог
В Мюнхене я пробыл меньше часа, когда капитан Таррас сообщил мне новость: в Верхней Австрии, близ Линца, недалеко от города Маутхаузен, передовые части VII армии обнаружили новый лагерь военнопленных. По настоянию Тарраса я и еще несколько сотрудников вылетели туда немедленно на военном самолете. Он сам планировал присоединиться к нам только через несколько дней. Я должен был подчиняться Джорджу Таррасу – и не только потому, что он имел звание капитана, а я всего лишь младшего лейтенанта. До лета 1942 года я обучался в Гарвардском университете, где он был профессором международного права. Две недели назад мы случайно встретились в центре Парижа. В итоге он пригласил меня к себе на службу – в Комиссию по расследованию военных преступлений. Еще во время учебы я проникся симпатией к этому человеку. Однако, увидев его в мундире оливкового цвета на парижской улице, все же с трудом разглядел в нем прежнего профессора: оптимистичного, чаще с юмором, иногда с сарказмом выступающего перед шумной студенческой аудиторией Гарварда.
Наша команда состояла из трех человек: меня, сержанта Майка Ринальди и фотографа Роя Блэкстока. Мы были разные и не состояли в дружеских отношениях. Майк Ринальди был выходцем из Little Italy1, что на Манхэттене в Нью-Йорке. Рой Блэксток был из Виргинии. Внешне они были также абсолютно разные: Майк – невысокий, крепкий в ногах, гордился своими черными, казалось, навощенными усами; Рой – двухметрового роста, тучный, с внушительным животом. Объединяло их то, что оба они, как мне казалось, были циничны и достаточно уверены в себе. Именно в этом я видел доказательство зрелости человека и наличия у него определенного жизненного опыта, чем я, к сожалению, не обладал.
На календаре было 5 мая 1945 года. Я не имел подробной информации о том, как заканчивается война в Европе, но уже всем было известно, что русские взяли Берлин три дня назад и что впереди – полная и безоговорочная капитуляция Третьего рейха. В этой войне, дни которой были сочтены, лично я никого не убил и даже ни разу не участвовал в бою. Это было невероятно, но я в свои неполные восемнадцать лет чувствовал себя подростком, впервые попавшим в театр в самом конце спектакля, когда занавес вот-вот должен опуститься.
Мы приехали в Линц, где с помощью Ринальди пересели на грузовик, направлявшийся в Вену. В этом городе с 13 апреля находились части Красной Армии. После полудня мы уже переправились в Энс через Дунай. И здесь Ринальди снова проявил заметную активность: он убедил водителя, который, как и он, Ринальди, был италоамериканцем, довезти нас до места назначения. Это было не так просто. Сначала мы доехали до вокзала города Маутхаузен. До лагеря оставалось еще шесть километров. Не идти же пешком, пришлось даже пригрозить водителю. Вот так мы добрались до лагеря. Реба Михаэля Климрода я нашел именно здесь, вернее, впервые вышел на его след.
Самое яркое впечатление, которое я помню до сегодняшних дней, это прозрачность и легкость австрийского воздуха, наполненного солнечным светом и благоуханьем весны. Казалось, что все это бесконечно…
Запахи я ощутил позже, когда мы были почти у лагеря, вернее, не доходя до него метров двести-триста. Колонна грузовиков, крытых брезентом, преградила нам путь. Наш шофер обрадовался этому и тут же злобно заявил, что отказывается везти нас дальше. Мы вынуждены были выйти из автомобиля и завершить свой путь пешком. По мере приближения к лагерю запах чувствовался все отчетливее. Вскоре нам стало казаться, что он повис плотной, густой пеленой.
Первым молчание нарушил Блэксток.
– Это кремационные печи, – произнес он своим спокойным голосом с певучим южным акцентом. Именно этот акцент и благодушный тон лишали смысла эти ужасные слова.
Ворота лагеря были распахнуты настежь, и мы беспрепятственно прошли на территорию. Видно было, что здесь недавно побывали танки. Следы от их гусениц были еще свежими. На смену им непрерывно заезжали грузовики. Продукты, медикаменты, постельное белье выгружались в развернутые по всей территории медицинские пункты. Но этот мощный поток ревущих и движущихся автомобилей, едва проехав широкие въездные ворота, исчезал в огромном и безмолвном море живых трупов. Это странное море было обессиленным и потому недвижимым. Мы поняли, что побывавшие здесь часов пять назад танки взволновали это море до предела. Но сейчас, когда возбуждение и радость освобождения уже угасли, на лицах узников застыли маски. Люди поняли, что их кошмарам пришел конец, но сил радоваться у них уже не было. Безжизненные, потерянные взгляды полуживых, истощенных людей встречали нас повсюду. Но были и злые, полные ненависти глаза, направленные на меня, Ринальди и Блэкстока и выражающие только одно: «Почему вы не пришли раньше?»
– Какой здесь жуткий запах! – воскликнул Блэксток. – Они ужасно воняют!
Его мощная фигура продвигалась вперед практически беспрепятственно. Скелеты в полосатых лохмотьях не способны были оказать даже малейшего сопротивления, поэтому Блэксток шел, расталкивая их абсолютно равнодушно.
Начальником лагеря был американский офицер в чине майора пехоты, о чем свидетельствовали золотые кленовые листья на его кителе. Невысокого роста, рыжий, довольно мускулистый человек представился нам как Стрэчен. Он сразу же заявил нам, что военные преступления – единственное, что его волнует в настоящее время, а если мы в этом сомневаемся, то он предлагает доказать нам обратное. Он сказал также, что пытается навести порядок в этом страшном бардаке. Для этого он попытался разделить всех узников на три категории: безнадежные, пребывающие в состоянии кризиса и находящиеся в относительной безопасности. Обреченных на смерть было много, целый легион.
– В ближайшее время умрет не меньше трех тысяч. Они сдохнут свободными, но это случится здесь, в лагере, – произнес начальник лагеря, внимательно глядя мне в лицо карими с желтым отливом глазами. – Вас зовут Дэвид Сеттиньяз и вы еврей? – продолжал свою речь майор.
– Нет.
– Так какого же происхождения ваша фамилия?
– Французского.
– Странно, она звучит, кажется, по-польски.
Но я уже не слушал начальника лагеря, а отдавал приказания сам.
Мы находились в служебных помещениях подразделений СС, и Ринальди подыскивал мне комнату. Я выбрал первую, с маленькой прихожей, в которой стояло несколько стульев. Блэкстока с нами не было, но мы знали, что он на территории лагеря уже вовсю щелкает своими фотоаппаратами.
Ринальди нашел кусок картона и прикрепил его с внешней стороны двери. «Военные преступления» – эту надпись он сделал от руки, но очень тщательно и отчетливо.
Я был подавлен зловонием и звенящей тишиной Маутхаузена, хотя здесь находились тысячи и тысячи заключенных. Меня охватили стыд и отчаяние такой силы, что даже сейчас, по прошествии почти тридцати семи лет, я способен пережить и испытать эти тошноту и отчаяние точно так же, как тогда, в лагере.
Терпеть все это не было сил, и я попытался выбраться из лагеря. Как сейчас вижу плотную толпу людей, через которую я с трудом продвигаюсь. Я зашел в несколько бараков. В один из них еще не добралась бригада медиков. Пыльную полутьму кое-где разрывали желтые лучи весеннего солнца. В бараке лежали люди, умершие несколько дней назад. Тут же по трое и четверо на нарах лежали еще живые. Скелеты в тряпье шевелились и ползли мне навстречу. Они дотрагивались до меня, некоторые даже пытались уцепиться. Зловоние становилось невыносимым. Меня охватил ужас, и я выбежал из барака. На свежем воздухе, под солнцем, мое тело содрогалось от тошноты. Не помню, как оказался в узком пространстве двора между двумя строениями. Меня мучили приступы жуткой рвоты, и я был рад, что этого никто не видит. Однако я ошибался, одиночество было призрачным, потому что в какое-то мгновение ощутил на себе чей-то жгучий взгляд…
Вырытая могила была всего в нескольких шагах. Рядом с небольшой ямой лежала земля. В треугольном холмике торчала лопата. На дне могилы был виден слой негашеной извести, небрежно присыпанной землей, которую уже пожрала известь, и…
…видны были обнаженные тела нескольких мужчин, похороненных, очевидно, наспех. О том, как это произошло, нетрудно было догадаться: десяток догола раздетых мужчин бросили в яму, утрамбовали их прикладами и ударами каблуков так, что практически сровняли с землей. Сверху присыпали известью и землей. Но все же мертвецы медленно поднимались на поверхность. Уже достаточно отчетливо были видны части их тел: руки, животы, половые органы, даже лица, рты и ноздри, которые были изъедены окисью кальция. Из могилы торчали обугленные и уже загнивающие кости.
Но самым кошмарным было то, что прямо посередине этого леденящего душу нагромождения я увидел живое человеческое лицо. Изможденное, с черными пятнами запекшейся крови и огромными, горящими каким-то неистовым светом глазами…
Человек следил за моими движениями, когда я оторвался от стены, на которую опирался. Застывший взгляд еще живого смертника я помню до сих пор.
Я сделал всего лишь два шага по направлению к могиле и услышал его голос. На французском языке, с легким акцентом, он произносил стихи Верлена:
– Боже мой! Те звуки жизнь родит простая…
Это был сон наяву, поэтому следующую строку я произнес совершенно бессознательно:
– Кротко ропщут звуки, город оглашая…
Дальше я помню лишь то, что сделал несколько шагов, отделявших меня от края могилы. Присев на корточки, я протянул руку. За нее тут же ухватилась длинная, изможденная рука семнадцатилетнего парня… Позже его назовут Королем.
Глава I
Фотограф из Зальцбурга
1
Открыв глаза, Король увидел перед собой лицо военного в совершенно незнакомой форме. Точно не эсэсовской и не фольксштурмовской. О форме русских не могло быть и речи. Король видел русских, правда, только пленных или убитых оберштурмбаннфюрером Хохрайнером. Эсэсовец всегда выпускал пулю в затылок, и на 4 мая 1945 года его личный рекорд в уничтожении мужчин, женщин и детей составил двести восемьдесят три убитых человека. Реб, по утверждению эсэсовца, должен был стать его последней жертвой, несмотря на их «достаточно продолжительные нежные отношения».
Король пришел в сознание за несколько минут до того, как на краю могилы появился этот его военный спаситель. Из небытия он выплывал медленно, каждую секунду отмечая, что еще жив. Сознание возвращалось постепенно. Вначале он вспомнил лицо оберштурмбаннфюрера, целующего его взасос, перед тем как приставить к его виску дуло пистолета. Затем почувствовал лицом дуновение свежего воздуха. Он понял, что лежит в могиле, но голова его почти наверху, на ней тонкий слой земли и что он может выжить и выбраться. Но сразу же после этих мыслей его настигла боль.
Болели затылок, руки и плечи, живот – кожа в этих местах была сожжена негашеной известью. Его тело было в плену обнаженных трупов, и он смог пошевелить лишь левой рукой и слегка шеей. Поперек него, как бы прикрывая, лежал Заккариус, четырнадцатилетний литовец, которого эсэсовец взял в свой гарем в лагере Гроссрозен.
Пошевелив шеей, он освободился от слоя земли, а затем и от руки Заккариуса. И наконец увидел солнечный свет. Он не услышал шагов подошедшего к могиле военного, а увидел его уже в тот момент, когда стоящего спиной человека мучительно рвало. Он еще ничего не осознавал, поэтому, глядя на блюющего военного в незнакомой ему форме, вспомнил о внезапном исчезновении из Маутхаузена спецподразделения и его оберштурмбаннфюрера. Ему и в голову не приходило, что этот военный – американец. Интуитивно он почувствовал, что этот человек из какого-то иного мира. Именно поэтому он решил, что не стоит заговаривать с ним по-немецки. Из других языков он хорошо владел только французским.
Узник начал читать стихотворение на французском, а незнакомый военный его продолжил. Все выглядело так, будто двое мужчин, никогда не видевшие друг друга, произносили строки стихов всего лишь как условный знак, пароль, который помог им встретиться. Незнакомый военный подошел к краю могилы и протянул Ребу руку. Он произнес несколько совершенно непонятных слов, а затем, уже на французском, спросил:
– Должно быть, вы ранены?
– Да, – ответил Реб.
Теперь он хорошо видел лицо этого человека. Он был очень молод, светловолос, с большими голубыми глазами. На воротнике его рубашки блестел золотой значок.
– Вы француз?
– Нет, я австриец, – ответил Реб.
Дэвид попытался вытащить парня из ямы, но сделать это не удалось. Земля, перемешанная с известью, снова обвалилась, оголив тело Заккариуса. Ягодицы и спина мертвеца были полностью сожжены известью.
– O'God!2 – вскрикнул военный, и его снова вырвало.
Когда Дэвид немного успокоился и у него прекратилась рвота, Реб решил, что наступил его черед спрашивать:
– А кто вы по национальности?
– Американец, – произнес военный.
Отвечая на вопрос, Дэвид снова стоял у края могилы и смотрел в огромные голубые глаза пленника.
– Возможно, здесь уцелел еще кто-нибудь?
– Я так не думаю, – ответил Реб. – Они стреляли нам в затылок. – Он произнес эти слова медленно и спокойно, пытаясь пошевелить левой рукой. – В одиночку вам меня не вытащить, я ведь похоронен стоя, – продолжал Реб. – Надеюсь, с вами еще кто-нибудь есть?
– Со мной вся армия Соединенных Штатов, – ответил Дэвид Сеттиньяз.
Его ответ прозвучал как шутка, хотя он не имел ни малейшего желания шутить. Ему просто внушало страх спокойствие узника из могилы. Но какой бы невероятной ни казалась ситуация, Дэвид был почти уверен, что видит в зрачках его светлых глаз задорный блеск.
– Я хочу знать ваше имя и фамилию.
– Мой отец француз. Меня зовут Дэвид Сеттиньяз.
После недолгого молчания Реб мягко, но настойчиво произнес:
– Вы можете отправляться за помощью. И поторопитесь, потому что я задыхаюсь. Я благодарен за то, что вы здесь появились, мне этого не забыть.
Глаза его горели каким-то фантастическим блеском.
2
К могиле Дэвид Сеттиньяз вернулся с врачом, двумя пехотинцами и фотографом. Блэксток принялся фотографировать могилу. Однако снимки эти ни разу не были опубликованы, даже не использовались ни в одном досье. Впоследствии, спустя тринадцать лет, Король выкупил их у Роя Блэкстока и его жены.
По мнению Блэкстока, смертник выжил благодаря не только невероятному стечению обстоятельств. Положение тела Реба Климрода в могиле свидетельствовало о том, что спасать себя он начал с первых секунд погребения. Причем начал этот путь из ада на поверхность еще в бессознательном состоянии.
Он оказался в числе первых жертв, брошенных в могилу и засыпанных затем негашеной известью и землей. На поверхность он пробирался через восемь трупов. Именно столько мальчиков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет лежало в могиле. Реб Климрод был девятым – самым старшим. Из них он единственный выжил.
Когда его вытащили наконец из этого месива, Реб тут же потерял сознание. Все были потрясены видом узника-подростка: рост метр восемьдесят, и страшная худоба – вес не более сорока пяти килограммов.
В затылочной части головы, за левым ухом, сидела пуля от пистолета. Она немного срезала мочку, пробила основание черепа и разорвала шейные мышцы, но позвонки задела лишь слегка. Эту пулю врач извлек первой. Были и другие раны, еще более серьезные и болезненные. В теле парня было еще две пули: одна в голени, вторая над бедром. Ожоги от извести покрывали практически все тело. На спине, пояснице и в паху виднелись жуткие следы от ударов хлыста и ожогов сигарет. Множественные шрамы и рубцы были старыми. Лишь лицо юноши было чистым, и на нем не было следов пыток.
Несколько дней подряд он спал практически беспробудно. В это время в лагере случился инцидент. К Стрэчену обратилась делегация бывших заключенных с просьбой избавить их от общества этого «милого эсэсовца». Они обозвали его очень грубо, и требование их было достаточно категоричным. Но маленький рыжий майор из штата Нью-Мексико оставался спокойным, как каменная глыба. Впрочем, у него было полно других забот: здесь, в Маутхаузене, ежедневно умирали сотни людей.
По поводу судьбы парня он вызвал меня и сказал:
– Займитесь им, Сеттиньяз. Без вашей помощи он может умереть.
– Но ведь я не знаю даже его фамилии.
– Этот парень – ваша проблема, – резким тоном ответил Стрэчен. – Выпутывайтесь из этой истории как хотите.
Все это происходило утром 7 мая. Сеттиньяз дал указание перенести парня в барак, куда собрали всех, чья дальнейшая судьба еще не была решена. Дэвид был зол на себя самого, а мысль о том, что спасенный им незнакомый юноша в чем-то виновен, не давала покоя.
Несколько раз он заходил в барак с намерением побеседовать с юношей. Лишь один раз Дэвид застал его бодрствующим. Странный, серьезный и мечтательный взгляд был немым ответом на все вопросы.
– Ты узнал меня? Это я вытащил тебя из могилы…
Молчание.
– Я хочу узнать твое имя и фамилию.
Молчание.
– Ты австриец и должен сообщить о себе своей семье.
Молчание.
– Где ты учился французскому?
Вопрос остался без ответа.
– Я очень хочу помочь тебе…
Юноша по-прежнему лежал лицом к стене, молча, закрыв глаза.
На следующий день, 8 мая, одновременно с сообщением о капитуляции Германии из Мюнхена в лагерь прибыл капитан Таррас.
Джордж Таррас жил в Джорджии, но родился не в Америке. Он родился в Грузии. Еще в Гарварде Сеттиньяз удостоверился, что Таррас – русский аристократ, эмигрировавший в США в 1918 году. В 1945-м году ему исполнилось сорок четыре года. Казалось, что в жизни он преследовал одну главную цель – убедить как можно большее количество жителей планеты в том, что он не самый серьезный и влиятельный человек на земле.
Он питал отвращение к сентиментальной чувствительности, даже абсолютно естественной, а не наигранной, считая ее проявлением элементарной человеческой глупости. Возможно, из-за этого на его лице постоянно присутствовало язвительное выражение, казалось, злая шутка готова была сорваться с уст в любой момент. Он превосходно знал английский, бегло говорил на многих других языках: немецком, польском, французском, русском, итальянском и испанском.
Едва появившись в лагере, он повесил на стенах своего кабинета стенды с самыми жуткими фотографиями, сделанными Блэкстоком в Дахау и здесь, в Маутхаузене.
«Когда мы будем допрашивать этих господ преступников, которые будут выкручиваться и нести нам чушь, мы сможем ткнуть их носом в свидетельства их гнусных преступлений» – примерно так рассуждал Таррас.
Абсолютно решительно он закрыл несколько расследований, проведенных Сеттиньязом.
– Это все мелочи, студент Сеттиньяз. Где дела серьезные?
Дэвид рассказал о вызволенном им лично из могилы юноше.
– Как, вы не знаете даже его фамилию? – удивился Таррас, выслушав известную историю спасения потенциального покойника.
Сведения о спасенном юноше были крайне скудными. Его фамилии не было ни в одном немецком списке узников, прибывших в лагерь в последние месяцы 1944 или первые месяцы 1945 года. В этот момент в Германию и Австрию начали свозить десятки тысяч заключенных, поскольку советские войска вели активное наступление. Многие факты свидетельствовали о том, что юноша находился в Маутхаузене не больше трех-четырех месяцев.
– Все понятно, – с улыбкой сказал Таррас. – Здесь все ясно и понятно. Высокие чины из СС привезли сюда своих юных любовников. Офицеров было несколько, ведь одному не нужно столько мальчиков. Они приехали сюда, в Австрию, чтобы держать оборону до конца. Они укрепили здесь гарнизон. Однако с приближением нашей VII армии они вынуждены были снова отступать, на сей раз в горы, в Сирию и даже в тропики. Следуя их знаменитому порядку, характерному для этой нации, они «позаботились» о бывших избранниках своего сердца, теперь уже абсолютно ненужных, превратившихся в обузу. Они тщательно утрамбовали мальчиков в могиле, засыпав негашеной известью и землей.
В Гарварде неизвестный почитатель Гоголя наградил Тарраса великолепной кличкой – Бульба. Она была очень точна и самого профессора ничуть не смущала. Напротив, он до такой степени гордился своим прозвищем, что подписывал им свои журнальные публикации и даже замечания в конце экзаменационных сочинений.
Его живые глаза в очках в золотой оправе скользили по многочисленным снимкам ужасов, развешанным по стенам.
– Знаете, малыш Дэвид, мы, конечно, можем бросить все дела и заняться этим вашим юношей. У нас ведь всего лишь несколько сотен тысяч военных преступников, которые с нетерпением ожидают нашего внимания. Но это мелочи. Не будем говорить о миллионах: мужчинах, женщинах и детях, которые уже умерли, умирают и еще умрут.
Концовка разговора была очень эффектной. У него была просто страсть или, точнее, садистская потребность к подобным финалам. Своим изощренным сарказмом он любил заткнуть рот собеседнику. Однако было заметно, что рассказ о юном австрийце заинтересовал Тарраса. Поэтому через два дня, 10 мая, он все-таки навестил мальчика. С теми, кто находился в этом бараке, он общался на разных языках: русском, немецком, польском и венгерском. На юношу он бросил всего лишь беглый взгляд. Так мне показалось, но для Тарраса и этого было достаточно.
Чувства, которые испытал Таррас, увидев юного австрийца, были точно такими же, какие испытал и Дэвид Сеттиньяз. Но была все же одна очень существенная разница: он был потрясен не меньше Дэвида и знал почему. Он увидел поразительное сходство глаз чудом уцелевшего незнакомого юноши с глазами знакомого ему человека – физика Роберта Оппенгеймера. С профессором Таррас обменялся несколькими фразами в Принстоне, на званом завтраке у Альберта Эйнштейна. Светлые зрачки в бездне огромных глаз, погруженных в какую-то неведомую глубину, в какую-то отрешенную грезу, непостижимую простому человеческому уму, простому смертному. Тайна гения – это была именно она, и Таррас увидел и узнал ее здесь, в концлагере.
«А ведь этому юноше не больше восемнадцати», – подумал про себя Джордж Таррас.
В последующие дни Джордж Таррас и Дэвид Сеттиньяз занимались непосредственно своими служебными обязанностями по расследованию преступлений в Маутхаузене. Основную часть времени отнимала работа с полицейскими, проводящими расследования по доносам. Они составляли списки тех, кто отвечал за функционирование лагеря. На всех лиц, вошедших в эти списки, нужно было составить досье, содержащие свидетельские показания. Позднее все это будет использоваться в военном трибунале, рассматривающем, в частности, военные преступления в лагерях Дахау и Маутхаузен.
Многие из бывших надзирателей лагеря в Верхней Австрии с приближением американских войск укрылись в ближайших окрестностях. Однако делали они это не особо тщательно, не скрывая своих фамилий и оправдывая свои преступления доблестным повиновением рейху. «Befehl ist Befehl»3 – это выражение якобы оправдывало все их преступления.
Сотрудников не хватало, и Таррас взял на работу нескольких бывших заключенных. Одним из них был еврейский архитектор Симон Визенталь, прошедший через многие концентрационные лагеря.
По прошествии некоторого времени Дэвид Сеттиньяз напомнил Таррасу о вытащенном из могилы юноше. Его фамилия по-прежнему была неизвестна. Заключенные, выражавшие протест майору Стрэчену, больше не появлялись. Трое самых активных членов – французские евреи – уехали домой. Выдвинутые ими обвинения исчезли вместе с ними. Но дело было заведено, и необходимо было принимать меры. Таррас решил провести допрос лично.
Через многие годы, в совершенно других обстоятельствах он почувствовал устремленный на него взгляд Реба Климрода. Он сразу же вспомнил первое впечатление, которое оставила та их первая встреча в Маутхаузене.
3
Юноша окреп и начал ходить, прошла даже хромота. Он поправился на несколько килограммов, что было очень неплохо для чудом уцелевшего человека. Но он все равно оставался худым, только лицо немного посвежело, приобрело человеческое выражение.
– Мы можем поговорить на немецком языке, – предложил юноша Таррасу. При этих словах американца пронзил взгляд его серых, скорее даже цвета бледно-голубого ириса, глаз. Юноша медленно осмотрел комнату и продолжил по-немецки: – Это ваш кабинет?
В ответ Таррас кивнул. Он испытывал какое-то странное чувство, очень похожее на нерешительность и даже робость. Это новое ощущение его не тревожило, а, напротив, забавляло.
– Прежде здесь был кабинет оберштурмбаннфюрера СС, – рассказывал юноша.
– Вы ведь часто бывали здесь.
Парень продолжал пристально рассматривать фотографии на стене. Ко многим снимкам он подходил очень близко.
– Где сделаны эти снимки?
– Это в Дахау, в Баварии, – ответил Таррас. – Как ваше имя?
Парень стоял за спиной американца, по-прежнему молчал и рассматривал фотографии.
Внезапно Таррас догадался: «Это он специально не сел напротив и теперь хочет заставить меня обернуться. Таким образом он дает понять, что намерен вести разговор по своему усмотрению».
Спокойным и тихим голосом он продолжил:
– Я не получил ответа на вопрос.
– Я – Климрод, Реб Михаэль Климрод.
– Вы родились в Австрии?
– Да, в Вене.
– Когда?
– В 1928 году, 18 сентября.
– Я думаю, что фамилия Климрод не является еврейской.
– Фамилия моей матери Ицкович.
Таррас уже понял связь двух имен юноши. Одно его имя было христианским, а вот имя Реб было достаточно распространенным в еврейских семьях, особенно живущих в Польше.
– Значит, вы Halbjude4, – сказал Таррас.
Юноша не ответил. Он по-прежнему ходил вдоль стены за спиной у Тарраса. Он двигался очень медленно, подолгу задерживаясь перед каждым снимком на стене.
Парень остановился слева от американца, и Таррас, слегка повернув голову, заметил, что колени у него дрожат. Острое чувство жалости охватило Тарраса в эту же секунду: «Да ведь этот несчастный парнишка едва держится на ногах!»
Реб Климрод стоял к нему спиной. Таррас хорошо видел его тощие голые ноги в солдатских ботинках. Шнурков в них не было, да и ботинки были парню малы. На изможденном, нескладном теле болтались смехотворно короткие брюки и рубашка. На нем видны были следы многочисленных пыток: длинные и тонкие руки юноши усеяны потемневшими пятнами от ожогов сигарет, во многих местах кожа была сожжена негашеной известью. Таррас подумал, что тело этого парня корчилось под пытками тысячи раз, но не потеряло своей гордой осанки. Юноша был стройным, лишь руки его безвольно висели вдоль тела. Но Таррас по своему опыту уже знал, что за этой кажущейся небрежностью скрыта огромная сила воли, умение владеть собой в любой ситуации, на что способны далеко не все взрослые мужчины (в том числе и сам Таррас).
Именно сейчас Таррас понял то, чем так сильно был поражен Дэвид Сеттиньяз: Реба Михаэля Климрода окружала какая-то необъяснимая, большой притягательной силы аура.
Словно спасаясь от чего-то, Таррас продолжил допрос:
– Когда и как вы прибыли в Маутхаузен?
– В феврале этого года, но в какой точно день, я не знаю, где-то в начале месяца.
Голос юноши был серьезным и спокойным.
– Вы прибыли вместе с эшелоном?
– Нет, я прибыл не с эшелоном, – ответил парень.
– Кто еще приехал сюда вместе с вами?
– Те другие мальчики, которые лежали в могиле вместе со мной.
– Кто же доставил вас сюда?
– Офицеры СС.
– Сколько их было?
– Десять.
– Кто ими командовал?
– Оберштурмбаннфюрер.
– Назовите его имя и фамилию.
Реб Климрод стоял в левом углу комнаты. На стене на уровне его глаз висел огромный снимок, сделанный Роем Блэкстоком. В открытой дверце кремационной печи виднелись наполовину обуглившиеся трупы. Благодаря фотовспышке они были хорошо заметны на фотографии.
– Их фамилии мне неизвестны, – абсолютно спокойно ответил Реб Климрод и на этот вопрос американца.
Таррас заметил, как рука юноши зашевелилась и потянулась вверх. Длинными тонкими пальцами он прикоснулся к глянцевой поверхности снимка. Таррасу показалось, что юноша гладит эту фотографию рукой. Через некоторое время парень отвернулся от снимка и прислонился к стене. Он был по-прежнему спокоен, безразличный взгляд его был устремлен в пустоту. Таррас увидел, что на голове юноши начали отрастать волосы, но они были не русые, а темно-каштановые.
– Разве вы имеете право задавать мне такие вопросы? Только лишь потому, что вы американец и выиграли эту войну?
Таррас был ошеломлен и сбит с толку. Он был не в силах хотя бы как-то возразить этому странному юноше.
– Я не считаю, что меня победили Соединенные Штаты Америки, – продолжал Реб Климрод своим спокойным, отрешенным голосом. – Я действительно не считаю, что меня кто-то победил.
Взгляд его уперся в небольшой шкаф, где лежали кучи папок. Туда Таррас поставил несколько книг. «Он рассматривает книги!» – воскликнул про себя американец.
– Мы прибыли сюда в начале февраля, нас привезли из Бухенвальда. До Бухенвальда нас, мальчиков, было двадцать три. Пятерых сожгли в Бухенвальде, еще двое умерли по пути в Маутхаузен. Офицеры, которым мы служили в качестве женщин, застрелили их в грузовике. Они уже не могли идти, все время плакали и из-за выпавших зубов имели уродливый вид. Одному из этих мальчишек было девять лет, а второму немного больше, по-моему, одиннадцать. Офицеры ехали в легковой машине, а мы в кузове грузовика. Время от времени нас заставляли бежать за машинами с веревкой на шее, за которую они нас держали. Это делалось для того, чтобы у нас не было сил не только на побег, но даже на мысли о нем.
Юноша немного отодвинулся от стены. Он продолжал смотреть на книги в шкафу с каким-то гипнотическим напряжением. Но рассказ свой не прервал. В этот момент он напоминал учителя, который излагал урок, сосредоточив свое внимание на птице за окном. Говорил он по-прежнему отрешенно и безразлично к тому, о чем рассказывал.
– До Бухенвальда, куда мы прибыли накануне Нового года, некоторое время мы пробыли в Хемнице. А до Хемница мы были в лагере Гроссрозен. До Гроссрозена, это было летом, мы находились в лагере Плешев. Это в Польше, неподалеку от Кракова.