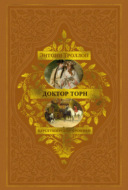Czytaj książkę: «Черный снег»
Paul Lynch
THE BLACK SNOW
Copyright © 2014 by Paul Lynch
All rights reserved
© Шаши Мартынова, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Азбука», 2025
Издательство Азбука®
Неудивительно, что Линча сразу сравнивали с Кормаком Маккарти.
The Sunday Times (Ireland)
Один из величайших писателей современности.
Marianne
Подобное стилистическое богатство встретишь разве что у Фолкнера.
Il Manifesto
Рядом с «Черным снегом» большая часть современной прозы ощутимо меркнет. Удивительный язык Линча – что-то среднее между ирландским поэтом-нобелиатом Шеймасом Хини и нашим Кормаком Маккарти – и связывает все воедино: природу, образы, время и безудержный, парадоксальный размах автора, пытающегося осмыслить неизъяснимое.
National Public Radio
Блестящая, гипнотическая книга – вы с гарантией затеряетесь в этих звуках и ритмах. Как у старых мастеров, страницы Линча поют.
Филипп Майер (автор романа «Сын»)
Фразу Пол Линч выстраивает совершенно виртуозно, унаследовав этот дар у таких авторов, как Кормак Маккарти, Себастьян Барри и Дэниэл Вудрелл. За этим писателем имеет смысл следить – он застолбил себе собственный участок.
Колум Маккэнн (автор романа «И пусть вращается прекрасный мир»)
Линч – бард, он склонен к хитроумному и вдохновенному выбору слов, у него собственные ритмы и угловатая, строгая музыкальность.
Дэниел Вудрелл (автор романа «Зимняя кость»)
Как ответил Маккарти Фолкнеру, так и Линч предлагает ответ Маккарти, убедительней которого мы в литературе еще не видывали. Линч не жертвует ни жесткостью, ни угрозой, нагнетая эмоциональное давление, какое по временам едва ли не сокрушает. Линч – удивительный талант, колдовски владеющий языком и наделенный выдающейся художественной цельностью. Это работа мастера.
Мэтью Томас (автор романа «Мы над собой не властны»)
Изумительная, выразительная проза Пола Линча склоняется ближе к поэзии… Выдающееся достижение. Увлекательный сюжет излагается красивейшим причудливым стилем.
The Sunday Times
Традицию американской готики, Фолкнера и Кормака Маккарти, Линч снова выкручивает на максимум.
The Toronto Star
Барнабас Кейн – герой классической трагедии. Линч будто изобретает английский язык заново, используя слова так, как никто до него. И в этом – настоящая магия.
The Irish Times
Вы оказываетесь в руках мастера, употребляющего слова с ювелирной точностью.
National Public Radio
Язык у Линча музыкальный, тугой, живой – и очень ирландский. 〈…〉 Вам захочется закрыть глаза и заткнуть уши, но окажется, что отвернуться от книги невозможно.
The Daily Beast
Чудесно изобретательный язык и кинематографическое видение.
Irish Times (books of the year)
Линч – проницательный наблюдатель, а темы его стихийны и мощны: жестокость бытия, иллюзия выбора в фаталистической вселенной.
Publishers Weekly
Очередное подтверждение расхожей истины: ирландцы в самом, самом деле умеют писать. Как будто недостаточно тугой, язвительно лиричной прозы дублинца Линча, здесь это доказывает еще и напряженный, подводящий к откровению сюжет.
Library Journal
Проза прекрасная до изумления, стиль и тематика напоминают Кормака Маккарти. Это сильная штука.
Booklist
Линч пишет с поэтической чувствительностью, определенно испытавшей влияние великой традиции ирландской литературы, но вдобавок совершенно уникален в своем ритме и воздействии. Каждая фраза налетает на вас с тревожной неизбежностью сломанного локомотива.
The Canberra Times
Это чертовски хорошее чтение – и от него по-настоящему рвется сердце.
Image
С языком Линч творит нечто поистине сверхъестественное. Абзацами, отточенными, как стихотворения в прозе, он отворяет двери в такие коридоры пространства и времени, от которых мороз по коже.
The Sunday Times
Роскошное и наглядное чтение… прекрасное и зачастую волнующее.
The Sunday Business Post
Опаляюще темный лиризм Линча отдает Кормаком Маккарти в его самом готическом изводе.
Metro Herald
Завораживает. Пол Линч – писатель с отчетливым и вдохновляющим стилем.
The Book Bag
Пишет Линч просто прекрасно: вы будете ловить себя на том, что перечитываете отдельные фразы лишь для того, чтобы насладиться роскошной прозой.
Hot Press
Искусство рассказчика невероятно впечатляет, письмо поэтичное, болезненное и прекрасное одновременно… уникальное читательское переживание.
Le Figaro
В письме Пола Линча есть некая лирическая и поэтическая лихорадочность, превосходящая все, даже в самых ужасающих сценах.
Les Echoes
Пол Линч – невероятно талантливый ирландский писатель.
Trois Couleurs
Новая ирландская гвардия не перестает поражать своей мощью и визионерством. В этот ряд следует немедленно добавить и Пола Линча. Он исследует суть человеческой природы с ярким лиризмом и уже предъявил читателю неповторимый голос – его галлюцинаторный реализм воплощен в завораживающей, гипнотической, чародейской прозе.
Le Temps (Switzerland)
Если коротко: здесь мастерство великого стилиста.
La Quinzaine Litteraire
Красота его письма, проникнутого лиризмом, ослепляет.
Elle
Язык у Линча богатый, сложный, лиричный и в то же время какой-то бешеный. Здесь уровень Кормака Маккарти, Сола Беллоу, Джона Бэнвилла, Колума Маккэнна, Владимира Набокова и подобных современных классиков.
La Croix
Как писатель Линч неповторим. Его стиль смел, грандиозен, он зачаровывает. Линч стремится воздействовать сильно, подступаться смело к масштабным идеям. Цитируя Мелвилла, он – из тех писателей, кто осмеливается «нырнуть» в самые темные глубины души, рискуя всем, ради того, чтобы всплыть с жемчужиной в руках. Линча сравнивают с Маккарти, Фолкнером и Беккетом, а некоторые относят его к ирландской готической традиции Стокера и Ле Фаню, но свежий, оригинальный дар, возможно, ни к чему немедленно определять в какую бы то ни было ячейку. Этот писатель уже успел обозначить свою литературную территорию…
The Sunday Times (Ireland)
Линч – выдающийся талант с завораживающим стилем, он в равной мере пронзителен и ослепителен…
Le Figaro
Проза струится, как хороший ирландский виски, и заставляет читателей впивать слова Линча; иногда она настолько поэтична, что читается так, будто это написано Джойсом.
RT Book Reviews
Некоторые из самых значительных литературных произведений первых десятилетий XXI века были созданы в Ирландии, а Пол Линч – один из ведущих представителей постмодернистского ирландского возрождения.
New York Journal of Books
Пол Линч – автор, для которого значимо каждое слово… еще одна возможность получить потрясающий урок веры в человечность.
La Libre Belgique
Романы Линча – творения художника. Линча занимают не только способы выживания… хотя рассказывает он о них захватывающе и убедительно. Прежде всего его волнует внутренняя борьба, что происходит в душе человека: как люди проявляют себя в экстремальных ситуациях.
The Sunday Times
Пола Линча по праву считают одной из литературных звезд Ирландии.
Hot Press
Зачастую персонажи Линча происходят из весьма специфической культурной и исторической среды, но сюжет вырывает их из привычного социального контекста и помещает в далекую от повседневности метафизическую область: пространство за пределами их культуры, и поэтому они кажутся оторванными от корней. И здесь его герои становятся объектами сложных размышлений о природе памяти, о самоидентификации. В то же время автор пытается уравновесить философскую составляющую описательной, уделяя пристальное внимание пейзажам, месту действия, физиологии. Линч выделяет и подчеркивает эти особенности и с поразительной четкостью провозглашает свои литературные интересы: вечные вопросы, способны ли мы забыть прошлое, хозяева ли мы собственной судьбы, и насколько наша душа выражается в нашем физическом бытовании.
The Times Literary Supplement
Пол Линч – один из величайших ирландских писателей наших дней.
Liberation
Есть множество выдающихся авторов, чей взгляд непринужденно пронизывает бесконечность, и главные из них – Вирджиния Вулф, Кафка, Борхес, Клариси Лиспектор. Хотя для меня Мелвилл, Достоевский, Фолкнер, Джозеф Конрад и Кормак Маккарти тоже ведут многосторонний диалог сквозь время. По видовой принадлежности этих писателей следовало бы назвать космическими реалистами. Ибо их отличает космический взгляд, способность всмотреться с высоты в человеческую муку, смятение и величие, удерживать в поле зрения не только стол, стулья и застольную беседу, но и фундаментальную странность нашего бытия – бесконечные пространства, которые нас окружают, вечные истины, которые формируют нас на протяжении веков. Взгляд этих писателей проникает в самые дальние уголки реальности и в самую суть того, чем мы являемся. Тайны мира остаются непознаваемыми, но космический писатель берет на себя труд стать их толкователем.
Пол Линч
Анне Тейлор
И кто вспомянет мой дом, и где дети детей моих найдут себе крышу,
Когда настанет время скорбей?1
Т. С. Элиот
Часть первая
Углядел это Мэттью Пиплз с началом темноты. Кряжистая его фигура посреди поля, выпрямился, вполоборота, почесать на плече царапину. Стоял, раздетый до серой нательной рубашки, немытый и безмолвно озадаченный тем, что́ увидел: тонкий кошачий хвост, серо вившийся в небо, вроде как дым, легко сливался он с оловом облаков. Вечер наваливался нежно, и из-за того, как падал свет, можно было и не заметить ее, желтизну эту, что отрясалась на угасавший день и облекала поля Карнарвана3 соломенным сияньем. Три человеческих фигуры в том поле и тройственность теней, длинно просеянных обок. Гнедой кобыле на миг неспешно.
Едва ли хоть слово – таков был уклад у Мэттью Пиплза, покуда дело не сделано, и лишь после этого скажет он слово-другое, затянется трубкой, распрямится да отпустит негромкую шутку. Теперь же прояснил голос, а заговорив, обнаружил, что не слышат его. Вновь он нагнулся к работе, поросль на руках бела, как и белая тень по скулам, и глаза стариковские, в череп глубоко посаженные, придавали ему вид старше, чем по годам. Руки красны, лопатят камни, что таились невесть сколько, неразлучные с землею, а теперь лежали, осиротелые, на краю поля.
Мэттью Пиплз шел за лошадью. Восьмилетка она была, и что-то в ней было беспокойное. В то утро он вывел ее из конюшни, но во дворе она заупрямилась, подалась было от него прочь, фыркая неуступчиво. Полегче давай а ну. Показалось, чует он тревогу, что-то подрагивает под шкурой, и он уставился на нее, и вгляделся в темное стекло глаза, и увидал в нем вытянутого да изогнутого себя самого. Тяжко сморгнула она раз-другой, опустила взгляд в землю, словно зачарованная чем-то, и он смотрел, как она поднимает колено, будто несогласие ему пригрезилось. Не дока он был в лошадях, но Барнабасу Кейну сообщил, и у того губы потянулись к улыбке, глазами же улыбка та не завладела.
Когда ей не по себе, она тебе чуть ли не доложит, сказал он.
Так, может, уже и да.
Мэттью вытянул из земли камень странных очертаний, остановился, стер с него глину. Углядел некое качество, и поплевал на камень, и вытер его о штаны. Камень оказался кругловат, вроде неолитического инструмента – Мэттью раз видел, как такой извлекли на поле, и прикинул, не оно ли это: предмет гладкий и плоский, выделан древними руками – по прикидкам Мэттью, едва ль не безупречно. Глянул на Билли, сына Барнабаса, и, чтоб ему показать, протянул, но парнишка стоял, вперившись в собственные мысли. Стоял он рядом с лошадью, руку нянькал под рубашкой, до этого порезавшись об оскал старой бутылки, торчавшей из земли. Мэттью отвернулся от Билли и сунул камень в карман. Синяя веревка, служившая ему поясом, ослабла, он перевязал узел потуже и вновь склонился к работе. Некое чувство принялось терзать его, будто неведомое наречие, доносившееся из места ощущаемого, но не воплощенного, и он потянулся взглядом по полю к Барнабасу, тот остановился, чтоб поправить на лошади упряжь. Отсвет мощи в том, как стоял Барнабас, коренастый, туго свернутый под измаранной в глине рубахой. Поза человека, по обыкновению, горячего. Человека, склонного к мыслям о вещах глубоких, однако неловко ему о них заикаться. Растущая тростинка Билли с ним рядом, четырнадцатилетка с кислой миной.
В ушах у нее музыка пчел, а затем беззвучие дома. Эскра Кейн стояла тоненькая в прихожей, синее платье на ней почти в тон глаз. Темные волосы соскользнули на лицо – она стянула с головы капор, сеткой от пчел обернутый, как у невесты, и повесила его на курносый шишак балясины. Гостиная рядом ярко охвачена была желтеющим светом, и он сиял на темноту пианино. Эскра вздохнула. Такие вот дни просушивали сырость у человека в костях, отпирали засовы зимы на сердце. Когда приехали они с Барнабасом в Донегол, сынок Билли учился разговаривать. Местные смотрели на них сторожко, а стужа стегала и впивалась зубами. По-местному умел один Барнабас. Край этот она видела диким и нищим, картина мрачнее, чем греза, какую ткали ей родители-эмигранты – тиронцы, отплывшие на корабле в Нью-Йорк и построившие там себе уж что удалось. Здесь видела она сырость и запустение, ту неотступную томительность, какой приходилось противиться. Те первые ночи лежала она подле Барнабаса и слушала дождь и ветер, а дальше – ночи, когда погода вроде как прекращалась вообще, и Эскра слышала в том беззвучии отворение пустоты. Из этих мест мужа ее выслали в детстве сиротою. Она выучилась находить отдушину в редких вечерах, подобных таким вот, утешенье в том, что сынок их растет местным в краю, что по праву был ему домом.
В кухне она обнаружила, что печь тикает. Затхлость торфа и благоуханье доспевающего жаркого. Легкая лаванда в воздухе. Как обычно, буря крошек там, где садился поесть Мэттью Пиплз, здоровенные медленные руки тянутся за черным хлебом, дерут его. Она вытерла еловый неструганый стол и увидела, что буханка-то почти съедена. Скоро уж лампы зажигать. В комнату сумрак вносил свои тени, и те вытягивались, будто просыпался цирк темных зверей.
Поле – неровное, кочковатое не пойми что, давно не использованное – тянулось усохшей ногой вдоль пастбища пошире, отделенного деревьями. Никакого проку с него, разве что для свалки. Еще в начале февраля Барнабас встал, потирая скулу костяшками, и сказал, что смотреть ему на этот участок тошно. Чудны́е несколько дней теплой погоды. Мы его перепашем, и вынем камни, и нахер завалим навозом, и посмотрим. Стояли они и оглядывали его. Клоки поля плотны от крапивы, что колыхалась, когда подымался ветер, как буйно море. Полузатонувший в нем лежал погибшим судном старый культиватор в спорах ржавчины. Пришлось выволакивать его лошадью, оставили они его, натужного да помятого, в лощинке между деревьями. Поле по углам обрамлено было скучившимися тернами, и Мэттью Пиплз двинулся на них, посверкивая улыбкой, с садовым резаком.
Лошадь у Барнабаса шалила, и вести ее под уздцы вызвался Билли. Барнабас глянул на мальца и подошел к нему, взял его руку в свою. Ступай-ка домой, и пусть мать обработает тебе. Отпустил сыново запястье и легонько ущипнул его за ребра, и Билли от отца отпрянул. Отстань, а? Встал в сторонке и давай наматывать подол рубахи на руку, указания не слушаясь.
Барнабас вздохнул. Испортишь рубаху-то.
Рубаха эта старая как хер знает что, ну. С лошадью управлюсь.
Никакой помощи лошадь не требует.
Билли подался вперед приглядеться к ней. Сразу же за упряжью стерта шерсть на участке с монетку величиной, обошел он кругом и увидел то же самое с другого боку.
У нее до мяса скоро сотрется, ну.
Вряд ли.
Может, передохнуть ей.
Барнабас рассмеялся. У этой лошади отпуск уже был, бездельничала в поле да в стойле всю неделю.
Билли потешил лошадь по носу, заглянул ей во тьму глаз, будто умел передать некое чувство или намерение.
Мэттью Пиплз расправил спину и тут услыхал далекий звук скотины в хлеву. Мык, словно скисший ветер. Что, к бесам, там с ними? Клятая веревка-опоясь опять распустилась, и он еще раз ее затянул и уловил, что поклевывает его некая странная мысль, и повернулся он, и тут-то углядел тот дым, увидел, как завитой кошачий хвост утолстился в спираль темно-грифельную. Смотрел, как она сложилась сама в себя, и на миг почудилось, будто вдвое разрослась, и он глянул на остальных, уловил, как внутри у него что-то затрепетало. Голос в горле туг, а ум его схватился за слова и сделал их осязаемыми.
Эй, ребята, сказал он.
Циклоп, дворняга Билли, возник в поле рядом с ним, встал наблюдать, лютый взглядом, рыжими глазами не смаргивая. Пес себе на уме, вельможно небрежный, кто ни позови, повернулся и взлаял на деревья. Барнабас замер в недоумении. Может, лошадь состарилась, а может, что не так с нею, как Мэттью Пиплз сказал, но самому Барнабасу не разобрать, в чем тут дело. Никогда прежде никаких хлопот. И мальцу руку надо привести в порядок. Лицо у Барнабаса горело, а под рубахой чесалось, и отгонял он муху, гудевшую у лошажьей холки. Повернулся к сыну.
Шагай-ка ты, пусть тебе руку посмотрят. Заразу занесешь, как пить дать.
Парнишка глянул на руку и на кровь по рубахе и заговорил, обращаясь к земле.
Все у меня в порядке, ну.
Ладно, давай тогда бери для лошади хворостину, раз так.
Барнабас пригнулся и подобрал камень, вылепленный как зуб какого-нибудь старого зверя, какой пал тут, чтоб издохнуть под колесом древнего солнца, а может, так оно и было, но когда бросил он его лениво к канаве, Мэттью Пиплз сделал шаг вперед и еще раз откашлялся. Иисусе Христе, ребята. Они на него внимания не обратили, а может, не услышали, бо поздней в памяти у них услышал каждый лишь глухой грохот сапог Мэттью Пиплза, топотавших по полю прочь. Ни слова от него, и что-то потешное было в том, как бежал он всеми членами своими, густо, будто наверняка споткнется и грохнется коленями в землю, рухнет без рук в грязь лицом, рассыплется на составляющие. Но никогда не видали они, чтоб он шевелился шустрее, кулаки шарами, точно булыги, и мигала им белизна лодыжек, когда вздергивались и опадали штанины. И кабы знал Мэттью Пиплз, к чему бежит, он бы, может, встал как вкопанный, развернулся бы к дороге за воротами на дальнем краю поля. Барнабас ума приложить не мог, что там с человеком такое, когда услыхал его запоздалый рев, одиночное слово, пролетевшее обратным ходом через голову ему, как брошенный камень. Дважды понадобилось услышать ему это слово у себя в уме, покуда взгляд не добрался до места над деревьями, где черно увидел он завиток, трепет дыма, который, казалось, кланяется ему лично.
Пожар.
Скольженье скворцов в небесах над Карнарваном казалось зеркально восходившему завитку текучего дыма. Мурмурация колыхалась едино с ним, словно переплетенье умов, небо ткала исполинским дыханьем, покуда закат не затрепетал, подобно легкому. Стая вывертывалась и кружила, ловила свет и гнула его, вновь разметывалась лентою нескончаемой петли, – быть может, так вот насмехалась природа над тем, что́ разыгрывалось внизу, но куда вероятней, что птицы ведать не ведали, замкнутые в своем бытии. Мальчишка увидел картину ту над городком, но в уме ее не удержал – смотрел, как отец слепо бежит по полю, глянул на темневшие деревья. Что-то подобное потустороннему гостю холодом прошло сквозь него.
Ум Барнабаса, устремленный поверх пропасти, какую не мог он видеть. Он двинулся за Мэттью по полю, в ногах такой хмель, будто тревога сделалась чем-то жидким, влитым в кровь ему, но погодя управился он побежать.
Не дом бы, прошу. Ох, Эскра.
Узкое поле и тянется нескончаемо, и тут увидал он, как Мэттью исчезает промеж деревьев. Бросился следом, деревья дубы, и яворы, и чахлые буки, торча пальцами в небо, будто все еще пытались безотлагательно молить жизнь о чем-то. Тропа стоптанная. Навстречу ему облегченье в виде Эскры, бежала к ним, юбка поддернута, локти мелькают, на руках мука. Живей никогда не видал он ее, обе щеки ее горят. Углядел, как Мэттью Пиплз медлит миг, чтоб ее выслушать, скрючился он себе в колени, чтоб отдышаться, и опять бросился бегом. Барнабас догнал и остановился с нею рядом, и она взяла его запястье в мучную руку, белую, словно кровь из нее вытекла. Пот умащивал ей высокий лоб, дыханье сечет воздух, будто ножом, сечет по глазам ему. Крепче схватилась, пытаясь перевести дух. То, что увидел он у нее в глазах, едва не сразило его еще прежде речей ее, а как заговорила, снопом волосы пали ей поперек лица.
Хлев горит, сказала она.
Быстро провела она по волосам и на щеку себе нанесла полосу муки, будто помечена стала.
Покричи мальца, сказал он.
Оттиск ее лица у него на уме, пока бежал он. Мир его всё у́же, к зрению иного рода.
Хлев стоял под прямым углом к дому, здание, сложенное из камня, и на земле оно уже было, когда он ее покупал. В длину футов пятьдесят, со стойлами для скота, обитавшего там теперь на зимовье. Корм – на сеновале под старыми дубовыми балками. Закрывался хлев двустворчатой красной дверью в торце, в такую ширину, чтобы крупной скотине плечом к плечу не пройти, а потому внутрь и наружу гонять ее получалось небыстро. В уме он прикинул, что́ его там ожидает. Ну какого хера сейчас-то, в феврале, когда они еще не в полях? Пара месяцев – и все, проскочили бы. Он слышал, как пыхтит следом за ним Циклоп, напряг зрение за деревья, но ничего разглядеть не сумел, лишь то, что было прямо перед ним, серпантин древесных теней на тропе, словно шагнул он в ненастоящее, отринувшее всякое время, безразлично переписавшее все законы.
Выбрался он на пастбище и увидел спираль черного дыма, он скрыл дом, растекся, будто чернила каракатицы в воде. У хлева полыхал западный край крыши. Дым сочился из окон, словно вода, струящаяся задом наперед по камням, завивался вверх к крыше, где сочетался тошнотворным союзом с дымом потемней. Барнабас вбежал во двор и увидел, как Мэттью Пиплз налегает на длинный рычаг колонки. Здоровенны у него ручищи-деревья. Ведро на рыле у колоночного крана, вода в него плещет. Мэттью Пиплз повернулся к нему, лицо подсвечено словно бы яростью, и бросился бежать к пожару, замахнулся ведром и выплеснул в воздух реку. Вода летела краткий миг, сверкающая и до странного красивая, покуда не пала, угаснув, на крышу, будто камень встретился с океаном. Подбежал к нему Барнабас, схватил за плечо. Нахер, говорит. Потянул его за руку, показал. Подскочили они к дверям хлева и встали перед ними, лукавый дым-призрак сквозь щели, будто пожар-то совсем пустяковый. Глаза у Мэттью Пиплза вытаращились с видом того, кто плавать не умеет, а позван в воду. Он помотал Барнабасу головой – тот стоял да щурился на двери. Та мольба в глазах у Мэттью Пиплза, оставшаяся незамеченной, и постоял Барнабас, глядя на курившиеся двери, почувствовал, как на миг ноги подкосились, сорок три коровы внутри, вдохнул поглубже, заметил, как приближаются с поля к воротам Эскра с сыном, вот тут-то и положил он ладонь Мэттью Пиплзу на спину и подтолкнул его к дверям.
Может, дверной косяк повело от растекшегося жара: двери сотряслись, но не поддались. Мэттью Пиплз и на щеколду давил, и дерево пинал, и отзывалось оно содроганьем, какое рев огня глушил до немоты. Едва доносились до них голоса Билли и Эскры. Мэттью Пиплз отступил на шаг и нервно поискал глазами небо под клобуком вечера, надвигавшимся постепенно, однако увидал он небо, дымом отмененное, и тогда быком напер он на дверь, и дверь всосало нараспашку в неведомую темь, проглотившую напавшего на нее целиком, Барнабас – бегом следом, рубаха поддернута ко рту.
Разные запахи хлева устранены, будто и не существовало в нем ничего. Перечень запахов – птичьей гречихи, и навоза, и корма, вплетенный в дух, ими же творимый. Тяжелая прель сена. Сырой запах старого здания. Теперь же – лишь смрадный дух гари да воздух, прокопченный до невещественности грезы. Более же всего ужаснул их заполошный животный рокот. Скотина, запертая в своих стойлах, нагромоздилась друг на дружку, пытаясь выбраться. Как-то раз темным осенним днем Барнабас видел, как они растревожились и ударились в бегство, будто единое мыслящее существо, понеслись к хлеву в перерыве между ударами грома под тучами, что спускались им навстречу. Теперь же исторгали они отчаянный рев, какой никто не пожелал бы услышать. Барнабас ощутил руку Мэттью Пиплза у себя на плече, но не увидел его, почувствовал, как отпускает его рука, оттиск ее на нем по-прежнему. Призрачный очерк предметов, глаза режет от дыма, дыхание обмелело, будто от удара в живот. Он закашлялся и пал на колени, и тут услышал, как порождает пожар собственные звуки, низовое урчанье довольства, будто огонь нечто такое, что таится, тугое, и ждет, свернутое зловредными кольцами, и упивается, на волю выпущенное. Барнабасу пришлось прокрутить в уме устройство хлева, который знал он как свои пять пальцев, но, куда б ни полз, не мог отыскать стойла, не мог отыскать вообще ничего, руки на земле, а все равно никаких подсказок от поверхности, никаких опознавательных знаков или точек отсчета, словно все, что было, стерлось, а когда попытался отыскать он дверь, вообще ничего не стало видно, ни стен, ни света снаружи, ни человека, который с ним сюда вошел, и он позвал Мэттью Пиплза, едва слыша свой же голос, будто забили ему рот кляпом, и переполох, что охватил его тогда, подобен был взрыву света у него в уме.
Хватают его здоровенные руки. Ворот рубахи на шее петлей, и он почувствовал, как его волокут спиной вперед, прочь за двери хлева, а следом во двор, где и уложили на спину. Глаза, дымом поеденные, зажмурены, и резал их день-свет, не посмотреть на него. Лежал Барнабас на плитняке, голова бессловесно отвернута, и постепенно начал он видеть, мир – жидкая муть, клок неба пуст, как снежный дол, пока не разглядел, как марает небо темный дым. Долевая и уток его дыханья разметаны до грубой штопки.
Он глянул вверх, чтоб поблагодарить Мэттью Пиплза, но тот, кого увидел, был другой. Глазки-самородки соседа Питера Макдейда, один косой – на Барнабасе, второй наставлен куда-то повыше, словно видел он тень кого другого, кто мог бы Барнабаса побеспокоить. Морщины – ниточки смеха, что делали из рта его марионетку, теперь напрочь опали, и ужасная хмарь изрезала ему лоб, в складках дым-грязь. Принялся Питер Макдейд трясти Барнабаса. Убило тебя? Убило? Эскра склонилась над ним, а затем помогла сесть. Воздух смердел, однако ж в тот миг учуял он от нее малость мягких и обыденных запахов, жасмин волос, тень лаванды, собранной в саду, какую нравилось ей расставлять по дому в скляночках, мучная пыль с руки ее, приложенной к его щеке, и в тот самый миг, пусть не мог говорить, ощутил он изверженье небывалой любви и благодарности к ней. А дальше, когда глаза его вобрали всю картину хлева, не чуял он более ничего, один только запах мира растленного4. Видел, как бросился Макдейд к хлеву, и видел, как прочь отбивает его дым, перший на него штопором, как вновь двинулся на него Макдейд и встал в дверях, беспомощный, руками держась за голову. Обернулся он, и увидал в Макдейде Барнабас детское, что говорило о человеке, лишенном всякой силы и власти в убыстрении того, что уже сотворялось. Барахтался язык у Барнабаса, и подался он сам вперед, и попытался сплюнуть, голос выцарапался у него из глотки, словно выдран он стал почти весь и оставлен там, в хлеву, криком на полу рыхлым и немым. Рвущимся донести до них слова.
Мэттью Пиплз.
Что за день то был, те, кто потом судачил об этом, едва помнили. Умеренный желтый вечер без дождя оказался забываем. Огонь сотворил собственную погоду, ветер-дым, что крутился да вертелся, все равно что бесы разнузданные, как сказала одна женщина. Распалился тот вечер, будто вскипел от пожара воздух. Сажа мягка, словно снег, пала хрупкою пудрой на кожу. То происшествие так крепко во всех оттиснулось, что поглотило их, будто сказка. Пожар и звук голода его будто некая громадная силища, вырвавшаяся в мир, – нечто былинное, то, что хранило в лютости своей свирепую, каткую мощь моря. Людские очерки, против него восстающие, их малость, волнами напирающая, чтоб лишь оказаться отбитой. Позднее Барнабас даже не вспомнил про трудности их с лошадью. Или о том, что делал в то утро: яйцо с двумя желтками, которое вскрыл в плошку и заметил, что за неделю такое уже вторично. И когда темнота укрыла сажей все, кроме тлевших углей хлева, он не вспомнил о лошади, которую бросили привязанной в поле, пока Билли ему не напомнил. Простояла часы напролет в неудобстве, должно быть. Отправил мальца забрать ее, масляная лампа блекла среди заболачивающей тьмы, а затем вновь надвинулась та свилеватая общность теней.
Всего через несколько минут объявились на помощь соседи. Три брата Маклохлина прибежали через раскуроченные поля, все трое едва ль не один к одному. Мчали они, словно скаковые лошади, грудь навыкат, плечи назад, плеск каштановых грив за ушами. Тени от угасавшего света придавали строгости их покатым лицам, и подошли они к дому, одежда в шипах да колючках, словно, чтобы добраться сюда, продрались Маклохлины сквозь всю природу. Один расцарапался в красноту от запястий до самых закатанных рукавов. Увидали они, как лежит Барнабас, свернувшись, как в утробе, на дворе, Эскра над ним, помогает сесть. Питер Макдейд стоит беспомощный, руки прижав к голове. Мальчонка юркает у дома, словно какой зверек, глаза полоумные, растерянные, старается не показываться. Увидели и Питера Макдейда велосипед, где он бросил его во дворе, заднее колесо вращается медленно и останавливается, словно колесо фортуны на ярмарке в школьном зале.
Вскоре привалило еще людей. Соседский фермер по имени Фран Глакен явился, лицом дюжий, с соседнего поля вместе с двумя своими взрослыми сыновьями, головы их винно-лысые мокры от пота. Погодя жены с детьми, подтянувшись к ферме, уж цеплялись друг дружке за руки, словно друг в дружке могли отыскать стойкость. Этак встали они вместе, словно крепость.
Эскра носилась по двору, но ум ее в яростном размышленье не позволял ей видеть. Фран Глакен схватил ее за плечо и рявкнул на нее, лицо его в нескольких дюймах от ее, а глаза вот-вот лопнут. Женщина. Где ведра? Мужчина перед нею безвозрастная зверюга, безволосый и красный, будто освежеван погодою после многих лет, проведенных в услуженье ей, и брошен затвердевшим, как омар. Она показала на хлев и застыла, пока Глакен вновь не тряхнул ее. Она повернулась к конюшне и проговорила, вон там еще найдутся, смахнула волосы с лица, что застили ей зрение подобно занавесу. Глакен двинулся туда, ноги сокрыты дымом, скользящая махина с громадными членами, и появился с ведрами, и подошел к колонке. Принялся трудиться над сипевшей пастью ее и кивнул одному из братьев Маклохлинов, чтоб передавали ведро мужчинам, выстроившимся цепью. Увидал обок от себя Билли, вид у того растерянный. Билли увидел, до чего копченое у Глакена лицо, глаза горят, словно некое помешательство в них высвободилось, – а может, так оно и было, бо Глакен плоской лопатой ладони потянулся, да и приложил парнишку по лицу. Проснись давай, проорал он. Послал Билли в дом за полотенцами, и Билли, оторопев, бросился в кухню. Остановился у окна поглядеть, увидел отца сломленным во дворе, трое часов тикают, а затем медленный ленивый звук – каждые пробили пять часов. Билли сходил наверх к комоду и вывалил из него все, и тут дошло до него, что́ это было, и рассыпалось оно, мощное, набрякшее у него внутри, и сделался он перед силами его беспомощен. Стоял и смотрел в стену, и глубоко вдохнул, сгреб охапку полотенец и двинулся к зеркалу в коридоре, и тер глаза насухо, покуда не стало смотреться так, будто и не плакал.
Darmowy fragment się skończył.