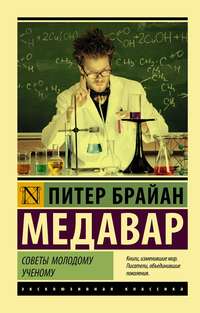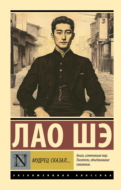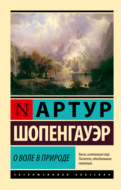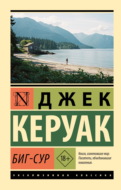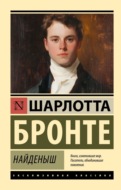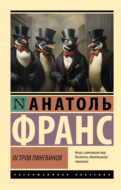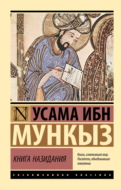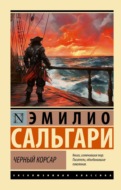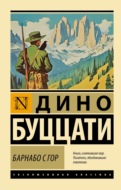Czytaj książkę: «Советы молодому ученому», strona 3
3
Что нужно исследовать?
Старомодные ученые скажут, что всякий, кому взбрело на ум задаться подобным вопросом, ошибся с выбором профессии, но такое восприятие больше относится ко временам, когда выпускника университета считали заведомо пригодным для самостоятельных исследований. Сегодня же все обстоит иначе, и практическое обучение «на производстве» является, по существу, незыблемым правилом: молодой и подающий надежды специалист еще на студенческой скамье подыскивает себе опытного наставника и рассчитывает набраться полезных навыков, одновременно получая степень магистра или доктора философии. (Эта степень – своего рода иммиграционное свидетельство, признаваемое почти всеми академическими институциями мира.) Но даже при этом ему предстоит сделать выбор – прежде всего найти себе «патрона» и решить, чем заниматься после получения степени.
Сам я проделал необходимые шаги по получению степени доктора философии в Оксфорде, выдержал экзамены и был сочтен достойным того, чтобы заплатить достаточно крупную по тем временам сумму за докторскую степень и обрести заветные «корочки», – но по зрелом размышлении решил обойтись без этих расходов. Отсюда, кстати, следует логичный вывод: человеческая жизнь вполне возможна и без докторской степени – к слову, эта степень была не слишком, мягко говоря, популярна в Оксфорде, когда я там учился; мой наставник Дж. З. Янг официальной степени не имел, хотя впоследствии был удостоен множества почетных степеней, обеспечивших ему академическую респектабельность18.
Что касается выбора патрона, проще всего найти такого поблизости – например, декана или старшего преподавателя на факультете, где учится студент, если такой патрон заинтересован в учениках или лишней паре рабочих рук. Подобный выбор имеет то преимущество, что студенту не придется менять усвоенные мнения, место проживания и круг общения, однако общество взирает на такие решения неодобрительно, и потому считается, что студенту/аспиранту негоже учиться дальше на том же факультете: всюду видишь поджатые губы, слышишь шепотки об академическом инбридинге, а всякий студент, решивший остаться на прежнем месте, вынужден внимать аргументам, суть которых обычно сводится к банальностям вроде «путешествия расширяют кругозор».
Впрочем, все это не должно влиять на окончательное решение. Что касается пресловутого инбридинга, именно так складывались и складываются многие замечательные научные школы. Если студент/аспирант понимает, какой научной деятельностью занимается его факультет, и гордится этой работой, для него будет наилучшим выбором держаться тех людей, которые знают, к чему стремятся. При прочих равных нужно присоединиться к такому факультету, чья деятельность вызывает энтузиазм, восторг или уважение; нет ни малейшего смысла идти туда, где просто подворачивается свободное место, не обращая внимания на научную деятельность этой структуры.
С полной уверенностью можно заявить, что ученый любого возраста, желающий совершить значимые открытия, должен атаковать по-настоящему важные проблемы. Скучные и мелкие задачи порождают, разумеется, скучные и мелкие ответы. Недостаточно того, чтобы проблема казалась «интересной»: в конце концов, едва ли не каждая проблема способна вызвать интерес, если погрузиться в нее достаточно глубоко.
Вот пример исследовательской работы, которой не стоит заниматься. Лорд Цукерман19 придумал чрезвычайно талантливого и не менее хитроумного студента-зоолога, решившего выяснить, почему на 36 процентах икринок морского ежа имеется крошечное черное пятнышко. Это, конечно, отнюдь не проблема глобальной значимости; нашему студенту повезет, если его изыскания привлекут внимание хоть кого-либо, кроме бедняги-соседа, желающего установить причину, по которой на 64 процентах икринок морского ежа нет крошечного черного пятнышка. В общем, перед нами наглядный образчик научного самоубийства, вину за которое во многом должны взять на себя наставники такого студента. Отмечу, что это сугубо вымышленный пример, поскольку лорду Цукерману прекрасно известно, что на икринках морского ежа какие-либо пятна отсутствуют.
Нет, научная проблема должна быть такой, чтобы ее решение имело общественный резонанс – в науке или для всего человечества. Ученые, взятые в совокупности, поразительно единодушны в отношении того, что действительно важно, а что – нет. Если выпускник затевает семинар, на который никто не приходит (или никто не задает дополнительных вопросов), это печально, но куда печальнее будет вопрос, заданный наставником или коллегой и позволяющий понять, что этот наставник или коллега пропустил все объяснения мимо ушей. Коротко: это «звоночек», к которому стоит прислушаться.
Изоляция для студента/аспиранта вредна и неприемлема. Потребность избежать изоляции – один из наилучших доводов в пользу присоединения к какому-либо интеллектуальному сообществу, где бурлит научная жизнь. Возможно, таким сообществом окажется тот факультет, где студент учится; но если нет, нужно противиться всем попыткам наставников удержать студента на этом факультете (увы, должен признать, что некоторые наставники не брезгуют шантажом и привлекают аспирантской стипендией студентов, которые иначе вряд ли бы к ним пришли). В наши дни, когда вокруг стало столько «одноразового» оборудования, очень легко, к сожалению, приучиться смотреть на аспирантов как на одноразовых коллег.
Получив желанную степень доктора философии, ни в коем случае – повторюсь, ни в коем случае – не нужно продолжать заниматься темой диссертации до конца своих дней, сколь бы ни был велик соблазн пойти уже проторенным путем, время от времени сворачивая на ведущие в том же направлении соседние тропинки. Многие успешные ученые пробовали силы в самых разных областях науки, прежде чем определились с основной линией своих исследований, но подобная привилегия доступна только тем, кому повезло встретить понимающих наставников – и при условии, что юный доктор не обременен какими-то конкретными обязанностями. В противном случае ему придется выполнять эти обязанности.
Поскольку свежеиспеченный доктор философии во многом является совершенным новичком, в современной науке ширится новое миграционное движение, которое распространяется столь же быстро, как когда-то (например, в мои дни в Оксфорде) распространялось желание обзавестись докторской степенью. Это новое движение представляет собой миграцию так называемых «постдоков»20. Исследования для диссертации и участие в конференциях обычно помогают студентам развить научные способности (и студенты нередко сожалеют, что не научились думать так, как на финальной стадии, еще до начала своих проектов). Ведь позднее они знают намного больше, чем на первых порах, о тех учреждениях, где ведется по-настоящему важная и увлекательная работа, желательно – в дружелюбной творческой компании. Наиболее энергичные постдоки могут попробовать влиться в какую-либо из подобных компаний. Старшие ученые одобряют такую практику, поскольку, раз молодые пришли именно к ним, велик шанс, что новички станут достойными коллегами, а сами постдоки таким вот образом попадают в новое для себя пространство исследований.
Что бы мы ни думали о «потогонной системе» докторских степеней, эта современная постдокторская революция – безусловное и неоспоримое благо, и очень хочется надеяться на то, что патроны и покровители науки не позволят ей выдохнуться и заглохнуть.
Выбирая тему исследования и академическое учреждение для сотрудничества, молодой ученый должен остерегаться следования моде. Одно дело – идти в ногу с общим, согласованным движением научной мысли (пусть это будет молекулярная генетика или клеточная иммунология), и совсем другое – просто попасться на удочку переменчивой моды, олицетворением которой может выступать, скажем, новая гистохимическая процедура или какое-либо техническое ухищрение.
4
Как подготовиться к тому, чтобы стать ученым или повысить свой уровень?
Разнообразие и сложность методик и дополнительных технологий, используемых в исследованиях, настолько велики, что новичок вполне может испугаться и отложить свои изыскания на неопределенное будущее, когда он окажется «как следует подготовленным». Поскольку заранее невозможно сказать, куда приведут исследования и какие научные навыки и умения понадобятся в их процессе, сама «подготовка» не имеет ограничений по времени – да и вообще это сомнительная затея с точки зрения психологии: нам всегда требуется знать и понимать гораздо больше, чем мы знаем и понимаем на данный момент, и овладевать большим числом умений, нежели то, каким мы располагаем. Существенным подспорьем для изучения какого-то навыка или дополнительной технологии является насущная необходимость его применения. По этой причине очень и очень многие ученые (и я в их числе) не торопятся усваивать новые умения или новые дисциплины, пока в этом не возникнет необходимость, а когда она возникает, обучение происходит достаточно быстро. Отсутствие же насущной необходимости у тех, кто вечно «готовится» к самостоятельным исследованиям и выказывает опасное стремление к пополнению группы «учащихся сутки напролет», порой делает таких людей малопригодными для науки, несмотря на все их дипломы и сертификаты соответствия.
Чтение
Схожие соображения относятся и к склонности новичков тратить недели и месяцы на «начитку литературы». Избыток книжного знания способен обрубить крылья воображению, а бесконечные размышления над результатами исследований других ученых иногда выступают психологическим заменителем собственных исследований – так чтение романтической беллетристики может оказаться заменой устроению собственной личной жизни. Ученое сообщество не придерживается единого взгляда на штудирование литературы: некоторые читают совсем мало, куда больше полагаясь на коммуникацию viva voce21, проглядывание «препринтов» и слухи, внимание к которым позволяет узнавать об очередных достижениях науки. Впрочем, подобные коммуникации – удел привилегированной публики; они доступны тем, кто уже продвинулся достаточно далеко и к кому прислушиваются другие. Новичок должен, обязан начитывать литературу, но выборочно, осознанно и без фанатизма. Редкое зрелище сравнится по трагичности с картиной, когда молодой ученый проводит все дни напролет над журналами в библиотеке. Куда полезнее для дела заниматься исследованиями – при необходимости обращаясь за помощью к коллегам, причем столь настойчиво, чтобы им было проще помочь ему, чем придумывать причины отказа.
Психологически намного важнее добиваться результатов, пусть даже не слишком оригинальных, но зато своих собственных. Результат, пусть и повторяющий чье-то достижение, придает изрядную уверенность в себе; молодой ученый наконец-то начинает ощущать себя «членом клуба» и может как бы мимоходом уронить фразу где-нибудь на семинаре или научном собрании: «Мой собственный эксперимент заключался в…», «Я получил точно такой же результат» или «Я склонен согласиться, что в данных условиях образец 94 подходит лучше, чем 93-й». А дальше можно снова присесть и выдохнуть, не показывая, что внутри все бурлит от восторга.
Набираясь опыта, ученые обыкновенно достигают стадии, когда появляется возможность оглянуться на начало своих исследований и подивиться собственной смелости и дерзости – «Насколько же я тогда был невежественен и как мало я знал!». Быть может, так оно и было на самом деле, но, по счастью, живой темперамент побуждает думать, что ты вряд ли потерпишь неудачу там, где одерживали победы многие, так похожие на тебя, а трезвое мировосприятие позволяет понимать, что желанного оборудования в твоем распоряжении (и желанной подготовки) никогда не будет в полном объеме, что всегда найдутся какие-то недостатки и прорехи в познаниях, и для того, чтобы преуспевать, нужно постоянно учиться чему-то новому. Лично я не знаю ни одного ученого любого возраста, который не восхищался бы перспективой непрерывного обучения.
Оборудование
Старомодные ученые порой настаивают на значимости того факта, что настоящий исследователь должен иметь собственную аппаратуру. Если речь идет о том, чтобы вставить одну деталь компактного прибора в другую – никаких возражений, но что касается осциллографов, такой подход уже не годится. Современная аппаратура по большей части чересчур сложна, чтобы конструировать ее самостоятельно, и заниматься этим разумно лишь в особых условиях, когда необходимого оборудования еще попросту нет на рынке. Да, проектирование и конструирование научной аппаратуры является составной частью научной деятельности, однако новичку будет вполне достаточно для начала одной карьеры в науке, а не сразу двух. Кроме всего прочего, на вторую ему просто не хватит времени.
Лорд Норвич проводку чинил над столом.
Был током убит. Так и что ж? – поделом:
Ведь долг богачей только в том состоит,
Чтобы ремонтник одет был и сыт.
Хилэр Беллок22, автор этого стихотворения, угодил не в бровь, а в глаз. Конечно, ученых не отнесешь к богачам, но размеры предоставляемых им грантов обычно покрывают затраты на необходимое оборудование.
Искусство решения
Следуя примеру Бисмарка и Кавура23, характеризовавших политику как искусство возможного, я позволю себе охарактеризовать исследования как искусство решения.
Некоторые люди почти наверняка и преднамеренно истолкуют мои слова так, будто я призываю изучать мелкие проблемы, подразумевающие быстрые решения, в отличие от моих идейных противников и критиков, изучающих проблемы, главная притягательность которых (для них) заключается в том, что они не поддаются разрешению. В действительности же я имел и имею в виду следующее: искусство исследования состоит в том, чтобы сделать проблему разрешимой, отыскав способ проникнуть в ее, если угодно, «мягкое подбрюшье» или куда-то еще. Очень часто поиски решения заставляют производить вычисления или точно учитывать физические состояния в тех областях, где ранее хватало определений вроде «чуть больше», «чуть меньше», «довольно много» или (о, это проклятие научной литературы!) «выраженная» («Инъекция спровоцировала выраженную реакцию»). Численные методы сами по себе ничего не означают, пока не помогают справиться с задачей. Чтобы пользоваться ими, не обязательно быть ученым, но они и вправду полезны.
Моя собственная карьера в медицине началась с того, что я придумал способ оценки интенсивности реакции у мышей и у людей, которым пересаживали ткань от другой мыши соответственно, или другого человека.
Darmowy fragment się skończył.