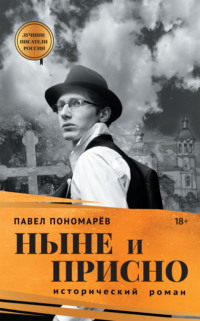Czytaj książkę: «Ныне и присно»
Когда наступают такие непонятные времена, душу поневоле охватывает гнев. Хочется скрыться в пустыне, где всё будет нежное, нетронутое, исполненное неиспорченной гениальности. Вдруг ощущаешь, что двери перед тобой захлопнулись.
Как же быть, где взять сил, чтобы отпереть двери в этот недостижимый рай, который, однако, кажется таким близким?
Знаю, порой трудно бывает понять то, о чём я говорю, – у меня странный способ изложения. Но я верю, что для этого достаточно глаза, – как говорят, что для музыкального слуха достаточно только одного уха.
<..>
Искусство по большому счёту – это акт веры.
<..>
Я снова вижу бедный домишко своего детства, где, кажется мне, на крыше и в небе до поздней ночи так же сиял пылающий куст.
М. Шагал, «Искусство и жизнь» (доклад, прочитанный в Комитете общественных исследований в Чикагском университете, март 1958 г.)

© Пономарёв П. А., текст, 2024
Легенда о Климонте Монастырском
На то они и смутные были, те времена.
Петро Конашевич Сагайдачный, гетман Войска Запорожского, прошёл через город, выжег его и подошёл к монастырю в трёх верстах от посада.
С вечера казаки приготовились к осаде, чтобы наутро взять монастырь.
Монахини сговорились отдаться.
Но утром Сагайдачный приказал отступать.
«Истинно, чудо – даровала Пресвятая Дева Мария спасение нам!»
А через девять месяцев инокиня Параскева родила мальчика.
Назвала Кононом.
Расстригли Параскеву и выгнали из монастыря.
Поселилась она в Казачьей слободе на Дону – в полутора верстах от посада. Там, на берегу, с давних времён селились те, кто не уживался в городе на большой горе: уходили под гору, к вольным людям, где всякий друг другу ровня.
Вырос Конон – не чета мордатым посадским: черты точёные, нос крючком; скуластый, белокожий, сероглазый; на веках – сиренево-серая тень. Волос вьющийся, смоляной. Ростом выше среднего, худощавый. Пальцы на руках длинные, тонкие – разве что клевер ими держать; ногти на пальцах – фиолетово-белые, покатые, словно чешуйки. Грех такими руками трудиться.
Мать обучила Конона грамоте, счёту, слову Божьему. Научила писать и петь.
И стал Конон дьячком при слободской церкви.
Поп Никон пережил жену и сыновей и умер на руках у Параскевы, ходившей за ним последние годы. Церковный престол и свою избу Никон завещал Конону.
Параскева пережила Никона не надолго – от природы болезная, стыдилась она своего позора, точившего её все годы.
Перед смертью Параскева исповедалась Конону. Так узнал он историю своего рождения.
…Ночью, когда к городу подошли татары и встали на том берегу, Конон переплыл Дон.
А утром татары были в городе: они вышли в обход острога к посаду – через тайный ход, который с того берега Дона, вдоль брода, выводил к монастырю.
Монастырь был разорён.
Посад разграбили и сожгли.
Казачью слободу не тронули.
Пристрастился с тех пор отец Конон к вину. Будто вину свою он топил, как в Дону, в вине.
Уходил отец Конон на гору – в пустошь, в степь. Лежал на клевере, и несли с него пчёлы пыльцу в свои соты на берег Дона, чтобы потом выжал из них отец Конон мёд и выгнал с него медовуху. И ничего ему больше не надо – ни людей, ни семьи, ни Бога. Вот его Бог – под ним: колет спину и щекочет лопатки. Муравьи заплетаются в бороде. Ветер волосы с травою мешает. И пока пьян отец Конон, не помнит он ничего – ни мать, ни попа Никона, ни татар… Будто не про него это всё – не его эта жизнь, и сам он – не он. А должен был он родиться в другом месте и под другим именем – где-нибудь на окрайне, на вольной земле, где нет ни царей, ни холопов, и где все люди – христиане, мусульмане, иудеи – друг другу братья.
За пьянство и непотребный образ лишили попа Конона сана.
И стал Конон Распоповым.
Прожил он век: увидел, как стали иереями сын его, внук и правнук; увидел, как сломали в казачьей слободе деревянную церковь и на её месте поставили новую – белокаменную; увидел, как стал острог на горе купеческим городом, и как на месте Пьяной пустоши возникла Медвянова пустынь.
Там и окончил свои дни старец Климонт – в миру Конон Распопов, (не)бывший Кононом Петровым сыном Сагайдачным.
Пустынь превратилась в монастырь.
Шли в монастырь пьяницы и пропойцы приложиться к иконе «Испей чашу мою».
Говорили, что иноки Медвяновой пустыни обрели эту икону, висевшую на дереве, которое словно ель было круглый год зелёным – не бросало свои листья ни осенью, ни зимой. Ближе к холодам листьев, правда, становилось меньше – на их местах набухали почки. Но снег сдерживал их до весны.
Местные монахи говорили, что под этим деревом лежит тело старца Климонта.
В Гражданскую через город прошли мамонтовцы. Белый генерал Мамонтов – ярый трезвенник – на своих руках вынес икону из монастыря, обернул в полотенце и положил в обоз.
С тех пор никто её не видел.
Говорят, что дерево, на котором была обретена икона «Испей чашу мою», монахи – в ночь перед приходом мамонтовцев – выкопали и пересадили на городском кладбище. Это место, говорят, знал электрик Спасо-Казацкого сельсовета Трофим Кручинин…
Часть I
Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов —
Бой часов: «Ты звал меня на ужин.
Я пришёл. А ты готов?..»
А. Блок, «Шаги командора»
Глава первая
* * *
Старик с трясущимися головой и руками, покрытыми сенильной пурпурой, берёт девятимесячного из рук рыжей девочки – своей внучки – и прижимает ко лбу. На лбу, высоком и высохшем, с выступающими от старости черепными швами у висков, в одной из морщин залегла белая жилка. Это шрам от осколка, чиркнувшего по звёздочке на ушанке весной сорок четвёртого.
1
12 марта 1944 года остатки 2-й роты, подкреплённые пулемётным расчётом, получили задание: к западу от озера Селигер Валдайской возвышенности отрезать пути отхода отступающим немцам, закрепившись на высоте 60.2.
Но до высоты 60.2 роте дойти не удалось: фашисты её, завязнувшую в лесу, на берегу Селигера, обнаружили и открыли по ней миномётный огонь.
И в этот момент старшина Кручинин получил слепое осколочное ранение в голову.
По телефонному кабелю старшего лейтенанта Волкова он бегом направился в тыл – до командного пункта.
…Сосуды пульсируют в голове, и кровь обжигает голову. Он бежит по телефонному кабелю в штаб комбата, зажимая кровоточащий лоб, но помнит только воронку от снаряда шестиствольного миномёта, только снег и землю – ледяные хлопья, комья, волной встающие и накрывающие. Как будто дышащая паром каша из котелка, опрокинутого в детстве со стола вместе со скатертью. И только она, эта скатерть, похожая на саван – спасение, укрытие от обжигающего дыхания. И только звенящий белый свет, становящийся темнотой, тишиной, пустотой, из которой вырывается женский крик, становящийся детским плачем.
Мать забирает девятимесячного к себе. Старик вытирает лоб от пота и детских слёз. Силится сам не заплакать.
Контузия достала его, электрика (сначала на литмехзаводе, потом в Спасо-Казацком сельсовете), в старости, возвращая своими припадками в детство – уездное, пыльное, когда во сне он просыпался от невидимой давящей силы. И отец – отец Иоанн – выносил Трофима на балкон.
Был балкон необычный – нигде таких больше не было, ни в каких других городах.
Дом их – одноэтажный, деревянный; на фасаде – четыре окна и дверь, выходящая на этот самый балкон.
Не совсем даже балкон, а скорее терраса, но без навеса и без стёкол. Вместо них – кованая, хотя и не тяжёлая, ажурная ограда.
«Балквон» (в городе все говорили «балквон»: таких «балквонов» было в городе чуть не через каждый дом; вернее так – чуть не через каждый зажиточный дом)… Так вот, балкон стоял на фундаменте – известкового камня, жёлто-белого цвета… Такого цвета был фундамент и самого дома.
Выходил балкон в палисадник.
…Отцветают яблони с вишней. Скоро начнётся сирень, потом – белая акация, потом, наконец, – любимый Трофимин жасмин.
Ночь на балконе – прохладная, свежая. Правее, шагах в пятидесяти от тропинки, круто уходящей к Дону, – белая Спасская церковь, в такой же белой ограде, образующей площадь на перекрёстке Спасской улицы и Никольского переулка, уходящего в Дон.
Луна над серебряной колокольней.
Лунный луч пронзает колокольню, и глазницы её озаряет свеча Вечного звонаря.
– Вон он, Трофима, видишь? Каждую ночь на нас смотрит. И так – всю жизнь, с тех пор как церковь эта стоит. Мне подмигивал, когда я такой был, как ты сейчас. А до этого – дедушке, моему папе. А ещё раньше – прадедушке, деду моему. Сколько стои́т наша церковь, столько и дом наш стои́т. Церковь – второй наш дом.
– А почему не первый?
Отец Иоанн молчит. Вопрос этот от сына – и счастье, и исход.
Отец Иоанн знает, что сын не станет священником и не продолжит семейное дело. Не то сейчас время. Родных сберечь, самому сберечься – до поры до времени (по-другому, видать, не выйдет) – вот, что первостепенно. Выжить, пережить и рассказать о том, в какое время жили – вот, что важно! Ибо не случалось такого, чтобы они гонимыми были – разве что в первом столетии. Подумаешь об этом – и волей-неволей поверишь в собственное второе пришествие.
– Потому что, сын… Вечный звонарь уже старенький. Он скоро по этому лучу уйдёт на луну. Ты должен его сменить – запомни, лебедёнок. Ты вырастешь, у тебя появятся свои дети, внуки. Кто-то должен им ночью освещать улицу, балкончик наш… Подари людям свет, сынок!
Отец Иоанн крестится на церковь и шепчет:
– Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли покланяемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти; и избави нас от всякия скорби, зол и болезней; огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Отец Иоанн целует Трофима в лоб. Курчавая жёсткая борода щекочет серые с просинью веки Трофима, навалившиеся на такого же цвета глаза.
Невидимая сила уже не давит. Её сменила другая сила, и вот уже свет Вечного звонаря рассеивается по всей улице и превращается в утро.
Солнце, встающее за Доном, уже достало до левой стороны балкона, тогда как правая сторона его, укрытая кустарниками, ещё в холоде и в тени. Птицы объяли балкон голосами, но сейчас все они одновременно замолчат – и через минуту на колокольне Спасской церкви ударит в колокол Вечный звонарь. И взметнутся над куполами хрипящие грачи.
2
Отец никогда не брал деньги за требы с сирот и со вдов. Мать за это таскала его за курчавую, клином стоявшую рыжеватую бороду, за выгоравшие на солнце и от этого из смоляных превращавшиеся в каштановые волны волос, покрывавших плечи…
Уходил он после этого к соседке, Марье Никифоровне. И уже сам – с горя, с досады – рвал волоски из бородки, в которую стекали слёзы. И с завивавшихся кончиков падали капли в чашку с мятно-липовым чаем, наведённым Марьей Никифоровной.
Только не было у них ничего. Не потому что он священник и нельзя ему с другими… А потому что он Лялю любил. Больше всех на свете, больше всякого жившего на земле человека.
А она его – за бороду. За волосы. За глупое милосердие, мягкотелость, которые заставляли метаться то к красным, то к белым, то опять к красным…
Это она заставила его, учителя сельской церковно-приходской школы, обрюхатившего её до брака, окончить курс в семинарии и принять – в семнадцатом году – сан.
Брать её в жёны он не хотел: боялся. Слишком уж «тёпленькая» она была. Родители Ляли, мелкие помещики с крупным фруктовым садом, промышлявшие всем, чем только можно было до революции – на селе, – стали его уговаривать. Сторговались на енотовой шубе – тут уж он отказать не смог.
Ляля, ходившая ещё в девках и оттого стыдившаяся росшего на глазах – особенно соседских – своего живота, всякий раз подвязывала его, опоясывала тканевыми слоями.
Трофим родился через пять месяцев после свадьбы – с огромной головой на тонюсеньком тельце, где как будто отсутствовала шея. Это потом, к отрочеству, она вытянется, изогнётся, точно у гусака, и в профиль он будет казаться сутулым и даже слегка горбатым – это одуванчиковая голова клонила его к земле, выгибая шейную пружину. Такими же по «конституции» были его три дяди, братья матери – коммунисты дядя Вася, дядя Федя и дядя Петя.
Первый был прапорщиком царской армии, но в Гражданскую перешёл на сторону красных. Подавлял антоновский мятеж – травил газами земляков. У Махно отбил любовницу и сделал своей женой. Быстро продвигался по карьерной лестнице и уже к началу тридцатых перебрался в Москву – в 1-й дом Реввоенсовета республики. Был начальником отдела в управлении вузов РККА. Зачинатель системы суворовских училищ. В войну служил стажёром по должности начштаба управления тыла 3-й Ударной армии. В звании полковника – генерала дяде Васе не дали из-за брата, судьбу которого он все сталинские годы боялся повторить.
Дядю Федю – Почётного железнодорожника, начальника станции Чусовская – расстреляли за «сокрытие соцпроисхождения и барское разложение», как написали Трофиму, искавшему следы дяди, из органов – уже теперь, в девяностые, когда правда стала выглядывать, а кое-где – прямо-таки выпирать, как соль на вконец высохшей таранке.
Дядю Петю – председателя сельсовета, двадцатипятитысячника, – ведшего взвод автоматчиков за танком на Курской дуге, разорвало от попавшего в танк снаряда. В похоронке было: «…В боях за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал без вести в июле 1943 года». Другого там быть не могло: после взрыва от дяди Пети ничего не осталось – пустое место. Пропал? Пропал. Без вести? Без вести – даже документов не осталось. Обо всём этом уже потом, после войны, когда сестра дяди Пети, тётя Паша, стала писать по военкоматам, по воинским частям, ей ответит один из сослуживцев брата, шедший в том же взводе, но не в начале его, за танком, а – в конце. Впрочем, и его тогда контузило. Тётя Паша ещё подумала: «Видать, тяжело контузило, коль он всё это мне написал…»
Первые года два после того как взяли отца, по городу ещё ходили слушки, сплетенки, что видели, мол, «Цыгана» (так его звали в городе – за кудрявые чёрные волосы и крючковатый нос) – то в соседнем Ельце, то на железной дороге; то где-то на пересылке какой-то «откинувшийся» – то ли из Сергиевки, то ли из-под Слободки – с ним пересёкся…
Чем ближе подступал коммунизм, тем больше Трофим убеждался, что отца, как и дядю Федю, пристрелили в тридцать седьмом.
Лет десять назад (он тогда, помнится, как раз читал «Чёрные камни» Жигулина в «Знамени») Трофиму позвонил из областного архива директор, Викентий Богданович:
– Трофим Иваныч, милейший, у меня для вас чрезвычайно важное сообщение! Я только что получил последний номер «Коммуны». Статья «Какой лес хранит тайну?» Некто Иван Текутьев… Дубовка (это под Воронежем)… Это было там! Он был свидетелем, даже можно сказать – очевидцем. Нет, он не видел, как их расстреливали. Но он слышал выстрелы, понимаете? Он видел ямы. Это сенсация! Нам необходимо немедленно туда ехать, сию же минуту, дорогой мой. Будет расследование. Трофим Иваныч, дорогой, я почти уверен, что прах вашего батюшки – там.
На следующий день Трофим выгнал из гаража свой «Запорожец», за которым в своё время как инвалид войны отстоял несколько лет в очередях, и поехал в Воронеж. Викентий Богданович ждал его уже там.
3
От нахлынувших под утро воспоминаний голова стала разрываться. Должно быть, давление, погода меняется. Сегодня придёт этот… Как его, погоди… Говорил, что историк… Нет, он говорил: краевед. Вот – да, да, да. А как же его зовут? Ведь он представился по телефону… Забыл – лысый долболоб! Ведь записать надо было – сразу же, как только положил трубку. Нет, Господи помилуй, зачем же «как только»? Пока не положил! Ну, впрочем, всё это теперь пустое… Глупо об этом думать сейчас – теперь надо только дождаться.
– Трофима-а-а! – кричал низкий гундявый грубоватый голос, так, что не сразу поймёшь, кому он принадлежит – женщине или мужчине. Последний звук имени превращался этим голосом из раскатистого «а» в гулкое «о». – Подымайся!
И всё-таки голос принадлежал женщине. Это звала Трофима Ивановича его жена Аля, младше его на одиннадцать лет – бабка без возраста, похожая на Татьяну Пельтцер. Она собирается на рынок – продавать цветы. Каждое утро она уходит на эту свою «работу», и каждое утро он её провожает. Для него теперь это – единственная мужская обязанность, практически – супружеский долг. Аля (и) к этому давно привыкла и теперь сама мобилизует Трофима на исполнение «повинности».
Трофим Иванович опустил костлявые ноги на круглый лоскутный коврик, упёрся рукой в матрас, под которым от стариковских движений заходили пружины, оторвал от кровати тело и сел.
Взгляд уставился в пол. На коврик. Такие коврики вышивала его баба́, мать отца. Она эти коврики дарила всем своим многочисленным детям и внукам, жившим в соседних друг другу сёлах и городах; так и жила, останавливаясь на постой со своим походным самоварчиком то у одних, то у других, питаясь одним кипятком с сухарями.
Ходила она – всегда в чёрном – только пешком, изредка подсаживаясь к проезжавшим мимо попутчикам на телегах. Восстанавливала силы, сходила с телеги и дальше шла.
Так с богомольями исходила пол-России.
Этот коврик баба́ подарила Трофиму на его тридцатилетие. Трофим приехал тогда к ней тайком, с хабаровской станции Дормидонтовка в Москву, где баба́ жила в последние годы – на Воробьёвых горах, в бывшей дворянской усадьбе, ставшей теперь общежитием. В одной из комнат баба́ – сирота-дворянка, выпускница Бестужевских курсов, земская учительница, дьяконская вдова, а ныне чернорабочая Тракторной фабрики имени Октябрьской революции – и жила теперь.
Трофим нашёл её тогда – постоянно куда-то бегущую, не сидящую на месте – практически не изменившейся; и читала она – в свои восемьдесят шесть – теперь без очков.
Было это за месяц до июня сорок первого.
А в июле Трофима призвали.
В комнате как воронка смерча стояла Аля – с ведром, из которого выглядывали тюльпаны и разноцветная обёрточная бумага.
– Дед! Ну какого ж ты шута расселся! Щас казацкий автобус уже, а ты свою духовку прищемил! – Аля затараторила, завертелась на месте – в старости по темпераменту она стала почти как баба́, только образ мышления предательски выдавал и расслаивал их «соцпроисхождения».
…Летом сорок четвёртого он, после контузии, выйдя из Кащенко, поехал на Воробьёвы горы. Он верил, что баба́, пережившая всех своих детей и часть внуков, погибших на фронте (Трофим оказался исключённым из этого списка – для него война кончилась), пережила и войну.
Усадьба-общежитие стояла по-прежнему. По-прежнему в ней жили рабочие Тракторной фабрики имени Октябрьской революции.
С безупречной зрительной памятью, не задетой контузией, Трофим вбежал в комнатку баба́. На диване лежала пьяная голая женщина.
– Александра Стефановна… Степановна – где?
Женщина отрыгнула, застонала и отвернулась к ведру, стоявшему у кровати.
Из комнаты напротив вышла бывшая монахиня Новодевичьего монастыря. Её Трофим помнил по своей последней встрече с баба́: монахиня зашла к ним тогда попросить кипятка.
Она тоже признала Трофима. И рассказала, что осенью сорок первого, когда немцы стояли под Москвой, их «артель» – всех «чуждых элементов» – лишили пайка, потому что, как им сказали, еды в городе на всех не хватает. Баба́, всю жизнь питавшаяся кипятком с сухарями, умерла от истощения. Хоронить её отказались: испугались пособничества врагу народа. Пусть и уже – неживому. А фраза «реабилитирован посмертно» в народ ещё не ушла. Да и не про то это. Не про то – когда под «дорогой моей столицей» стоят другие враги…
Баба́ похоронили на Новодевичьем бывшие «коллеги» бывшей монахини, которых ей удалось собрать. Она и показала Трофиму, где лежит баба́. На металлическом столбике была прибита табличка с номером – вот все координаты.
4
– Ну, прощевай! – Аля завернула руку за плечо Трофима, обхватила его шею и крепко, на две-три секунды, приложилась губами к его щеке, стараясь не увлажнять её – плотно смыкая, почти скрывая свои губы. В лицо Трофиму пахнуло шипром, которым они с женой пользовались одним на двоих.
Но помада всё равно осталась на щетинистой трофиминой щеке. Аля облизнула пальцы и размазала ими след. Потом поставила на землю ведро и обеими руками стянула фетровую шляпу Трофима с его макушки на лоб, подняла воротник мужниного выгоревшего плаща и запахнула его, завернув лацканы и застегнув их под самую шею. Деревянные пальцы её не слушались, и поэтому каждое их движение казалось неаккуратным и грубым.
– Ну всё, всё… – сказала она – то ли ему, то ли себе – взяла ведро и стала стремительно отдаляться в сторону остановки.
Дальнозорким зрением Трофим провожал свою Алю. Её растворявшийся зад при каждом шаге вихлял то влево, то вправо. Её поясница вытягивалась на уровень глаз Трофима, но талии там, – где глазами искал Трофим, – давно уже не было.
Он постоял, наблюдая, как на ходу Аля шарила свободной рукой в кармане, нащупывая платок, чтобы, достав его, промокнуть глаза, на которых стояла влага – от майского влажного ветра. Никак иначе.
И когда Аля окончательно растворится за остановкой, Трофим, скопив силы на обратную дорогу до дома, наконец пойдёт.
Идти ему – от силы – полторы минуты. Правда, теперь они превращаются в три, четыре, пять… Передвигаться без опоры он уже не может. Это только звучит манерно – «трость». На деле – костыль без подмышки.
Метров десять пройдёт – останавливается. Дурнота подкатывает, на лбу выступает испарина. Сейчас бы присесть куда, а то завалишься, подкошенный – только некуда.
Но вот силы вновь вроде бы возвращаются, и Трофим Иванович дальше идёт.
Всякий раз, когда он покидает дом и идёт во двор или в гараж, он делает это тайком от Али – особенно, когда её дома нет. Но Аля всякий раз догадывается и начинает Трофима отчитывать. Впрочем, Трофим её «выволочки» всерьёз не воспринимает. И уж только когда Трофиму вконец надоедает визгливая брань жены, он флегматично бросает:
– Ну-ну – кори, пока живой. А то, когда помру, заткнёшься.
И Аля затыкается.
Сочная зелень уже уверенно держится за деревья, так, что заморозки, время от времени напоминающие о себе ночами, теперь бессильны. Нет, ему радостна эта спелая свежесть, этот холод, сквозящий за взмокшей поясницей, стянутой поясом из собачьей шерсти. Он не боится простыть. Он думал, что это чувство восторга майским цветением уже атрофировалось у него вместе с желанием женских вспотевших чресл, вместе с теплом после выпитой рюмки настойки, обжигающим горло с желудком, вместе с приятным сосущим под ложечкой чувством – перед тем, как закусить бутербродом с маслом и слабосолёной сёмгой… Спустя много лет он снова почувствовал этот запах – стылого крутогорлого течения, потянутый, вместе с земляной сыростью, майским ветром от Дона.
…Было позднее погожее утро такой же поздней весны. По каменной плотине семилетний Трофим переходил с баба́ с одного берега Дона на другой. Слева к обрывистому каменистому берегу с прослойками ярко-белого известняка и тёмного кремнезёма примыкала мельница с колёсами-великанами, вращавшимися потоком воды, покрытой пеной. С правой стороны вода хлестала тёсаные валуны, шипя на них, падая и разбиваясь в брызги.
Трофим то и дело о чём-то спрашивал, но его вопросы глушил громовой водопад.
Наконец, они с баба́ поднялись наверх. Трофим ослаб от ходьбы и жары. Он присел в стороне от дороги на разогретый майский пригорок – на рассеянную, выбившуюся из земли остроконечную траву – под ноги оставшейся стоять баба́.
С каменной горы осторожно спускались подводы, нагруженные мешками с зерном. Мужики – в лаптях и грубых холщовых рубахах, – с обеих сторон взявшись руками за вспенившуюся узду, сдерживали лошадей, на которых давила нагруженная телега. Самые башковитые просунули сквозь телегу дубовый кол, превратившийся в тормоз: так лошадям было легче удерживать нагруженную телегу.
Не спеша, пятясь задом, мужики спускали подводы до самой мельницы.
Вдруг с дороги показалась ещё одна телега. Проезжавший мимо крестьянин предложил бабеньке подвезти её с чадом.
Они сели.
Но уже через пару вёрст баба́ спрыгнула, откланялась и сняла Трофима – вялого и распаренного – с телеги на землю.
– Почему не поехали дальше? – спросил Трофим. – Он же хороший!
– Много ходить – сто лет жить. Я очень верю в эту пословицу. Тебе, чтобы сильным стать, ходьбы не хватает. Больные и слабые сами идут, идут и выздоравливают – коли до места дошли на своих ногах.
– До какого места?
– Твоё место – это дом. Пойдём.