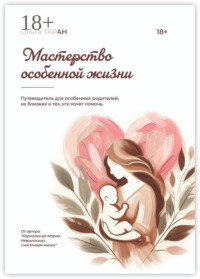Czytaj książkę: «Мастерство особенной жизни»
Дизайнер обложки Ирина Резниченко
Редактор Александра Демакова
© Ольга Таран, 2025
© Ирина Резниченко, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-2347-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Десять лет назад моя жизнь изменилась навсегда. Тогда я еще этого не понимала. Я родила вторую дочь – Марию – с редким и неизлечимым генетическим синдромом Корнелии де Ланге тяжелой формы.
Я не знала, что с этим делать. Я просто смотрела на нее, на этот новый, рухнувший мир, в котором мне теперь предстояло жить. Как-то.
Первые годы я неистово пыталась вернуть свою жизнь обратно, прежнюю, знакомую. Я хваталась за нее, выстраивала планы, надеялась, что, может быть, когда-нибудь… Но потом оставила эту борьбу и перешла в свою новую жизнь. Ту, в которой я смогла наконец разглядеть что-то важное.
Многие меня знают как автора книги «Корнелия де Мария. Невыносимо счастливая жизнь», где я рассказываю свою историю особенного материнства. Эта книга тоже посвящена особенной теме, но она другая. Она написана спустя годы, когда путь долгой борьбы завершился смирением и адаптацией. Когда я смогла осознать и прожить потерю обычного материнства и снова вернуться к жизни. Которая, правда, изменилась для меня навсегда и безвозвратно.
Но я очень рада, что осталась тогда жива.
И теперь передаю вам все, что знаю и чувствую о том, каково это – быть внутри особенного горя.
С этой книгой у меня не было сомнений «А кому это надо?»
Я точно знаю – надо.
Я знаю, что это ценно.
И для кого-то это будет спасительно.
И я знаю это, потому что вы сами мне об этом рассказали.
Я благодарю всех, кто читал мою первую книгу. Тех, кто писал мне, делился своими историями, чувствами, болью. Именно вы вдохновили меня продолжать. Именно вы показали, что на самом деле важно. Помогли глубже нырнуть в эту тему.
Благодаря вам я пошла дальше. Получила образование в новом направлении, углубилась в вопросы тяжелых кризисов и утраты. Теперь я могу уверенно назвать себя особенным психологом.
И я благодарю вас за это.
Как пользоваться этой книгой?
Я благодарю и себя за то, что когда-то написала свою первую книгу и решилась ее издать. Сегодня я бы написала иначе. И дело не в таланте и опыте, дело в эмоциях.
Тогда был накал.
Особенные мамы поймут, о чем я. Этот накал со временем ослабевает. Боль затихает. Злость уходит. Психика спасает, стирая из памяти самые жуткие моменты. То, что казалось катастрофой, теперь вызывает грустную улыбку. Люди, которых хотелось просто растерзать, вообще перестают тебя задевать. Мысли о том, чтобы выйти в окно, теперь кажутся дикой глупостью. Слава богу, не решилась, дурочка.
Мир стал другим. Боль притупилась. И если бы я писала эту книгу сейчас, она была бы уже другой.
Книги, написанные в моменте горя или очень близко к нему, особенно важны. Они дают поддержку. Помогают осознать: я не один, я не схожу с ума, со мной все нормально. Я не слабая, я просто мать, которая проживает горе. И таких, как я, много. Ты не только понимаешь это, читая анализ эксперта со стороны, ты это чувствуешь в каждой строчке. Ведь ее писал тот, кто испытывал то же, что и ты.
Эта же книга несет в себе уже другую, еще более масштабную цель. И она не только про особенную мать.
По сути, это практическое руководство для всех кто так или иначе вовлечен в особенную жизнь. Для всех ее участников, прямых и косвенных. Некая инструкция, которая поможет каждому участнику процесса найти свое место, осознать свою роль и понять, как двигаться дальше.
И именно вы помогли мне прийти к этой мысли – к осознанию того, насколько важно писать такие книги не только для самих особенных матерей, но и для их окружения, для специалистов, для всех, кто оказывается рядом.
Название книги пришло ко мне тоже не случайно. «Мастерство» – это высшая степень профессионализма в каком-либо деле, требующая при этом постоянного совершенствования.
Ну разве это не про нашу с вами особенную жизнь?
Как бы мы ни приняли свой путь, сколько бы ни адаптировались, сколько бы лет ни прожили с особенным ребенком, сколько бы ни прошли – мы всегда находимся в процессе развития и принятия новых обстоятельств. Этот процесс неизбежен и необратим. И он касается не только нас, но и всех, кто рядом.
Как устроена эта книга?
Она состоит из четырех больших частей.
Первая часть: Я – особенная
Написана для моих любимых особенных мам.
Здесь честный разговор о том, что на самом деле происходит в нашей жизни и внутри нас. Без прикрас. Без удобных формулировок. Я поднимаю темы, о которых не принято говорить в особенных чатах.
Я не создаю вымышленных образов. Это не проповедь. Здесь реальная жизнь особенной матери – ее переживания и непростой путь восстановления.
Здесь не будет стандартных стадий горя и их описания. Потому как горе всегда уникально. И это не просто шок, торг, депрессия. Это замес жесточайших чувств.
Это уникальные переживания и ситуации.
Это новый уровень отношений со смертью и Богом.
Это сложнейшие взаимоотношения с отцом ребенка, с окружающим миром и с собой.
Это новая реальность, в которой приходится снова и снова искать свое место.
И я надеюсь, эта книга поможет вам его найти.
Вторая часть: Как выжить. Пути восстановления
Эта часть, по сути, карта восстановления для тех, кто оказался в эпицентре особенного материнства и не знает, как же собрать себя заново из осколков. Я рассказываю о теле, которое кричит, о тревожности, бессонных ночах и о том, как важно учиться просить о помощи, даже если страшно. Будем разбирать техники расслабления и восстановления, научимся делать маленькие шаги к стабильности, выгружать эмоции и выстраивать отношения с близкими.
Я делюсь и авторскими теориями: о стратегиях особенной жизни, о трех шагах к особенному счастью и о том, где нам брать силы на проживание своей новой роли.
Здесь – все то, что когда-то помогло мне самой. Простые доступные практики, не требующие вложений и особых условий. Это не волшебные таблетки, а живые работающие шаги, которые однажды научили меня дышать заново.
Третья часть: Особенная глазами окружающих
Для родных, друзей, близких и не очень.
Меня подтолкнули к этой теме вы. Ваши вопросы, ваши истории, особенно эти такие трогательные письма и отзывы от бабушек, которые так хотят понять, как общаться с особенной матерью, как поддержать свою дочь, сноху и не утонуть в этом горе самой.
Путь принятия проходит не только мать. Особенный ребенок меняет жизнь и всех, кто рядом.
Здесь я отвечу на важные вопросы:
– Почему отношения с родными портятся?
– Почему слова утешения не помогают, а раздражают?
– Как действительно поддержать?
– Нужно ли это вообще?
Эта часть книги поможет лучше понять особенных матерей и выстроить с ними теплые бережные отношения. А еще – лучше понять себя и свои чувства.
Четвертая часть: Особенная глазами специалиста
Написана для людей помогающих профессий: психологов, педагогов, врачей, волонтеров.
Ваши вопросы и ошибки, с которыми я сталкивалась в своей практике, вдохновили меня на эту главу. Опыт жизни в особенной реальности дает понимание, которое нельзя получить из книг и учебников.
Здесь я расскажу, как на самом деле чувствует себя мать, как не навредить ей советами, как правильно выстраивать доверительный терапевтический контакт, чтобы ваше участие действительно помогало и продвигало её в сторону восстановления, принятия и ощущения опоры.
ВАЖНО:
– В основе книги масштабное исследование.
На протяжении шести месяцев я проводила масштабную работу: собирала данные через опросы, консультации и глубинные интервью с родителями особенных детей. Этот объемный и ценный материал прошел тщательную обработку, систематизацию, анализ и стал основой этой книги.
В моем проекте приняли участие 80 человек, и я благодарю каждого за доверие. Весь материал использован в книге анонимно – без имен и каких-либо данных, по которым можно узнать участников. Но вас ждет множество их историй, переживаний, страхов и надежд.
Как психолог я веду группы поддержки для особенных, что позволяет мне видеть всю палитру ситуаций: от первых реакций на диагноз до глубоких трансформаций, через которые проходит мать. Я знаю, какие вопросы волнуют ее больше всего, с какими сложностями она сталкивается на разных этапах.
На этот раз книга – не просто мое мнение, это результат большой исследовательской работы и практики. Живое пособие, основанное на реальном опыте сотен семей.
– Просто о сложном.
Я, как всегда, пишу в своем стиле, в знакомом многим, простом и понятном. Эта книга не для того, чтобы ее читали месяцами. Она для того, чтобы вы прочли, поняли и приняли.
Моя цель – помочь особенной маме разобраться в своих эмоциях и выйти на путь восстановления, а специалисту понять, как правильно работать с особенными родителями, чтобы действительно помогать, а не ранить.
Также я сделала такую структуру, чтобы читать книгу было максимально удобно и легко каждому.
– Читайте с любой главы.
Читать книгу можно с любой части и с любой главы. Да, здесь выстроена логика, но если вам актуальны и интересны конкретные темы, вы можете начать именно с них. Главы не привязаны одна к другой. Я сделала так специально, чтобы на пути принятия вы всегда могли вернуться к книге и найти поддержку в конкретной актуальной для вас теме.
Мне искренне жаль, что вам понадобились мои книги.
Но при этом я очень рада, что вы здесь.
Я знаю, что они вам помогут.
Дайте эту книгу особенной матери и прочтите ее сами, если хотите быть рядом и помочь ей.
В долгий особенный путь
Предисловие
Когда я смотрела фильмы или читала книги, где так или иначе затрагивалась особенная тема, они вызывали во мне противоречивые чувства. Большинство из них очень сильно ранили. Лишь спустя время я поняла, почему так происходит. Многие из них написаны или сняты с позиции «после». Когда ты уже пережил, сделал выводы, принял, приспособился и теперь, с высоты своего опыта, пишешь книгу-проповедь. Ранит.
Ты понимаешь, что им удалось, а тебе – нет. Они прошли через то, что тебе сейчас кажется непостижимым. Они уже ушли в будущее, которого у тебя сейчас нет, как бы ты ни старалась его разглядеть.
Или когда некий специалист провел практику, собрал информацию, проанализировал и сделал свои выводы, о которых пишет, как о чем-то очевидном и доказанном. Злит.
Они рассуждают о том, что не проживали, так сухо и формально, что невозможно это читать и воспринимать. И вот что интересно: все, что они пишут, – правда. Но она не та.
Отстраненная, поверхностная, а порой и бездушная.
Результаты показали, что участники исследования обладают высоким уровнем жизнестойкости.
Все верно…
Но не покидает ощущение: меня все-таки не поняли. Четкое осознание, что что-то глубокое, фундаментальное остается за кадром. Любого человека, прошедшего через боль утраты близкого, через болезни, во́йны и насилие, можно назвать жизнестойким. Мы все в результате своем глобально жизнестойкие, но что внутри? Сколько шрамов, омертвевших зон, сколько горечи, упущенных возможностей, разорванных отношений, разрушенного здоровья, сколько разочарования, сколько смерти навсегда поселилось в каждом из нас.
Я жизнестойкая? Безусловно. Иногда я просто невероятно сильна и непобедима. Одновременно с этим я ужасно ранима и труслива. И по дороге к своей жизнестойкости мне не раз хотелось выйти в окно и завершить этот путь. До сих пор меня накрывает вопрос: а в чем же смысл? До сих пор во мне живет и только усиливается страх смерти, ведь она всегда так близко. Так какая же я на самом деле? Можно ли меня назвать одним словом или спрогнозировать мою жизнь на годы вперед только лишь по одному факту наличия у меня особенного ребенка?
Многие смотрят на особенных словно через стеклянную дверь. Вроде все видишь, но войти не можешь. Пощупать, прочувствовать, уловить запах, потрогать правду руками. Ты наблюдаешь, записываешь, усваиваешь все с призмы личного восприятия и способности вообще прикоснуться к столь тяжелой теме и делаешь выводы, которые всех устраивают. И даже самих мам, ведь они уже давно осознали, что понять их не может никто.
Жизнестойкая…
Особенная со стажем лишь грустно улыбнется на эту характеристику и, скорее всего, промолчит. Разве можно одной фразой передать все, что поднимается у нее в душе. Да и зачем?
Да простят меня прекрасные специалисты помогающих профессий, но я убеждена, что есть темы, работать с которыми можно, только пронеся их в себе.
Изнутри все видится совсем иначе, чем снаружи.
И не по сути, а по глубине.
Я бы не хотела, чтобы эта книга стала работой «сверху». Я не пишу ее с позиции «как надо». Я ведь так и не знаю, как надо. Я хочу максимально честно и объективно показать весь процесс того, что происходит с нами на самом деле. Показать этот долгий и болезненный для всех путь к новой жизни, которую никто из нас не выбирал. Я хочу поделиться тем, что когда-то помогло мне, и я буду рада, если это пригодится и вам.
Я буду использовать в книге термин «особенный». Я знаю, что многим он не откликается. Я знаю, что многие видят в нем даже угрозу, толику обидной несправедливости. Но позвольте мне это. Дайте мне возможность, как матери ребенка-инвалида – больного, особенного, неходячего, тяжелого, странного, не говорящего, паллиативного… и много еще какого – называть его и себя так, как моей душе угодно и ПЕРЕНОСИМО сейчас.
ЧАСТЬ 1. Я ОСОБЕННАЯ. ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Глава 1. Раннее горе. Что внутри?
Девочки в раннем горе, я вас вижу по глазам. Этот одинаковый взгляд, которым вы буквально впиваетесь в меня. В нем одновременно паника и жажда информации: скажи мне, что делать? Скажи, что станет лучше. Скажи, что у моего ребенка есть шанс. Вы приходили в мой исследовательский проект только за одним – за надеждой. В спешке отвечали на мои вопросы и снова возвращались к темам развития, лекарств, врачей.
Вы не хотите знать, как жить с особенным. Не хотите читать книги, в которых рассказывается о высоком смысле происходящего, о путях восстановления. Вообще не хотите говорить о всей этой особенной жизни. Вы хотите ее ликвидировать и забыть как страшный сон.
А вы не пробовали лечить эпилепсию через ислам?
После долгого разговора о болезни, о тяжести состояния, о генетической неизлечимой природе вы снова задаете мне подобные вопросы. Психика просто не готова. Она не хочет впускать столь тяжелую информацию и снова цепляется за ниточки. Да я понимаю, что все плохо, да я понимаю, что это неизлечимо, но мне необходимо это исправить. Хоть как.
По классике мне полагается начать эту часть с описания стадий принятия, через которые, как считается, мы все проходим: шок, отрицание, торг, депрессия, агрессия, принятие. Я абсолютно согласна – этот путь знаком каждой из нас. Все так. Я прошла его сама и вижу, как по этим вехам шаг за шагом идут другие особенные мамы. Но я хочу описать то, что с нами происходит, другим языком. Живым. Настоящим.
Шок. Разве это слово может вобрать в себя все то, что мы испытываем, услышав тяжелый диагноз? Отрицание. Разве оно отражает ту боль, которая разрывает, заставляет цепляться за ниточки и выискивать позитив в этом ужасе? Верный, но слишком хрестоматийный язык стадийности не всегда способен передать нашу правду. А я буду говорить на языке чувств.
Итак. У нас рождается ребенок. Не такой. Особенный. Назвать можно по-разному, но суть остается одной – он не такой, как большинство. И не важно, что именно не так. У каждой свой контекст. Кто-то сталкивается с этим сразу: ребенок рождается с очевидными отклонениями, и с первых дней – врачи, обследования, диагнозы, неонатальные реанимации. У кого-то, как у меня, – путь постепенного распознавания: сначала что-то пошло не так, но неясно что. Лечим, наблюдаем, ищем причины, верим в восстановление, в чудо, проваливаемся в бездну постепенно. А у кого-то резкий надлом: был совершенно здоровый ребенок, и вдруг – болезнь, травма, эпилепсия, судороги, реанимация, и вот уже диагноз «инвалидность», которого в жизни не было и не планировалось.
Контексты разные. Но есть момент, к которому приходим мы все.
Это момент внутреннего узнавания. Он не всегда громкий и явный. Он происходит, когда ты просто смотришь на своего ребенка и вдруг начинаешь знать. Не подозревать. Не надеяться, что все пройдет. А знать.
Ты понимаешь, что все по-настоящему. Что это не временное. Что это не «перерастет». Что это не просто болезнь. Это что-то серьезное. И это надолго. А может быть, навсегда. Ты вдруг сталкиваешься с правдой: мой ребенок – не как другие. И, скорее всего, обычной жизни у него не будет. И у меня тоже. Ты можешь не озвучивать эти мысли кому-то, ты можешь бодриться, но этот внутренний щелчок наступает.
И вот здесь приходит она – парализующая беспомощность.
На мой взгляд, это именно та фраза, которая может хотя бы как-то отразить то, что с нами происходит. Мы проваливаемся в это чувство, как в болото, и не можем выбраться.
Мы вдруг понимаем, что ничего не можем. Ни остановить, ни исправить, ни контролировать. Ни надежда, ни знания, ни любовь не спасают. Все рушится. Все выходит из-под контроля. Мы будто оказываемся в другом мире. Где нет ответов. Где нет инструкций. Где мы одни.
Здесь даже не столь важна степень тяжести самого ребенка: отставание в развитии, аутизм или явный паллиатив – для каждой из нас это и есть ее катастрофа. Незнакомая реальность, в которой ты вдруг оказалась.
Парализующая беспомощность – это не просто ощущение, что ты ничего не можешь сделать. Это такое состояние, когда ты перестаешь понимать, что вообще происходит. Как будто все, что раньше казалось устойчивым и понятным, уходит из-под ног. Ты проваливаешься в пустоту, в черную дыру, где ничего не видно. И ты не знаешь, как из нее выбраться. Это не про «у меня тяжело» и «у меня проблемы с ребенком» – это про «все плохо». Тотально. Вся жизнь – зло, вся жизнь как будто не удалась. Это не только про ребенка сейчас. Это про все. Про то, что ты не тогда родилась, не так жила, не туда пришла. Это как будто какая-то ошибка в системе, которую невозможно исправить.
В этом месте появляется дикая обида. На все. На мир, на Бога, на людей, на мужа, на врачей. На себя. Ты не понимаешь, за что. Почему именно ты. Почему так. Чувство несправедливости прожигает изнутри. Ты кричишь (или молчишь), но все внутри орет: «Верните мне мою прежнюю жизнь! Я не хочу эту!» Именно в этом состоянии чаще всего звучит: «Так жить нельзя. Я так не смогу». Это не фигура речи, это внутренняя правда. Тут нет будущего. Его просто нет. Все впереди – как будто стена. Либо чудо, либо пустота. Другие варианты отсутствуют.
Психика блокируется, закрывается. Мы не способны воспринимать помощь. Все, что нам говорят, делает только больнее. Даже самые добрые слова. Даже попытка поддержки. Потому что они будто еще раз подчеркивают: я – не как все. Я где-то там, в дыре, а они – в мире, где можно говорить «держись» или «все будет хорошо». И вот именно здесь происходят очень сильные ранения. Тут мама может попасть к психологу – и разочароваться в нем на всю жизнь. Потому что он улыбается, он «успешный», он говорит что-то «правильное», но все это не попадает. Не туда. Не сейчас.
В состоянии ранней парализующей беспомощности не работает ни-че-го!
А еще в этом месте происходит одна важная вещь – мы теряем ощущение себя. Я называю это «я-функция». Я больше не человек, не женщина, не Оля, Маша или Катя. Я – функция. Я – кто-то, кто должен что-то делать, спасать, ухаживать, принимать решения. Я тот, через кого все проходит. А меня – как личности – будто уже и нет. Я будто исчезла. Я становлюсь функцией. Не человеком, не матерью в обычном смысле, а функцией, которая обеспечивает жизнедеятельность другого организма. И это очень отличается от того материнства, которое мы себе представляли. В обычном материнстве есть развитие, улыбки, обратная связь, надежда, радость от достижений. А здесь – ежедневный изматывающий труд на грани сил часто без какого-либо ощутимого эффекта. Я делаю важные, жизненно необходимые вещи: кормлю, мою, слежу за дыханием, меняю трубки, развиваю. Но все это будто в пустоту. Я не вижу моментального эффекта и потому понимаю, что все это реально и теперь с этим придется жить. А если этот эффект и есть – он слишком мал, чтобы наполнить или вернуть силы. И все это становится мучительным. Не потому, что я не люблю – а потому, что я больше не живу. Я просто делаю.
Почему так происходит? Потому что в этом месте психика резко сужается. Ее буквально стягивает в одну-единственную точку – все плохо. И это состояние опасно. Наша психика в норме – широкоформатная. Что это значит? Это значит, что в нас может сосуществовать много всего одновременно. Я могу быть хорошей матерью – и при этом злиться на своего ребенка. Могу быть очень уставшей – и при этом хотеть кофе и получать от него удовольствие. Могу плакать – и все равно улыбнуться, услышав, как поют птицы. Это нормально. Мы так устроены. Мы живые.
И эта внутренняя многогранность нас спасает. Она дает нам опору, возвращает к себе. А в состоянии парализующей беспомощности все это исчезает. Внутреннее пространство схлопывается. Все сводится к одному: боль. Плохо. Невыносимо. Ни радость, ни поддержка, ни возможности – ничего не ощущается, не проникает, не утешает. Даже если все внешне вроде бы хорошо.
Я помню одну девочку. У нее богатая семья, прекрасный муж, большой дом, няни. Все, что можно, есть. Ребенок родился с отклонениями – сразу наняли специалистов, окружили заботой. А она мне говорит: «Я сутками не подхожу к ребенку. Я не хочу жить. Я не понимаю, как вообще теперь жить, потому что все плохо». По всем внешним признакам – идеальный контекст. А по факту – тьма. Все плохо. И когда психика сужается до этой точки, никакие плюсы, ресурсы, деньги, поддержка не работают. Потому что я не могу это взять. Даже если вижу что-то хорошее – тут же обесцениваю: «Это все не важно. У меня больной ребенок. И значит, все плохо».
Именно на этом этапе, если уж говорить про психологов, начинается полное разочарование в психологии как таковой. Если человек в состоянии раннего горя сталкивается с психологической помощью, то чаще всего у него возникает тотальное недоверие. Такое обесценивающее и гневное: «Господи, да что они вообще понимают, эти психологи?»
Но тут нужно помнить, что это состояние обрушенного доверия распространяется не только на психологов. В целом весь мир как будто перестает тебя понимать. Муж, родители, друзья, дети. Даже самые близкие кажутся чужими. А уж психолог, сидящий напротив и что-то говорящий про «ресурсы», «поддержку», «принятие», – особенно чужой. Потому что психика еще не готова принимать помощь. Она просто не может. Все закрыто, забаррикадировано, внутри гул и боль. И любая попытка помочь воспринимается как насилие или предательство. Как доказательство того, что тебя действительно не слышат.
Единственное, что может хоть как-то пробиться сквозь это состояние, – это живой узнаваемый опыт. Когда перед тобой сидит не просто психолог, а человек, прошедший через похожее. Например, другая особенная мама. И ты смотришь на нее и видишь: у нее, может быть, ребенок даже тяжелее, чем твой. А она живет. Она как-то справляется. Не идеальная, не сияющая, не «сильная» – просто живет. И вдруг эта фигура становится хоть немного авторитетной. Уходит раздражение. Входит легкое сомнение: «Может быть… может, и я как-то смогу?» И это уже много.
Но даже такой, очень близкий опыт, на этом этапе тоже может сильно ранить. Иногда даже больнее. Потому что ты смотришь – и видишь не надежду, а приговор. Как будто это не пример, а напоминание: «Вот и ты теперь такая. Вот в этом теперь тебе жить».
Я как только нашла тебя в интернете, почитала посты и отписалась. А через год снова нашла, и теперь я все понимаю.
И я была такая же. В начале пути ты будто живешь в стеклянном шаре, из которого не хочешь видеть настоящую реальность. Мы не готовы впускать внутрь себя ту жизнь, о которой пишут особенные со стажем. Мы не хотим на нее даже смотреть. Кажется, что если впустить это знание, если допустить его хотя бы на секунду, то вся надежда рухнет. В голове живет единственный сценарий выживания: у нас все будет по-другому.
И мы даже не то чтобы искренне в это верим – просто иначе жить невозможно. Мы не видим себя в жизни, которая пошла по чужому сценарию, в жизни, где жуткий диагноз стал неотъемлемой ее частью.
Часто на этом этапе включается полная изоляция. Именно так было у меня. Когда я видела других особенных матерей, у меня поднималась паника. Я думала: «Нет. Это не про меня. Это вы можете с этим жить, а я не могу. Я в этом не выживу. Это черная дыра. Это кошмар». И, естественно, я тоже не принимала никакой помощи. Более того – они меня раздражали. Их спокойствие, их фразы, их советы – все вызывало у меня внутреннее сопротивление, как будто они пытаются утопить меня в своей реальности, к которой я еще совсем не готова.
Это тоже часть раннего горя. Замкнутость, отторжение, нежелание никого слышать – это защита. Это попытка удержать себя в живых хотя бы в каком-то виде.
Раннее горе – очень телесное. Это не просто про эмоции или мысли. Тело реагирует остро, сильно, иногда даже пугающе. Оно буквально сигналит о помощи. Словами это сложно передать, но я помню это ощущение: как будто все внутри дрожит, колотится. Где-то в районе сердца, солнечного сплетения, живота – словно что-то сжимается, вибрирует, не дает дышать. Дыхание тоже меняется. Оно становится каким-то поверхностным, прерывистым. Будто и не дышишь вовсе. Как будто не можешь сделать полноценный вдох, не можешь набрать в легкие воздух до конца.
В особо острых ситуациях появляется ком в горле, а сердце стучит так сильно, что кажется – оно вот-вот выпрыгнет наружу. Бывает даже ощущение, будто сердце бьется прямо у тебя во рту, – отсюда и тошнота, и какое-то странное физическое недомогание.
И все это на фоне постоянного желания спать. Но это не просто усталость. Это не про «я много делаю, мне нужно отдохнуть». Это про то, что ты не хочешь быть в сознании. Ты не хочешь смотреть на то, что происходит. Сон становится единственным способом сбежать хоть ненадолго. Это как единственная передышка от этой страшной, переворачивающей все реальности. Просыпаться не хочется.
Дыши.
Это то, что я часто говорю «ранним» девочкам на консультациях. Они оцепеневшие. Разговаривают, даже улыбаются, но практически не шевелятся и будто не дышат. Самыми живыми остаются глаза, полные вопросов и страхов.
Самое интересное, что мы этих телесных ощущений почти не замечаем. У многих на этом этапе вообще теряется связь с телом. Мы как будто отсоединяемся от него. Становимся «головастиками» – все внимание, вся энергия поднимается в голову. Там бесконечный мысленный поток: как спасти, куда бежать, что делать, как изменить. Поток без конца и без начала. Мы не замечаем, что не дышим. Не придаем значения головной боли. Отмахиваемся от напряжения, усталости, бессонницы, тошноты. Мы бросаем тело. Просто потому что сейчас не до него. Сейчас надо спасать. Надо выживать.
Внешне при этом мы можем выглядеть вполне жизнеспособно. Таскать из последних сил ребенка на занятия, мужественно выдерживать больничные манипуляции, варить мужу борщ. Но в нас – тьма.
Тебе есть ради чего жить. Соберись, все еще может быть хорошо. Надо надеяться и верить.
Да, да. Все так. Головой мы все это понимаем и даже соглашаемся, но внутри черная дыра. Все теряет смысл без нормального ребенка. Вернуть жизнь можно только через возвращение здорового сына или дочери, другого варианта мы просто не видим. Мы вообще не видим своего будущего. Его теперь нет.
Мне захотелось начать именно с этой главы. С главы про чувства и внутренние ощущения. Потому что каким бы ни был внешний контекст – диагноз, условия, поддержка или ее отсутствие, – в нас с самого начала разворачивается настоящая драма. Глубокая, разрушительная. Но почти всегда – невидимая. И не потому, что окружающие не интересуются или не хотят понять. А потому, что мы сами не можем понять. Это впервые. Это новый, чужой, дикий опыт – быть в таких чувствах, находиться внутри такого горя. Оно непривычно, невыносимо, необъяснимо.
Мы не можем его идентифицировать, мы не можем его даже описать. Мы сами себе в нем – чужие.
«Что ты чувствуешь?»
Этот вопрос психолога парализовал меня.
Господи, я столько всего чувствую, что это не передать словами, одновременно с этим я будто не чувствую ничего. Внутри ураган, который выжигает все живое, но если попытаться заглянуть внутрь – там пусто.
Сложность в том, что не каждая из нас в принципе способна на этом этапе ощутить себя и уж тем более облечь свое внутреннее в слова. Слишком сложный замес.
«Я вижу, что тебе тяжело…»
Я даже не знала, как реагировать на эту фразу, в которой каждое слово ну вообще не туда. Тяжело? То, что происходит со мной – это не тяжело. Это не вес, который можно поднять, не ноша, которую можно нести. Это такой комок всего, что проще просто не дышать, чем пытать об этом рассказать.
И на фоне этого – «я вижу»?
Да что вы можете увидеть, если я сама себя не вижу и будто не чувствую. Я не знаю, как реагировать на то неведомое и страшное, что происходит во мне.
Это и есть начало. Начало раннего горя – когда внутри все разваливается, а снаружи ты еще что-то изображаешь. И только тело знает, насколько тебе плохо.
Те, кто уже прошел этот этап, поймут, о чем идет речь. И вспомнят себя и те свои ощущения, которые я пытаюсь передать, но даже мне это сделать непросто. Потому что это состояние выходит за пределы языка. Его больше ощущаешь кожей, чем понимаешь головой. Если вы в раннем горе, возможно, вам откликнется и вы прислушаетесь к себе, а возможно, оттолкнете эту информацию, потому как излишняя саморефлексия может ранить еще сильнее. Сейчас проще заблокировать и не пытаться это идентифицировать. Замереть в своем горе, не вытаскивать его наружу, потому что так безопаснее. Психика нас спасает.
Раннее горе – это точка обнуления. Момент, когда все привычное исчезает, а новое еще не появилось. Дороги вперед нет, но и повернуть назад уже невозможно. И именно в этой пустоте психика бьется в конвульсиях, начинает искать путь, выводить нас. Куда-то бежать, хоть как-то спастись. Она не может оставаться в этом расплавленном состоянии слишком долго. Ей нужно направление. И неизбежно начинается следующий этап.