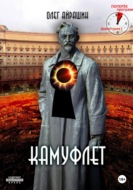Czytaj książkę: «Депортация»
Все события и герои вымышлены, любые совпадения с реально живущими или жившими людьми случайны.
Пролог
Москва, Академия метанаук, первый сектор
29 мая 2046 года, вторник
Первой распяли Швецию, но лишь один человек заподозрил неладное.
– Не нравится мне эта скандинавская история, – вздохнул Ратников, осторожно раскручивая коньяк в пузатом бокале. – Ох, не нравится…
Я понял его с полуслова.
– Чего уж хорошего… Авария седьмого уровня, выше некуда.
– Суть не в том, Костя. – Сделав глоток, он поставил бокал на стол и пригладил пятернёй белоснежную шевелюру. – Атомная станция в Рингхальсе – там не просто радиационная авария. И она не нравится мне.
Ударение он сделал на последнем слове.
«Костя» – не имя, а производное от моей фамилии – Константинов. Моё настоящее имя – Александр.
Анатолия Ратникова я знаю давно, с ещё советских времён. Когда девушки любили поэтов, учёных и космонавтов; когда все анекдоты были смешными, а ёлочные игрушки радовали не только глаз, но и сердце; когда спиртного имелось два главных вида: белое, то есть водка, и красное – так называли вино, любое вино, даже белое, причём стакан вина вызывал неукротимую радость… Неужели всё это ушло? Неужели насовсем?
И тогда, в шестидесятые, Анатолия по имени мы тоже не величали; «Белый» – иногда зову его так и сегодня. Наедине, конечно. А полвека спустя, в 2006‑м, выяснилось, что Ратников, как и сам я – сотрудник секретной Академии метанаук. Теперь мой земляк и однокашник вырос в Академии до начальника первого сектора.
Как он сказал? Не нравится мне. Серьёзное заявление. Очень. Дело в том, что первый сектор отвечает за глобальную безопасность. А речь ведь идёт об аварии на атомной станции, не более того.
– То есть ты сомневаешься…
– Да, – ответил Ратников.
Поднявшись, он не спеша прошёлся по кабинету. Обстановка тут почти спартанская: середину комнаты занимает большой овальный стол с тремя креслами; компьютер у дальней стены, в углу – сейф, а по соседству –внушительные, с человеческий рост, напольные часы. Скудную меблировку смягчает небольшой столик. На нём початая бутылка коньяка, тарелка с нарезанными помидорами, кофейник, сахарница и портсигар с пепельницей.
За стеклом под ясным бирюзовым небом раскачиваются верхушки стройных сосен, хмельной их аромат дразнит ноздри. Обман, иллюзия… Откуда взяться лесу на глубине сорок метров? Да и окна в архирежимном помещении быть никак не может.
Интересно, зачем на сей раз понадобился я, скромный литератор из пятого сектора?
– А в чём вопрос‑то, Анатолий Борисович? В Чернобыле тоже неслабо бабахнуло, но ведь справились.
– И снова ты не понял. – Ратников опустился в кресло, которое просело под тяжестью мощного тела. – В Чернобыле разобрались быстро, по‑военному. И впредь подобного не допускали.
Вытащив из кармана сверкнувшую хромом зажигалку Zippo, он поставил её на стол.
– А в Рингхальсе… м‑м‑м…всё идёт как‑то неправильно. Месяц прошёл, а ничего не ясно. Ни черта! Вывод? Такое может повториться.
– Да ладно! – отмахнулся я. – В атомной энергетике риск тяжёлых аварий – десять в минус восьмой. Снаряд в одну воронку дважды не падает.
– Не скажи, всё зависит от плотности огня. – Приподняв бокал, он рассматривал коньяк на просвет. – Риск – это теория. А я нутром… как бы это… словно торф под землёй горит. Снаружи лишь дымком пованивает; огонь ушёл вглубь, но рано или поздно рванёт. Взгляни-ка на эти часы, – он кивнул. – Узнаешь время до конца света.
Напольное изделие мрачными контурами вызывало в памяти Вавилонскую башню; ломаный гребень недостроя из чёрного дерева венчал круглый белый циферблат. На Часах было двадцать три – двадцать.
– Однако… – заметил я. – Лишь сорок минут в запасе. Но почему так? Ведь ядерное оружие ликвидировано; да, залежалось в странах Большой дюжины, арсеналы гарантированного ответа…
– Почему, спрашиваешь… – Ратников покачал головой. – Точно мы не знаем. А вот насчёт Большой дюжины… А ну как опять сколотят агрессивный блок, хотя бы из пяти государств? Дружить сворой против кого‑то – древняя традиция человечества. А?
– Да. Но для чего тебе эта штука? – кивнул я на циферблат. – На Материке1* ведь Часы Судного дня тоже тикают… Подожди‑ка! А там время другое; твои спешат, на целый час.
– Присмотрись, тут ещё есть отличие.
– А, понял. – Я заметил третью стрелку, тонкую; она замерла на цифре «11». – Секундная стрелка?
– Ну разумеется.
Мы дружно опорожнили бокалы.
– И что это значит? – осведомился я.
– У нас, в Академии, нейросеть даёт сверхточный прогноз глобальной опасности. Это Часы Войны, работают в режиме реального времени. Сейчас они замерли, но чую, что ненадолго.
Поднявшись из‑за стола, он подошёл к часам и легко их коснулся.
– А Часы Судного дня, на Материке? – спросил я.
– Всего лишь символ. Стрелки там переводят один, реже два раза в год. Решение принимают эксперты, американские учёные‑атомщики. А людям свойственно ошибаться. Такая вот ситуёвина.
Ратников снова опустился в кресло. Взяв с тарелки ярко‑красный помидор, положил его на блюдце и, нарезав тонкими ломтиками, посыпал сахаром. Эта китайская традиция давно стала для нас привычной.
– И знаешь, – сказал Ратников, – что ещё мне кажется?
– А, ну?
– Тут имеется связь. Рингхальс как‑то связан с эликсиром бессмертия.
Да, на дворе 2046 год. Уже двенадцать лет, как эликсир бессмертия вошёл в повседневную жизнь. Но используют это чудо медицинских технологий далеко не все: это право нужно заслужить.
– Думаешь, теракт? – спросил я. – Но почему тогда никто не взял ответственность?
– То‑то и оно! – Ратников подцепил вилкой красный ломтик. – Боюсь, это лишь начало. Грядёт что‑то недоброе, и как раз по нашей части.
– Типун тебе на язык! Глобальная угроза? Да, это по твоей части.
– И по твоей тоже, по атомной. – Он заглотил сочный кусочек. – Вернулся бы ты ко мне, в первый. Хотя бы на время.
– Зачем?
– По аварии расследование зависло, и кто‑то должен сдвинуть его с мёртвой точки. Ты – тот, кто нам нужен. Соглашайся!
– Я согласен.
– Вот и хорошо, – сказал он, потирая ладони. – Вот и отлично!
– Согласен, что в аварии надо скорей разобраться. Но скажи, что ещё может случиться? Не двадцатый же век, всё под контролем. Да и некогда мне, пойми.
Вытащив из кармана миниатюрную шестигранную призму, я пристроил её рядышком с Zippo и продолжил:
– Я вообще-то над книгой работаю, уже заканчиваю.
– Это что? – Ратников кивнул на призмочку.
– Флешка. С моей рукописью.
– Зачем?
– Что – зачем? Рукопись? – не понял я.
– Флешка – зачем? Когда есть облако?
– Облако? А вдруг оттуда скоммуниздят? – Я зажал призмочку в ладонь. – К тому же как это приятно – держать в руке десять тысяч витабаксов2.
– Подходец у тебя какой‑то архаичный. И что там на сей раз?
– Близкая тема, кстати, «Занимательной радиацией» назвал. Месяца три – и готова будет конфетка.
– Это так важно? – спросил Ратников.
– Для меня – да. Слушай, не нравится мне наш разговор.
– Произнеся эти слова, граф с достоинством удалился, – подколол Ратников словами классиков3.
– И правда, пойду‑ка я, пожалуй.
И опять не оплошал он – снова цитатой припечатал.
– Иди-иди. Хорошая жена, хороший дом. Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость? Тем более что её можно и отодвинуть.
– Не нуди, Анатолий Борисович. Ты‑то у нас счастливчик. Четвёртый уровень в Академии, вечная жизнь по статусу положена. Я ведь не о себе, любимом, думаю, у Марианны моей запас витабаксов тоже не безмерный. Лишь на это и расчёт. – Я постучал флешкой по столу. – Радиация‑то: ключом тема бьёт, после Рингхальса. Грех не ухватиться.
– Кнедлики, говоришь? – Ратников знал о моём влечении ко всему чешскому. – Налицо тлетворное влияние Запада.
– Я, может, только жить начинаю – на пенсию выхожу.
Он молчал – и мне стало совсем неуютно.
– Что ж, – вздохнул наконец Ратников. – Но если мои опасения подтвердятся… И станет ясно, что…
– Угроза человечеству? Тогда – пожалуйста.
– То есть числиться в резерве первого сектора ты согласен?
– Это можно. Думаю, ничего такого не случится, не те времена.
Он вновь наполнил бокалы.
– Давай тогда, на посошок.
На том наш разговор и завершился. И ведь ничто не предвещало… Хотя…
Было, было одно странное предвестие…
В тот раз машину до аэропорта я заказал старинную, с водителем. Не знаю, моя ли это особенность или у многих бывает. Когда что-то для меня делает незнакомый человек – не так уж и важно, что именно: ремонтирует мои часы, колдует над причёской – иногда возникает ощущение лёгкого озноба; по спине бегут мурашки, и дрожь эта доставляет удовольствие.
Полный усатый мужчина покосился, когда я усаживался на заднее сиденье. Мы выехали на относительно пустынный участок, и тут меня охватила беспричинная, казалось бы, тревога. Скорее всего, проявилось обострённое чувство опасности: всё же в первом секторе я был не новичком.
Бросил взгляд в зеркало – и уловил угрозу, исходившую от водителя. Вроде бы всё шло по правилам: он кивнул мне с профессионально‑равнодушной улыбкой, однако при этом… Но лучше на примере.
Давным‑давно, лет пятьдесят назад, встретился мне на «Дискавери» интересный ролик. Там немолодой профессор нырял в воду с одиннадцатиметровой вышки. Причём нырял не в бассейн, а в ванну – всего‑то втрое крупней стандартной. Для прыжка учёный использовал особый способ. С вышки он летел по наклонной, вниз и вперёд – чтобы растянуть момент торможения. А в воду вносился, выпятив грудь и с отведённой назад головой.
Здесь скрывался какой‑то секрет. По законам физики, падая с такой высоты, человек должен врезаться в дно ванны и при этом покалечиться либо погибнуть. Но творилось немыслимое: профессор выходил из воды живым и невредимым. Чтобы раскрыть тайну, учёные применили скоростную съёмку. И при просмотре открылось удивительное зрелище. В момент удара о поверхность тело ныряльщика на какие‑то миллисекунды расширялось: профессор выглядел этаким Шварценеггером. Словно горбуша на миг оборачивалась плоской камбалой.
Человеческий глаз уловить столь мимолётную метаморфозу не способен. Но в ходе специальной подготовки в Академии нас учили считывать подобные кратчайшие события, в том числе микромимику. Вот и с таксистом тоже. Приобретённые навыки помогли мне поймать момент истины, ухватить его подколодный взгляд. Через зеркало заднего вида ко мне присматривался киллер.
Я даже испугаться не успел – мой палец уже касался тревожной кнопки, упрятанной в подлокотник. Водитель удивлённо вскинул брови, но я упредил вопрос.
– Остановите машину, пожалуйста.
– Не понял. Мы ещё не…
– А вам понимать и не нужно, – я старался говорить уверенно. – Тормозните, заказ я оплачу полностью.
– Хозяин – барин. – Он выждал секунду‑другую. Но и столько медлить простой водила права не имел.
Вот что это было? До сих пор гадаю. Ведь что случись, убийцу нашли бы непременно. А это карается жестоко – пожизненной депортацией в Большую зону.
Нельзя сказать, что случай этот меня ошеломил: работая в первом секторе нашей Академии, я периодически попадал в переделки.
Выйдя из машины, проводил взглядом удаляющиеся огоньки и вызвал беспилот. Не успел убрать смартфон – чарующе запела скрипка: «Берлинский концерт» Владимира Косма. Марианна звонит, моя Маречка!
– Саша, здравствуй.
– Да, милая, рад тебя видеть, – кивнул экрану. – Ты сейчас где?
– Дома, на Урале. Дети снова умчались в экспедицию, в этот свой Эквадор.
– А…
– Машеньку оставили у меня. Как жаль, что дедушки с нами нет.
– И мне тоже.
В последнее время с женой мы виделись нечасто: то книжные мои дела, то хлопоты с нашим заграничным домом. Встретимся, поживём недельку, потом снова разбежимся. Но это временно; вот закончу рукопись…
– Саша, ты ничего не забыл?
– В смысле?
– Какой сегодня день?
– Я помню, вторник.
– Не только. Сегодня годовщина нашей свадьбы.
– О, как же это я… Ну конечно, двадцать девятое мая… Прости, моя хорошая, поздравляю тебя, Маречка! Скоро увидимся – и отметим по‑настоящему. Извини, я такси заказал, машина уже ждёт. Целую тебя и Машеньку… Всё, до связи.
Скажи тогда кто‑нибудь, что смертельная угроза поджидает меня в собственном доме – в лицо бы рассмеялся.
Часть I. Хроника безумного дня
Если бы одни умирали, а другие нет, умирать было бы крайне досадно.
Жан де Лабрюйер
Глава 1. Домик у моря
Чехия, Южная Моравия
13 июля 2046 года, пятница
10 часов европейского времени
Прошло полтора месяца, и таксист, взявший меня взглядом на мушку, почти забылся. Какое-то время томила неясная тревога, но потихоньку отпустила. Ничто не предвещало беды, пока… Пока не наступил тот самый день.
Погожим, помнится, июльским утром я вышел на веранду, что проходила по периметру нашего дома. Солнце взошло недавно, его нежный жар щекотал кожу тёплыми лучами, а лёгкий ветерок ласкал прохладой. Спустившись, я свернул к южной стене дома, и взгляду открылось море.
Море я придумал для Марианны. В детстве каждое лето она проводила в Геленджике. Но однажды её захлестнула волна, и моя девочка чуть не утонула. С тех пор большой воды она боялась, и в то же время море тянуло её к себе.
Потому я и сотворил – не пруд с лягушками, не бассейн с бортиками, – ложбину с пологими берегами, покрытыми балтийским песком (тридцать самосвалов, однако).
Вода, круто посоленная морским концентратом (дюжина самосвалов), крепко удерживает тело. Имеется даже плавучий островок размером с четыре больших ковра.
«Один-раз, два, три…» – мысленно произнёс я, включая мощный плунжерный насос. Вода задрожала, вибрации усилились – и вот уже плещется волна.
«Один-раз…» – моя особая примета. Если сосчитать так, а не просто «Раз-два-три» – всё заладится, случится на раз-два.
К морю я спускаюсь не по лестнице или трапу – вхожу по золотистому песку.
Как сейчас помню зелёные глазищи Марианны, впервые увидевшей это чудо. Взволнованная вода приняла её как родную. Лицо жены сияло, и вытащить её на берег удалось с трудом.
– Саша, а вода тёплая ещё долго будет? А воздух? А через месяц можно…
– Да хоть и в январе! Во-он те зелёные штуки, видишь? Это тепловые пушки. Так что лето обещаю тебе круглый год. Ну, вылезай, на первый раз хватит.
– Саша, это мне снится? – отозвалась она.
Нет, она сказала немного иначе:
– Саша, это не сон?
Вот ради этих слов и стоило двадцать лет пахать над книгами!
Пологий берег маленького моря плавно переходит в склон поросшего мягкой травой холма с ровной как стол вершиной. Этот пригорок, окружённый молодыми соснами – любимое наше место. По кромкам плоской полянки тянутся кусты шиповника, придавая особый уют милому сердцу мирку. С удобной скамейки открывается вид на неохватные – как в России – поля. Нескончаемая череда светлой и тёмной зелени пленяет взгляд – так и не терпится побродить по добрым просторам.
Вниз убегает неширокая тропинка, ведущая к дому. Наш дом срублен из лиственницы и украшен деревянной резьбой. Лёгкая, плывущая над цветами и травами конструкция держится на невидимой опоре, словно корабль над зелёными волнами. Дом способен поворачиваться – глядя в одно и то же окно, можно встретить рассвет и проводить солнце за горизонт.
Тут всё настоящее. Не приторные красоты, столь любимые туристами, и не курортные горы. По правую руку от входа в дом разбит тенистый парк. Особенно хорошо здесь в апреле. В России, на далёком Урале, апрель – самый противный месяц: снег уже сошёл, а трава ещё не появилась; в городе холодно и неуютно. А здесь – свежий запах сирени вперемежку с благоуханием яблоневого цвета или дурманящим ароматом шиповника.
И сейчас, в разгар лета, в парке чудесно. Аллеи, где липы смыкают густые кроны и в самые жаркие дни дают прохладную тень. Шёпот сочной травы – не газонной, а природной травы‑муравы, какая обычно заполняет лесные опушки – так и тянет пройтись босиком. Растущие повсюду полевые цветы покоряют скромной красотой. Молодые берёзки, стоящие поодаль, приветливо машут листьями. Можно часами бродить без устали – мысли бьют фонтанчиками и сами просятся на бумагу.
Но где же такое возможно? Вопрос на засыпку: а где русскому человеку живётся лучше всего? Отчего‑то чаще не в России. Но где же именно? Ответ я нашёл давно. И название этой местности созвучно сочетанию «Мой рай». Моравия, прекраснейшая часть замечательной страны.
Всю жизнь Чехия влекла меня к себе. Первые звоночки донеслись ещё в юности: Швейк. Только здесь мог он родиться – здоровый, светлый, неунывающий славянин. И ещё – «Лимонадный Джо», убойный пародийный вестерн. Недаром после выхода фильма в прокат во многих городах как по команде появились «Триггер‑виски салуны», и не в одной лишь Чехословакии.
Впервые очутившись в Моравии, я бесконечно бродил по холмистым равнинам, словно узнавая и вспоминая…
И главное – люди. Представьте такой опыт. Вам предлагается пару лет прожить на необитаемом острове в компании из пяти человек. Или десяти, неважно. Вы не вправе выбирать пол, возраст, характер. Тут дело случая. Но будущие соседи должны быть одинаковой национальности. Вам следует отдать предпочтение одной‑единственной.
По зрелом размышлении я свою приверженность обозначил. Никого не хочу обидеть, но дорогих россиян отбросил сходу. А вдруг попадётся разбойник с сизым носом? Или гиперактивный борец за справедливость? Сегодня он с себя последнюю рубашку снимет, да. А завтра заметит, что по стаканам разлили не поровну – и за нож схватится.
Первым номером у меня идут белорусы. Работящие и прилежные, искренние и душевные – те качества, что мы, русские, приписываем себе, куда характернее для наших славных братьев.
Второе место в системе длительного общежития я бы отдал евреям. Они книжки умные читают, беседы мудрые ведут; с ними интересно, у них всегда есть чему поучиться. Хотя нет, лучше воздержусь: в этом маленьком Израиле я рискую-таки стать нацменом.
Чехи – вот кто вне конкурса в моём мысленном эксперименте. Их спокойная приветливость, сдобренная юмором, тихое достоинство, природная красота в любом возрасте, терпимость к чужим недостаткам – сочетание, каких мало.
И что ещё делает Чехию желанной – то, что в этой стране отсутствует. А нет здесь суеты, погони за успехом. Бог миловал от агрессии. Выпивший, и даже крепко выпивший чех не превращается в зверя или животное. И да, чехам не свойственно русское раздолбайство; но миновала их и немецкая заорганизованность.
Осознав, насколько близка Чехия моему сердцу, я приложил немало усилий, чтобы обзавестись тут вторым домом. Вторым – ибо в преклонном возрасте негоже отбрасывать прошлую жизнь, ломать привычки и радикально менять культурный код. В России остались друзья и дальние родственники. Но вот уже семь лет чешский дом служит нам летней резиденцией. А лето в Южной Моравии настоящее, и длится больше полугода, а не два‑три хилых месяца, как у нас на Урале.
И уютный дом в красивейшем месте Центральной Европы, и зелёный холм, и парк, и мини‑море – всё это наша собственность. Ну, почти наша: недвижимость мы взяли в кредит. Процент небольшой, хотя деньги немаленькие. И не просто деньги – витабаксы.
Я вновь окинул взглядом наше «поместье». В прежние времена такое показалось бы неслыханной роскошью. Но всё меняется. Вот и те зелёные просторы – многие километры до горизонта – могут стать нашими. Вполне, лет через тридцать‑сорок.
Почему‑то вспомнился Ратников, последний с ним разговор – и я вернулся обратно в дом. Здесь, в отличие от Академии, кабинет у меня просторный. Даже с элементами роскоши, главный из которых – диван. С возрастом особенно проникаешься китайской мудростью: лучше лежать, чем сидеть.
Вот и сейчас я прилёг на элемент роскоши. И произнёс:
– Евровести. Рингхальс.
В центре комнаты возникла объёмная картина – развалины блока атомной станции. Робот‑скорпион разбирал груду бетонных обломков, а робот‑бульдозер сгребал строительный мусор в большую кучу.
Включился бодрый закадровый голос.
«Первомайская катастрофа на шведской атомной станции “Рингхальс” привела к выбросу в атмосферу огромного количества радионуклидов. Для обследования и очистки загрязнённой территории в очаге аварии широко используется роботизированная техника».
«Скорпион» встал на перекур, а комментатор продолжил.
«Облучение штатных профессионалов сверх допустимых норм запрещено европейскими законами. Но мобильные роботы применимы не везде. И тогда на выручку приходят ликвидаторы‑добровольцы».
А вот и наши красавцы, в противорадиационных комбинезонах, похожих на костюмы первых космонавтов. На оранжевом фоне, на груди и спине – партийный логотип: две чёрные совмещённые буквы – «П» и «М» – внутри белого квадрата. Партия муэрте, а в переводе – партия смертных.
Первое время я не понимал, почему многие муэртисты сразу после аварии в Рингхальсе буквально ринулись в ликвидаторы. Но потом дошло: ведь основная масса партийцев – безработные. Прозябать на пособие не круто, совсем не круто. А тут и деньги, и статус, да.
«Как вы знаете, недавно введены новые санитарные нормы, – продолжил комментатор. – Они касаются опасных работ, связанных с попаданием радионуклидов в организм. Теперь при внутреннем облучении требуется визуализация радиоактивности органов и тканей. Что это значит? Ликвидаторам вводят специальный препарат – визурад. Радиоактивные изотопы начинают испускать свет – и радиация, накопленная телом, становится видимой».
«Смотрите, смотрите! – не унимался незримый комментатор. – У двоих ликвидаторов светится гортань. Красное свечение вызывает радиоактивный йод, ведь он концентрируется в щитовидной железе. А вот, – камера сместилась влево, – знаменитый скелет ликвидатора, так пугающий несведущих людей. Его даёт стронций. Этот элемент похож на кальций. Стоит стронцию попасть в организм – он разносится по костной ткани, и скелет сияет белым светом».
Хм‑м… Тема-то моя, и эти страсти по радиации мне как писателю – на руку. Чем крупней будут тиражи моей книги, тем быстрей мы рассчитаемся за дом. Верно заметил поэт: хорошо быть электриком в тёмной стране4.
«Евровести» отключились, и тут со стороны входа раздался певучий звонок. Кто бы это? Ах да, Мишаня… Мы же договаривались.
Там же
13 июля 2046 года
10 часов 15 минут европейского времени
Мишаня был большой и рыжий. Улыбка во всю ширь и шевелюра на полнеба: гость мой выглядел очень по‑русски.
Знакомство наше состоялось почти сорок лет назад: мы вместе участвовали в спасении лучших представителей человечества от смертельной солнечной вспышки. Но Мишаню использовали втёмную: секретным проектом занимался первый сектор. О нашей Академии метанаук Мишаня даже не подозревал.
Нынче мой приятель, и прежде не худенький, располнел, даже расплылся, потерял фигуру.
– Ну, здоро́во, Палыч! – забасил он, распахнув объятия. – Широко живёшь! А найти тебя запросто, тут на три вёрсты вокруг ни души. Ничего, что я машину отпустил?
– Рад видеть, земляк. Машину? Нормально… Осторожней, раздавишь ведь! Ну и могуч ты, братец! И пожрать поди всё так же непрочь?
– А то.
– Здесь это легко: «Шеф‑повар на час» – и нет проблем. Давай‑ка за стол, Мишаня, успеешь ещё осмотреться.
– Правильно. Ты – не ты, пока не выпьешь.
– Ну-с, приступим. Ты как насчёт бехеровки? Аперитив, а по-нашему – для аппетита.
– Да не, Палыч, как‑то мне она не очень… А на аппетит и так не жалуюсь.
– Тогда что – вино? Или коньяк?
– И водку. – Мишаня жадно оглядывал стол.
Я выставил бутылку хванчкары.
– Начнём с вина. Америку‑то вспоминаешь? А, Мишаня?
– Да-а-а… – Взгляд его затуманился. – Логово… как её… демократии. Жара там стояла лютая. Сто градусов, ну, по Гринвичу. Или Рабиновичу?
– По Фаренгейту.
– Во, точно. Наливай, Палыч. Поехали!
Я наполнил бокалы.
– Ага. Он сказал: «Поехали!» – и махнул стакан.
Мы дружно выпили. Мишаня тут же набросился на мясной салат.
– Вкусно!
– А винцо тебе как?
– Годится, – отозвался Мишаня с набитым ртом.
– Хванчкара, однако.
– Я слышал, у Сталина любимое вино было.
– Ага. Но ещё сильнее красный вождь ценил киндзмараули. Тоже красное. А чтобы раскусить соратников, переходил на слабенькое маджари, всего три градуса. Выпьет за вечер пару бутылок – и ни в одном глазу. Восточное коварство, сам понимаешь.
Мишаня уже наворачивал жаркое, беспокойно оглядываясь по сторонам. Достал смартфон, пальцы тыкнулись было в экран, но мой гость тут же передумал. Что‑то его тревожит.
– Сам-то как? – спросил я. – А Татьяна? У вас всё в порядке?
Мишаня бросил на меня затравленный взгляд.
– Вот не люблю я шибко грамотных баб. В женщине главное вовсе не ум. Я так считаю.
– Х‑м… Верно, Мишаня. Важно, чтобы она тебя понимала. И поддерживала во всех начинаниях.
– Не, Палыч. Главное у женщины – это жопа.
Ну всё, Мишаня в своём репертуаре.
– Полезная штуковина, что и говорить, – поддакнул я. – Без неё никак. Ни посидеть, ни покакать, не за столом будет сказано. Но чтобы – главное? Нет, Мишаня, здесь ты не прав.
– Не, Палыч. Жопа – всему голова. Если она вот такая, – положив вилку на стол, он изобразил руками два крутых холма, – ну, женская чтобы, вот тогда будет полное взаимопонимание. А ум бабе лишь мешает.
– Частично я с тобой солидарен. Чтобы у женщины – и мужская волосатая задница? Категорически возражаю! Но всё же на первое место её, – я тоже очертил два полушария, – не стоит. Женщина, твоя женщина – ради которой хочется расти.
Мишаня уплетал мясо, а я продолжил.
– С которой интересно помолчать. Да это не только к женщинам относится. Почему, думаешь, мы дом купили здесь, в Чехии? Хотя после ста грамм и в России неплохо
– А после двухсот – просто замечательно, – кивнул Мишаня.
– Вот именно. Здесь вот, – я махнул рукой с вилкой в сторону окна, – мы потому, что чехи – люди интеллигентные. Не достают почём зря.
Я снова наполнил бокалы.
– Мишаня, а ты с чего это вдруг… Скажи, у тебя с Татьяной не ладится? А?
– Ладно, Палыч. Разберёмся, если что. Или не разберёмся. Сами.
Ага, то‑то жор на него напал. Заедает стресс, не иначе.
– Ну, как знаешь. Может, немного прогуляемся? Покажу тебе наши владения.
– Давай. – Мишаня, оглядев стол, нехотя поднялся.
Мы вышли к парку. Июльское солнце с утра еще не жарило. Бредя под сенью цветущих лип, хотелось вдыхать и вдыхать их медовый аромат.
Мишаня долго молчал, что для него необычно, и вдруг спросил:
– А ты, Палыч, помнишь, как мы в Америке?.. Ну, команда наша…
Как не помнить! Америка… Негры и латиносы. Доллары. Жара. Нашей команде тогда удалось пробиться в число избранных. Лучших, так сказать, представителей человечества. Да, команда… Мишаня, Татьяна, Леночка. И ещё Вараксин. Никто из нас не знал, что Игорь Маркович, как и сам я, был внедрён в нашу группу от Академии метанаук. А чтобы свести концы с концами, первый сектор позднее имитировал гибель Вараксина в автомобильной аварии.
И вообще тогда всё пошло не по плану. Точнее, пошёл в ход план Б: вместо спасения лучших решили изолировать худших. Так появилась Большая зона – огромная территория в Западной Сибири, куда депортировали чуть не всех преступников планеты.
– Ещё бы! – кивнул я. – Хорошее было время.
– И все люди равные были, можно сказать, ну, без эликсира этого.
– Согласен.
– И Танюха, хоть она и тогда выпендривалась. Но потом‑то ведь пошла за меня. – Взгляд его остановился на листе шиповника.
– Глянь-ка, бабочка. Да какая большая! Я слыхал, они живут неделю, не больше.
– Да, но время для них течёт иначе. Бабочки проживают полную жизнь, а люди им кажутся тормозными, как черепахи.
– Да, Палыч. Мне ведь уже шестьдесят пять. А ничего толком… Детей мы так и не захотели.
Подумалось: «мы» – это про Татьяну.
– Мишаня, взгляни‑ка ещё на эту бабочку. Пойми, ведь главное не протяжённость жизни, а…
– Удовольствия?
– Не надо упрощать, мы же люди, а не животные или насекомые. Наполненность смыслом – вот что важно.
– Да какой смысл, Палыч! Ну сколько ещё мне осталось? Недолго буду ей глаза мозолить.
– Перестань! На самом деле тебе всего пятьдесят пять. Ведь социальную дозу выдали всем. Кроме отселенцев в Большой зоне, само собой.
– Ну да, бросили нам подачку. Маленькую розовую пилюльку. А что толку?
– Мишаня, ты получил дорогущий подарок, десять лет жизни! Чтобы разогнаться, вполне достаточно. Эх, Мишаня, нам ли быть в печали!
– Вообще-то да. Только у меня вот не вышло. Как ни бился, всё зря. Эх, проснуться бы, а мне только тридцать. Да пусть бы и сорок. Но просыпаюсь взаправду – и что? Жизнь кончается, а у других‑то не так. Это несправедливо! Вот раньше… Жили ведь люди без эликсира этого чёртова.
– Стоп, я понял. Татьяна? У неё с эликсиром…
– Да-да, – перебил Мишаня. – Она‑то как раз поднялась.
– Должен тебя огорчить, дружище. Похоже, супруга тебя не любит.
– Это как это? – Он резко остановился.
– Как сказал классик, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит5.
– Ты это к чему, Палыч?
– Татьяна могла бы и поумерить обороты. Это я про биохрон6*.
– Ты чо?! Для женщины возраст, ну, сам понимаешь. Поумерить, как же! Это же типа самоубийства, бляха‑муха.
– Огорчу тебя ещё разок. Ты её тоже не любишь.
Мишаня вопросительно смотрел на меня. За разговорами мы не заметили, как приблизились к маленькому морю.
– Кабы любил, мог и усилить свои амбиции.
– Да ну тебя! Я и так чего ни пробовал. Хоть кол об стену теши – всё херня получается.
– Мишаня, взгляни‑ка. Это наше море.
– Ни хера себе! А ты, Палыч, крутой! Ты реально крут!
– Это запросто.
– У меня тоже мыслишка есть. И я хочу что‑нибудь этакое, – он кивнул на «море».
– Вот что, Мишаня. Разговор у нас пошёл серьёзный, давай‑ка за стол вернёмся. Кстати, пивко тоже имеется.
– Лучше бы его совсем не было.
– Пива?!
– Да эликсира этого! Вот раньше… Эх!
Достав из холодильника и откупорив пару бутылок чешского, я разлил по кружкам.
– Да, Палыч, не слабо ты устроился. – Мишаня залпом ополовинил свою порцию. – И я так хочу. Здесь и лето длиньше, что и говорить. А на Урале‑то, сам знаешь, погода безмозглая.
– Хм…
– Думаешь, у меня денег не хватит? Не сейчас, конечно…
– Ты уж извини. Не хочу сыпать соль на рану, но дело не только в деньгах. Я кое‑что узнал, когда оформлял вот это всё.
– Ты о чём, Палыч?
– В общем, в Моравию жить пускают не каждого, и главное тут даже не финансы.
– А тогда что?
– Биохрон. Прости, Мишаня, тут такое дело…
– Ага! А то начнут подыхать – похороны, то‑сё. Весь кайф обломают.
– Да нет же, ты не так понял. Просто… Ну, чтобы менталитет у жителей близкий был. Типа клуба по интересам.
– Да, Палыч, непростой ты человек… – Сделав глоток, он облизал губы. – Чуть не сорок лет тебя знаю, а почти не стареешь. Вот у самого‑то биохрон сколько?
– Какой бестактный вопрос.
– Да ладно! Мы же свои, никому не скажу.
– Ну, около трёх.