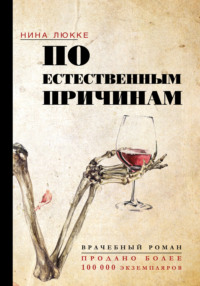Czytaj książkę: «По естественным причинам. Врачебный роман»
Посвящается Элле и Альбе
За фасадом нашего благопристойного повседневного существования прятался невоспитанный, проказливый чертенок, которого мы старались не замечать, неукротимая энергия, воспламеняющая плоть, регулярно побеждающая благонравие даже в самых благонравных созданиях.
Доменико Старноне «Шутка»
Nina Lykke
FULL SPREDNING (NATURAL CAUSES)
Перевод был осуществлен при финансовой поддержке фонда Norla
Впервые опубликовано норвежским издательством Forlaget Oktober, 2019 г. Печатается с разрешения литературных агентств Oslo Literary Agency, Banke, Goumen and Smirnova Literary Agency.
© Nina Lykke, 2019
© А.В. Мариловцева, перевод, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
1
Никому не известно о тайных помыслах общества больше, чем врачу общей практики. Все это я встречала не раз. Жизнь без глютена, без лактозы, без сахара – бесчисленные заголовки в газетах и Интернете заставляют вполне здоровых людей верить, что, если они не будут есть хлеб или сыр, все станет на свои места. Люди среднего возраста не понимают, почему они постоянно чувствуют усталость. Все от того, говорю я им, что вы начинаете стареть, но они думают, что старение их не касается, как не касается и смерть. Словно для них будет сделано исключение. Они считают, что тело само собой должно функционировать без сбоев, и удивляются, когда сбой вдруг происходит: они не могут испражниться, уснуть или заставить мышцы работать должным образом. «Но ведь сорок семь – это еще не старость», – говорит сорокасемилетний пациент. «И все же, – отвечаю я, – сорок семь – достаточный возраст, чтобы вы уже не ощущали себя как прежде». Но их это не устраивает. Они хотят, чтобы все было как раньше. И вот они покупают в Интернете какой-то особый сок или зеленый порошок или же требуют, чтобы у них нашли какую-то необычную аллергию или пищевую непереносимость, и тогда у них все будет по-прежнему, ведь стоит только начать пить сок, принимать порошок, исключить из диеты злосчастный продукт или держаться подальше от животных.
Они не желают меня слушать, когда я говорю, что им нужно успокоиться, радоваться жизни, питаться разнообразно и больше двигаться. Да, именно в таком порядке. Мне надоело произносить все это из раза в раз, а им надоело мне внимать, но, как ни крути, это правда, и она малоинтересна.
Утро пятницы, на часах без пяти восемь. Я сижу за письменным столом в своем кабинете в клинике, на третьем этаже старого дома на Солли-пласс. Через пять минут начнется. Зови врага, как говорит мой коллега. Даже спустя столько лет я совершенно не понимаю, почему люди, находящиеся за дверью, хотят ко мне прорваться. Они специально отпросились с работы, чтобы прийти сюда, но зачем? В голове пусто и тихо. На столе разложены какие-то бумаги, стоит монитор компьютера, рядом лежит стетоскоп, поодаль – какая-то большая машина на колесах, но что это, к чему все эти вещи и что вообще здесь происходит, чего ждать? Зачем я здесь? Справа окно, за спиной книжная полка с журналами и книгами, на стене напротив – плакаты с изображениями человеческих тел. Похоже на кабинет врача, но где же врач, ведь здесь, кроме меня, никого нет. Куда подевались взрослые, как я здесь очутилась? Должно быть, это недоразумение. А что, если я возьму и уйду? Притворюсь, что мне нужно в туалет, проскользну мимо ждущих в коридоре и просто исчезну.
Но вдруг появляется резкость, мир возвращается в фокус, я пересекаю кабинет, открываю дверь и вызываю первого пациента, ну, разумеется, я не могу не сделать этого, ведь я снова в потоке. И вот я уже натягиваю перчатку, наношу на пальцы смазку. На кушетке на боку лежит мужчина, штаны спущены до колен, белые ягодицы оголены, и, когда я их раздвигаю, я вижу и чувствую, что он толком не вытерся, да что там говорить, он вообще не вытирался после последнего похода в туалет, хотя прекрасно знал, что идет к врачу с жалобой на геморрой и зуд в заднем проходе. Я с профессиональной отстраненностью ощупываю геморроидальные узлы и осторожно ввожу в анальное отверстие один палец и пальпирую задний проход и простату, затем вынимаю палец, выбрасываю печатки, подхожу к раковине и тщательно, словно хирург в операционной, мою руки, и в довершение ко всему протираю их антибактериальным раствором.
– Надеюсь, вы не против, если я открою окно, – говорю я. – Нужно проветрить.
Тем временем он успел одеться и теперь сидит напротив меня – обычный, среднестатистический гражданин, чьи кроваво-красные геморроидальные узлы и немытый анус надежно спрятаны под черными брюками со стрелками.
– Прошу меня извинить. Уже некоторое время я не осмеливаюсь тщательно вытираться, боюсь, что там все полопается.
– Все в порядке.
«А вот и не в порядке», – вдруг произносит Туре.
Туре – пластиковый скелет в натуральную величину, он стоит в углу между дверью и раковиной. Он – единственный свидетель происходящего в кабинете. Когда я его только купила, то шутки ради надела ему на голову черную мужскую шляпу. В то время меня занимали такие темы, как роль юмора в отношениях между врачом и пациентом и целительная сила смеха. Тогда казалось, что мы способны изменить мир вместе с норвежской системой здравоохранения, увидеть пациента во всей его целостности и так далее и тому подобное. Мы верили, что мы особенные, исключение из правил, и что нашему медицинскому центру суждено стать чем-то из ряда вон выходящим. Возможно, именно эта вера в собственную исключительность по-прежнему заставляет нас подниматься каждое утро.
«Да, не в порядке, – продолжает Туре, – вовсе не в порядке. Он мог бы смочить туалетную бумагу и осторожно вытереться. Да мало ли существует способов. Он мог бы купить влажные салфетки в киоске на углу и воспользоваться ими до прихода в кабинет. Но не сделал ни того, ни другого. А если ему не стыдно сунуть свою задницу, перемазанную свежими испражнениями, в лицо незнакомому человеку, на что еще он способен? Что еще скрывает этот мужчина?»
Я вещаю что-то о моционе, потреблении жидкости и клетчатки и, слушая собственный голос, стараюсь вытеснить из своего сознания шипение Туре и резкий запах, который несколько минут назад наполнил кабинет и по-прежнему висит в воздухе.
Во время учебы я проходила практику в доме престарелых. Благодаря дополнительным сменам я быстро научилась фильтровать собственные ощущения и уже спустя неделю могла преспокойно сидеть в столовой и жевать бутерброд с колбасой, хотя еще пару минут назад отмывала от испражнений тела, стены и инвалидные коляски. Я возвела герметичные перегородки между «здесь» и «там», между «до» и «после» и, главное, между собой и пациентами.
Теперь же я не терплю ничего. Как будто с возрастом моя способность отделять вещи друг от друга стала неизбежно изнашиваться, и мне приходится прилагать огромные силы, чтобы достичь того, что еще пару лет назад получалось само собой.
Я машинально говорю, стараясь не обращать внимания на картинки, из ниоткуда появляющиеся на экране монитора. Произношу что-то о мази и суппозиториях, формирую рецепт на компьютере, но картинки продолжают маячить перед глазами, становятся все ужаснее, я вижу, как мои собственные зубы вгрызаются в геморроидальные узлы и в потолок бьет фонтан крови и экскрементов. Что стряслось? Раньше со мной такого не случалось. Мне доводилось видеть гораздо более неприятные вещи. Я вскрывала абсцессы, которые иной раз забрызгивали своим содержимым не только стоящих вокруг, но и потолок и стены. Я лечила раны, видела все жидкости, которые только есть в человеческом теле, ощущала все запахи, которые способен производить человек, так что вряд ли меня может смутить чуть-чуть испражнений. Но мои защитные перегородки прохудились, и содержимое отсеков только и ждет, чтобы перелиться через край. Я должна взять себя в руки, иначе разразится скандал, который совершенно точно приведет к тому, что мне больше не позволят здесь находиться. Куда мне тогда деться, ведь этот кабинет и эта униформа – последнее, что у меня осталось.
«Успокойся, – говорит Туре. – К тому же скандал уже произошел».
«Да, но здесь, – отвечаю я, – в этих стенах еще ничего не случилось».
Геморройщик уходит. Я обновляю журнал приема и вызываю следующего пациента. Сидящий за дверью мужчина с хвостиком и в очках отрицательно мотнул головой. Я прохожу по коридору, заглядываю в зал ожидания, называю имя пациента, но и там никто не отрывается от телефона. Только я собираюсь вернуться в кабинет, хвостатый бросает на меня вызывающий взгляд, в котором читается: «Ну теперь-то я могу войти, раз предыдущий пациент не явился?» – «Нет не можете, – молча отвечаю я. – Сейчас у меня заслуженная пауза».
Случись это пару лет назад, я бы пригласила его в кабинет. Раньше мне нравилось опережать график, контролировать ситуацию, делать пациентам приятно. Но в какой-то момент я поняла: как бы быстро я ни работала и сколько бы пациентов я ни принимала, их становится все больше, они льются нескончаемым потоком, словно из открытого крана.
Я сажусь за письменный стол и смотрю в никуда. «Все в порядке, – думаю я, – нужно просто сохранять спокойствие, когда выдается минутка, нужно просто…» Но тут вибрирует телефон, и я вспоминаю, что он уже вибрировал, когда я пальпировала анус геморройщика. На экране куча непрочитанных сообщений. Многие из них от Бьёрна. «Как дела? Почему ты молчишь?» На эти сообщения я не отвечаю, как не отвечала и на вчерашние. Я переключаюсь между приложениями и вижу, что он, оказывается, писал даже ночью в разные мессенджеры в три-четыре часа утра. Это моя новая тактика: не отвечать ни на сообщения, ни на звонки. Так я решила вчера после обеда. Мои большие пальцы замерли над экраном: что мне написать? Кто этот человек, ждущий ответа на том конце? Зачем все это?
«Пускай подождет», – подумала я и положила телефон на полку. Ведь Бьёрн все равно никуда не денется.
Я не отвечала, и с каждым часом мне становилось все легче. И почему мне потребовалось добрых полвека, чтобы наконец осознать, что лучшее средство – бездействие? Одна эта мысль приводит меня в бешенство.
«Но ты уже не можешь просто так выйти из игры», – говорит Туре, ведь он хочет, чтобы я продолжала битву: с Акселем, который занял наш дом в Гренде1; с Бьёрном, который вернулся к своей жене во Фредрикстаде 2; с Гру, которая уже несколько раз общалась с Акселем, о чем она упомянула в нескольких сообщениях, на которые я тоже не ответила.
«Думаю, дела у него неважно, – написала она вчера в том же тоне, в котором обыкновенно обсуждала собственного бывшего мужа. – Ему очень нужно с кем-то поговорить». На протяжении миллионов лет женщины успешно применяют это логическое обоснование, чтобы оправдать что угодно: ему нужна я.
Могу себе представить, как Гру, моя бывшая соседка и собутыльница, томится одна на своей огромной вилле, а через дорогу сидит Аксель, такой же одинокий, в своем доме. Только теперь я отдаю себе отчет в том, что всякий раз, когда Аксель заходил на кухню, где мы с ней сидели, Гру расправляла плечи. Думаю, она делала это неосознанно, иначе она бы точно старалась это скрыть.
«И что ты собираешься с этим делать?» – спрашивает Туре.
Делать с чем?
«С тем, что, возможно, прямо сейчас Гру лежит рядом с Акселем в кровати, которую вы оплатили пополам и вместе затаскивали на второй этаж».
Я не знаю. У меня напрочь отсутствует соревновательный инстинкт. Если бы начался массовый голод, я бы погибла в числе первых.
«Ты должна что-то предпринять, прежде чем будет слишком поздно».
Что тут поделаешь? Мне остается идти своей дорогой. Если начать что-то предпринимать сейчас, станет только хуже. Я создам трение, которое только воспламенит отношения между ними.
«Погоди, ты дождешься. Вот они сидят по домам, покинутые своими супругами. Лучше не придумаешь. Как говорится, стол накрыт. Поверь, общество будет аплодировать им с тем же рвением, с каким обычно осуждает любые темные делишки, связанные с контрактами и недвижимостью».
Подумаешь.
«А как же Бьёрн?» – продолжает Туре, явно недовольным тем, что я не реагирую.
Бьёрн во Фредрикстаде, вернулся к Линде, своей повелительнице. Что свидетельствует о наивысшей степени зависимости. Самая сильная из всех зависимостей – тяга к подчинению, тяга к узам. После окончания Гражданской войны в Америке многие рабы отказывались покидать плантации, и в этом нет ничего удивительного. Зато удивительно то, что многие из них ступили на новый путь, ведущий в полную неизвестность.
Сообщения от Акселя: «Мне тошно смотреть на твою одежду в шкафу». Судя по всему, Аксель тоже встал рано. Приятно смотреть, как с каждым посланием он закипает все больше. «Мне тошно видеть твои вещи в доме. Я сложил их в мусорные пакеты и вынес в гараж. Можешь забрать их, когда хочешь, только не заходи в дом».
«Дом теперь его», – думаю я, но, как ни странно, эта мысль меня совершенно не тревожит. Сколько лет я ухаживала за этим домом, мыла его и ремонтировала, расширяла подвал и надстраивала чердак, а потом взяла и отдала его Акселю. Разумеется, при условии, что он полностью перейдет девочкам и что Аксель не может заложить ни единого гвоздя в доме без разрешения дочерей. И тем не менее.
Стоит человеку достаточно долго сохранять спокойствие и пассивность, все начинает происходить само собой. Вот и очередное сообщение от Акселя, хотя он, скорее всего, тоже сейчас на работе. Словно червь, выползающий из-под земли на свет, вдруг показывается затаившаяся угроза: «Вчера звонила Ида и спрашивала, поедем ли мы летом на Валер3».
В переводе на человеческий язык это означает: «Мы должны поговорить с девочками, рассказать им о том, что произошло. Если ты не возьмешь инициативу в свои руки, это сделаю я. И тогда они услышат мою версию первой».
Я по-прежнему не отвечаю. Давай, Аксель, не тяни, рассказывай свою версию. Как ни крути, виновна все равно я.
Тут вступает Туре:
«Рано или поздно тебе придется отвечать, говорить, действовать. А когда придет твой черед рассказывать о случившемся, какова будет твоя версия? Окончательная версия?»
Туре продолжает трещать в своей фирменной манере, предлагая одну подсказку за другой:
«Ты скажешь, что завела любовника, потому что Аксель тебя не замечал? Что ты изменила ему, потому что Аксель помешался на беговых лыжах? Или что ты ввязалась в отношения с Бьёрном, потому что видела в его взгляде отражение себя двадцатидвухлетней? Потому что боишься смерти, потому что нам дана лишь одна жизнь, и стоит ли ее тратить на…»
А ну, цыц.
«Или потому, что тебя просто все достало. Многим знакомо это чувство, однако ты считаешь, что у тебя особый случай. Я ничего не забыл?»
Я молчу, и Туре продолжает:
«Вам с Акселем было хорошо вместе, не так ли? Помнишь тот летний день, когда дети играли в саду и бегали по кварталу, а вы убирали на кухне, было тепло, на тебе лишь короткое платье, ты сняла белье и села на кухонный стол, одного вида твоих загорелых бедер для Акселя было тогда достаточно, и спустя мгновение он уже был в тебе. Вы стояли посреди кухни, за дверью были дети, соседи, кто угодно мог зайти в любой момент, а если кто-то бы и застукал вас на горячем, это лишь сделало бы вас еще более привлекательными в их глазах, ведь можно только позавидовать молодой паре, занимающейся сексом, стоя посреди кухни, пока дети играют на улице. Вы бросили немытую посуду и отправились в спальню, чтобы проделать это снова. Вспомни себя в своей прошлой жизни, когда ты все воспринимала как должное. Разве тогда ты была недовольна?»
Да, я была довольна. Но я ничего не воспринимала как должное, совсем наоборот. Как бы там ни было, я уже не удивляюсь тому, как оказалась здесь, зато не могу понять, как могла терпеть жизнь в Гренде так долго. Все, чего я когда-либо боялась, уже произошло, но я уверена: каждый вечер раскладывать кресло из Икеи в своем кабинете – единственно верный выбор для меня. Словно я всю жизнь шла именно к этому.
2
В первую ночь в моей новой системе координат я не могла уснуть. Я лежала на медицинской кушетке и слушала, как по Солли-пласс ходят трамваи. Последний трамвай прогремел примерно в половине второго ночи.
На следующий день, после работы, я села в автобус до Икеи. Там я купила раскладное кресло-кровать и большое мусорное ведро, в котором теперь прячу простыню, одеяло и подушку.
На третий вечер я поняла, что мне срочно нужно с кем-то поговорить – с кем угодно и о чем угодно. Пришла уборщица, и я решила пообщаться с ней. Начала расспрашивать ее о жизни, поинтересовалась, есть ли у нее дети. Я пила кофе, стоя, а она убирала и отвечала на мои вопросы: «Yes. Her name is Maria. She is five years old. She is living with her parents in Poland. Of course I miss her»4.
«Не приставай к ней», – сказал Туре. В тот день я впервые услышала его голос. Меня это нисколько не удивило, ведь к тому моменту уже столько всего произошло. Что может быть естественнее, чем разговаривать со старым пластиковым скелетом, стоящим в углу? И я ответила ему, мысленно, разумеется, словно он был живым человеком: «Но мне любопытно, как живут эти поляки. Каково им, зачастую образованным людям, оказаться в Норвегии на самом дне – в качестве уборщиков, грузчиков, маляров, циклевщиков?»
«Мало того что ей приходится убирать твой кабинет, так ты еще и донимаешь ее расспросами».
Но она ведь отвечает.
«Она не смеет тебя проигнорировать. Она ведь уборщица».
И все же я заговорила с ней из добрых побуждений, тем более что мне надоело рассматривать под микроскопом саму себя. Если заниматься этим достаточно долго, вскоре ничего не остается. За одним слоем всегда кроется еще один, затем еще один, и так до бесконечности. Я живу здесь уже почти три недели. Раскладное кресло жесткое и неудобное, и каждую ночь я несколько раз просыпаюсь. Но позволяю себе вставать, самое ранее, в начале пятого, поскольку четыре часа – это еще ночь, а пять – уже утро. Если на часах четверть пятого, я заставляю себя дождаться, пока стрелки не покажут двадцать минут, ведь тогда до половины пятого остается всего десять минут. И вот наконец я разрешаю себе подняться, надеть униформу и прошмыгнуть в туалет в конце коридора. Случалось в этот ранний час сталкиваться с коллегами, так что мне приходилось притворяться, будто я тоже только что пришла, всего на пару минут раньше, чем они сами. Без каких-либо объяснений и отговорок. Нужно всего-то посмотреть друг на друга с усталым видом: мы, врачи общей практики, вынуждены работать сутки напролет!
– Вы нарушаете гармонию, – сказал мне как-то один врач. – Вечно вы здесь. Вы что, здесь поселились?
– Да, – отозвалась я как ни в чем не бывало. – Нам всем следовало бы смириться с действительностью и переехать сюда – чем раньше, тем лучше.
Мы посмеялись. Хе-хе.
Если вам есть что скрывать, лучше держаться истины. Сказать правду, а там будь что будет. Но ничего не произошло. Коллега просто кивнул и пошел дальше.
Случалось, что я мочилась в раковину в кабинете. Потом убирала постель и складывала кровать, и в углу кабинета снова появлялось обычное кресло. Пила воду, чистила зубы, открывала окно, чтобы выветрить запах, свидетельствующий о том, что здесь кто-то спал, затем тихонько шла в столовую за кофе. Не включала кофемашину, во всяком случае не каждый раз, а грела чайник, чтобы сделать растворимый кофе, черный. Раньше я пила кофе с молоком, но с некоторых пор решила, что молоко, как и мягкая кровать, – недопустимая роскошь. К тому же теперь я могу об этом не думать.
В столовой риск встретиться с кем-то выше, поскольку мы делим ее с медицинским центром, находящимся этажом ниже. Однажды я встретила у прилавка психиатра, специалиста по пищевым расстройствам.
– Вы прекрасно выглядите, – сказала она. – Вы сбросили вес?
– Возможно.
– Не поделитесь секретом успеха?
– Два пальца в горло после каждого приема пищи, – ответила я, и мы засмеялись.
«Юмор – это важно, – подумала я на обратном пути в кабинет. – Важно смеяться. Всякий раз, когда мы смеемся, происходит выброс…»
«Заткнись, – сказал Туре, когда я вошла в кабинет, – просто заткнись».
Каждое утро с пяти до восьми часов я пью кофе и занимаюсь бумажной работой. Просматриваю результаты анализов крови, эпикризы болезни и выписки из больниц. Я так устала, что голова моя клонится к клавиатуре, и все же это лучшее время дня. На Солли-пласс останавливается первый трамвай. Я пишу заключения для управления социальными пособиями и выплатами страховых компаний и заполняю всевозможные формы, которые становятся все более подробными и хитроумными день ото дня, под приглушенные звуки радио NRK5. Нервная система не терпит эмоций в столь ранний час, да и в течение всего дня, если на то пошло, – ничего шокирующего, никакой рекламы, никакой слишком старой или слишком новой музыки. Только отфильтрованный, авторизованный, финансируемый государством поток звуков.
«Все в порядке, – ненавязчиво сообщает нам радиоприемник, – все в порядке».
Раньше, завершив сложную консультацию, я всегда обращалась к Акселю, лично или в сообщении: «Как ты думаешь, все будет в порядке?» И даже если он стоял у операционного стола, он всегда отвечал: «Конечно, все будет в порядке».
Теперь я уже не могу задать ему этот вопрос. Если бы мне пришло в голову отправить ему такое сообщение, при нынешних обстоятельствах он бы воспринял это как объявление войны. Как будто я вовсе не отказалась от права быть заверенной в том, что все в порядке.
Мне то и дело хочется написать Акселю сообщение, рассказать ему что угодно: какую-нибудь новость о пациенте, о котором я говорила раньше, которая, я знаю, могла бы его заинтересовать. Я беру телефон и тут же вспоминаю, что уже не имею такой возможности, и в голове тревожно звенит: «Что ты наделала? Что ты наделала?» Я осматриваюсь, ищу помощи, пытаюсь собрать мысли в воспоминания, реплики и события, сумма которых могла бы подтвердить, что это должно было случиться неизбежно. Как я говорила моим пациентам, супружеской паре, потерявшей сына по причине не обнаруженного вовремя порока сердца: это должно было произойти неизбежно. В их случае это правда, в моем – нет.
Первые несколько дней я просыпалась от удушья, и мне приходилось некоторое время лежать в позе эмбриона, чтобы восстановить дыхание. Всякий раз я думала: ну все, это конец. На третий или четвертый день я позвонила Акселю и сказала, что он может забрать мою долю дома. То есть я написала ему сообщение, чтобы отрезать себе путь назад. Если на следующее утро снова случился бы приступ, я могла бы сразу успокоить себя: я отдала ему свою половину дома. С тех пор, как я переехала в клинику, Аксель не звонил и не отвечал на мои звонки, однако на этот раз он перезвонил мгновенно. Позже, в тот же день, мы сидели за кухонным столом в нашем доме в Гренде, и выражение его лица говорило о том, что он осознал, что теперь будет единоличным владельцем и что страдания того стоили. Адвокат прислал нам новый контракт, мы подписали его, но ничего не изменилось. И с чего бы чему-то меняться. По крайней мере, ради девочек будет сохранен их отчий дом. Один из аргументов Акселя состоял в том, что он был не в состоянии выкупить мою долю. Об этом он сразу же сказал. Снова его извечная озабоченность деньгами и недвижимостью. Всякий раз, когда я вспоминала об этой его слабости, удушье на некоторое время ослабляло свою хватку.
Приступы прекратились, однако, как только все заботы по взаимодействию с адвокатом и регистрации права собственности завершились, удушье вернулось.
«Таким образом, каждое утро без страха обошлось тебе в полмиллиона, – резюмирует Туре. – Или, если посмотреть на это иначе, за каждое совокупление с Бьёрном ты заплатила двести тысяч».
Я не отвечаю, и Туре продолжает:
«Это бездонный колодец, который невозможно наполнить, что бы ты ни делала и сколько бы ни отдавала. Когда ты наконец усвоишь это? Ты родилась с гипертрофированным чувством долга, и оно будет преследовать тебя до смертного одра. Тебе пора научиться жить с ним и при этом не совершать столько немыслимых поступков. Ты должна смириться с ним так же, как люди смиряются с горем. Шаг за шагом».
Я по-прежнему не отвечаю, и Туре пытается зайти с другого фланга:
«Поверить не могу, что ты добровольно отдала дом. Глупее ничего нельзя было придумать. Ты потеряла свой единственный козырь в переговорах».
Мне не нужен никакой козырь в переговорах. И я не хочу быть частью того мира, где используют подобные термины. Или рассуждают о восстановлении брака.
В последнее время приступы удушья стали случаться и посреди дня. Тогда я нагибаюсь вперед, кладу руки на колени и стараюсь наполнить легкие воздухом. Утешает то, что существует предел, до которого тело способно выносить подобные выходки, и на этот раз все проходит.
«Нужно собрать волю в кулак и выстоять», – говорю я, глядя в зеркало, ведь я знаю, что мозг можно запрограммировать. Мысли, чувства и любая мозговая активность способны со временем сформировать новые шаблоны. Это работает в обе стороны. Депрессия порой подкрадывается незаметно. Поначалу может показаться соблазнительным поддаться ей, однако стоит новому состоянию укорениться, как избавиться от него будет гораздо сложнее – сложнее, чем было бы отразить первый удар. Так я говорю своим пациентам.
Успокойтесь, получайте удовольствие от жизни, питайтесь разнообразно, больше двигайтесь. Я улыбаюсь сама себе так широко, что оголяются десны.
«Как ты думаешь, все будет в порядке?» – спрашиваю я Туре, но он не отвечает. Он просто осклабился своей надменной улыбкой от уха до уха, и я вспоминаю слова одного университетского профессора: «Внутри мы улыбаемся постоянно».
Аксель слишком много ходил на лыжах – это я могла заявить со всей прямотой. Но что, если никакого объяснения этому не существует, что, если не существует ни связного рассказа, ни героев, ни злодеев?
«Но вам ведь было довольно хорошо вместе, не правда ли?» – снова скрипит Туре.
Аксель способен пережить случившееся, мы способны пережить случившиеся. Многим парам удается оправиться от измены и даже укрепить свои отношения.
«А помнишь то интервью с семейным психологом, которое ты читала сегодня? На вопрос, могла бы она порекомендовать измену в качестве лекарства от охлаждения в сексуальных отношениях между супругами, она ответила: “С этой же вероятностью я могла бы порекомендовать онкологию”. А ты сидишь здесь, широко расставив ноги, и ждешь, что химиотерапия подействует».
Аксель не знает, что я поселилась здесь, в кабинете. Я не лгала ему – просто скрыла часть информации, как поступала на протяжении всего года. Поэтому он уверен, что я живу в квартире своей матери на Оскарс-гате6, что было бы вполне логичным, поскольку мать переехала в дом престарелых и квартира свободна.
Каждый вечер я собираюсь перебраться туда. В отличие от кабинета в клинике, жить в квартире на Оскарс-гате – законно. К тому же там есть целых две спальни с удобными кроватями. Но всякий раз я остаюсь здесь. Есть что-то притягательное во всем временном, а главное – запретном. Я испытываю почти детский страх, пытаясь проскользнуть под датчиком движения, и иду на всевозможные хитрости, чтобы остаться незамеченной.
Толком выспаться ночью у меня не получается, зато, если выдается свободная минутка днем, я ложусь отдохнуть на медицинскую кушетку. Кладу ноги на опоры, которые используются во время гинекологического осмотра и, не обращая внимания на окружающий шум, засыпаю крепче, чем в любом другом месте, в любое другое время суток, так, что из уголка рта течет слюна.
Так почему бы не укладываться на кушетку и ночью? Нет, это никуда не годится, ведь если сон на кушетке с поднятыми ногами превратится в новую программу действий, которые я обязана выполнять по инструкции, мне не удастся заснуть. «Нет, я не могу так лежать здесь, – думаю я, – в коридоре ждут пациенты, которые так напирают на дверь, что она прогибается внутрь, я должна обновить журнал посещений, я должна…» На этом я обычно засыпаю.
Мне уже за пятьдесят, но я снова веду себя как ребенок, как будто подросток во мне долго прятался, а теперь проснулся и проглотил взрослую часть меня одним глотком.
Darmowy fragment się skończył.