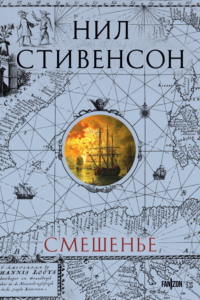Czytaj książkę: «Смешенье»
Морин
Neal Stephenson
THE CONFUSION
Copyright © 2004 by Neal Stephenson

Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой
В оформлении использованы фрагменты
«Новой карты Средиземного моря» работы Иоганна Лутса (1705)

© E. Доброхотова-Майкова, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. «Издательство «Эксмо», 2025
Очень многих следует поблагодарить за помощь в создании Барочного цикла. Эта книга, «Смешенье», его второй том, так что см. Благодарности в «Ртути», первом томе Барочного цикла.
От автора
Этот том состоит из двух романов, «Бонанца» и «Альянс». Действие обоих происходит в 1689–1702 гг. Вместо того чтобы расположить их последовательно, вынуждая читателя посредине тома прыгать из 1702-го обратно в 1689-й, я перемежаю главы одного главами другого, в надежде, что такое смешенье поможет читателю избежать замешательства.
Когда сперва я в руки взял перо
И стал писать, на ум мне не пришло,
Что книжечку смогу я написать
Подобную; нет, я хотел создать
Другую; и, почти закончив ту,
Я эту начал, перейдя черту.
Джон Беньян, «Путь паломника», Оправдание автором своей книги 1
Книга 4
Бонанца
Природа человеческая столь превосходна, искры небесного огня пылают в ней столь ярко, что заслуживают всяческого порицания те, кто по малодушию, выдаваемому за осторожность, по лени, величаемой умеренностью, либо из скаредности, притворно именуемой бережливостью, так или иначе воздерживается от великих и благородных деяний.
Джованни Франческо Джемелли Карери, «Путешествие вокруг света»
Берберийское побережье
Октябрь 1689
Не просто пробуждение, а взрывное окончание невероятно долгого и однообразного сна. Сейчас он не мог уже толком вспомнить, что, собственно, ему снилось; вроде бы он всё время грёб или что-то шкрябал. Короче, он не обиделся, что его разбудили, а если б и обиделся, то сообразил бы придержать язык и скрыть досаду под маской неунывающего бродяги. Ибо сновидения прервал нечеловеческой силы грохот, богоподобная сила, на которую не след орать или жаловаться, по крайней мере прямо сейчас.
Палили пушки. Чёрт-те сколько чёрт-те каких. Целые батареи осадных орудий и береговой артиллерии стреляли без остановки.
Он выкатился из-под облепленного ракушками корабельного корпуса, под которым, видимо, прикорнул, и его тут же вдавило в песок волной знойного воздуха. На этом этапе человеку умному, сведущему в делах военных, следовало по-пластунски ползти в укрытие, однако по всему берегу в песок плотно упирались обутые в сандалии волосатые ноги, и никто не торопился падать ничком.
Лёжа на спине, он смотрел сквозь мокрый, испачканный в песке подол дерюжной рубахи, окутавшей своего обладателя мягким золотистым сиянием, прямо в незрячее око чужого уда, странным образом видоизменённого. Эту конкретную игру в гляделки он проиграл и, перекатившись обратно, возмущённо встал на ноги, однако позабыл про нависающее корабельное днище и вмазался башкой в ракушки. Завопил благим матом, но никто его не услышал. Даже он сам. Попытался заткнуть уши и крикнуть, но всё равно не услышал ничего, кроме грома пушек.
Время осмотреться и сообразить, что к чему. Корабельное днище закрывало обзор. С другой стороны в сверкающий залив уходила каменная дамба. Под любопытными взглядами человека с грибообразным удом он зашёл в воду по колено, обернулся и увидел такое, что аж сел.
Залив был усеян крохотными островками. На одном из них возвышалась приземистая круглая крепость, которую возвели (если он что-нибудь смыслил в архитектуре) ценою немалых затрат испанцы, подгоняемые смертельным страхом за свою жизнь. Боялись они, надо полагать, не зря, потому как сейчас над крепостью развевались зелёные знамёна с серебряным полумесяцем. Крепость опоясывали три яруса пушек (вернее сказать, крепость состояла из трёх ярусов пушек), судя по виду и грохоту – шестидесятифунтовых, то есть способных забросить на несколько миль ядро с дыню размером. Из окутавшего форт порохового дыма там и тут вырывалось пламя, создавая впечатление грозовой тучи, умятой и загнанной в бочонок.
Белая каменная дамба соединяла укрепление с берегом – сплошной каменной стеной, которая уходила отвесно вверх от самой кромки воды и тоже щетинилась пушками. Все они палили с такой частотой, с какой их успевали банить и заряжать порохом.
За стеной раскинулся белый городок. Стоя у подножия высокой стены, обычно мало что увидишь, разве что церковный шпиль-другой. Однако этот город старательно прилепился к отвесному склону, начинавшемуся от самого моря. Впечатление было такое, словно некое чистоплотное божество поставило на попа клинышек Парижа, чтобы оттуда наконец вытекло всё дерьмо. С самого верха, на месте ломика или рычага, которым должно было орудовать гипотетическое божество, торчала ещё одна, на сей раз мавританского вида, восьмиугольная фортеция, утыканная ещё более колоссальными пушками, а также мортирами для навесной стрельбы по морю. Все они тоже палили – как и орудия на различных дополнительных фортах, бастионах и пушечных платформах вдоль городской стены.
В редкие промежутки между громовыми раскатами шестидесятифунтовок он различал подголосок ружейного и пистолетного огня и теперь (перенеся внимание на более мелкие детали) увидел на стене нечто вроде дымной лужайки, только вместо травы на ней росли люди. Некоторые были в белом, другие – в чёрном, но преобладали яркие одежды: белые шаровары, подпоясанные разноцветными шёлковыми кушаками, пёстро расшитые жилеты (часто один на другом), на голове – фески или тюрбаны. Почти все одетые таким образом люди держали в каждой руке по пистолю и либо палили в воздух, либо перезаряжали.
Обладатель экзотической залупы – смуглый, в скуфейке поверх курчавых, чудно́ выстриженных волос – подобрал рубаху и заплескал по воде взглянуть, не случилось ли чего с товарищем. Тот по-прежнему двумя руками сжимал голову, отчасти чтобы остановить кровотечение из рассечённой о корабельное днище кожи, отчасти чтобы черепушку не снесло грохотом. Чернявый наклонился, посмотрел ему в глаза и зашевелил губами. Лицо оставалось серьёзным и в то же время чуточку насмешливым.
Он ухватился за протянутую руку и встал. Костяшки пальцев у обоих были содраны в кровь, а ладони – такие мозолистые, что почти могли бы ловить на лету пули.
Интересно, куда палят все эти пушки и есть ли шанс уцелеть? В заливе собрался флот из трёх-четырёх десятков кораблей, и, ясное дело, они тоже палили. Однако те, что походили на голландские фрегаты, не стреляли по восточного вида галерам, и наоборот; равным образом ни одно судно не осыпало ядрами белый город. Все корабли, даже европейской постройки, несли на мачтах зелёный флаг с полумесяцем.
Наконец его взгляд остановился на судне, примечательном тем, что оно одно, в отличие от всего вокруг, не плевалось дымом и пламенем. То была магометанского вида галера, исключительно красивая, во всяком случае на взгляд тех, кому по вкусу чрезмерная роскошь: её нефункциональные части полностью состояли из золочёных финтифлюшек, сверкавших на солнце даже сквозь пелену дыма. Латинский парус был убран, и галера величаво скользила на вёслах.
Он поймал себя на том, что чересчур пристально изучает движения вёсел и восхищается их слаженностью куда больше, чем пристало вменяемому бродяге. Напрашивался вопрос: по-прежнему ли он бродяга и в своём ли уме? Смутно помнилось, что какую-то часть своей жизни и он мыкался по христианскому миру, постепенно теряя рассудок от французской болезни, но сейчас голова казалась вполне ясной, только из неё куда-то выветрилось, кто он, как сюда попал и что вообще в последнее время происходило. Да и непонятно, какой смысл вкладывать в понятие «последнее время», учитывая длину бороды, доходившей до пояса.
Канонада стала ещё громче, если такое возможно, и достигла наивысшей точки в тот миг, когда золочёная галера подошла к выдающейся в залив пристани. И тут внезапно всё смолкло.
– Что, чёрт меня дери… – начал он, но конец фразы заглушил звук, восполнявший пронзительностью то, что проигрывал канонаде в громкости.
В изумлении прислушавшись, он различил некое сходство между этим и музыкой. Ритм присутствовал, правда, исключительно бурливый и сложный, и мелодия тоже; не похожая ни на какой цивилизованный строй, она отдавала дикими ирландскими песнопениями. Гармония, нежность, напевность и другие качества, обычно ассоциируемые с музыкой, отсутствовали начисто. Ибо турки, или кто там они были, не признавали флейт, скрипок, лютней и других благозвучных инструментов. Их оркестр состоял из барабанов, тарелок и исполинских боевых гобоев, выкованных из меди и снабжённых скрипучими, скрежещущими язычками – такими звуками мог бы сопровождаться вооружённый штурм заселённой скворцами колокольни.
– Смиренно приношу извинения всем шотландцам, с какими сталкивался в жизни, – прокричал он. – Их музыка всё-таки не самая отвратная в мире.
Его товарищ поднёс ладонь к уху, но мало что услышал, а понял и того меньше.
Надо сказать, почти весь город прятался за стеной, каких не видывал христианский мир. Однако по эту сторону имелось множество пирсов, волноломов, орудийных платформ, полосок илистого берега – и всё, способное выдержать вес человека или лошади, было заполнено людьми в диковинном обмундировании. Короче, происходило некое подобие военного смотра. И впрямь, после того как по рядам несколько раз прокатился многоголосый рёв, отзвучала адская музыка и очередные залпы, разные важные турки (в нём крепла уверенность, что это именно турки) начали проезжать через ворота в могучей стене и исчезать в городе. Первым ехал невероятно грозный и величественный всадник на вороном жеребце. По бокам от него выступали два барабанщика. От барабанного боя накатило необъяснимое желание схватиться за вёсла.
– Это, Джек, ага янычар, – сказал обрезанный.
Имя «Джек» показалось знакомым или по крайней мере сподручным. Значит, он Джек.
За барабанщиками ехал седобородый старик, почти такой же великолепный, как ага янычар, но не столь тяжело вооружённый. «Премьер-министр», – сказал Джеку его спутник. Потом на своих двоих проследовали десятка два более или менее пышно разодетых офицеров («ага-баши»), за ними целая толпа в роскошных тюрбанах, украшенных первоклассными страусовыми перьями («булюк-баши», – последовал комментарий).
Становилось ясно, что этот тип из тех, кто не упустит случая блеснуть познаниями и просветить недоумков. Джек собрался уже сказать, что не нуждается в просвещении, но что-то его остановило. Отчасти смутное ощущение, что они с этим малым знакомы, причём давно, а значит, тот всего лишь пытается поддержать разговор. Отчасти – некая языковая закавыка. Откуда-то Джек знал, что булюк-баши соответствуют капитанам, ага-баши на ранг выше и что ага янычар – генерал. Однако он не мог взять в толк, с какой стати понимает всю эту тарабарщину. Поэтому Джек молчал, покуда в хвост процессии пристраивались многочисленные ода-баши (лейтенанты) и векиль-харджи (урядники). Различные ходжи – например, соляной ходжа, таможенный ходжа, ходжа мер и весов – следовали за главным ходжой; далее выступали чауши в длинных изумрудных одеяниях, подпоясанных алыми кушаками, и белых кожаных шапках; их фантастически закрученные усы лихо завивались вверх, алые подбитые башмаки грозно стучали по каменной пристани. Следом промаршировали кадии, имамы и муфтии. И, наконец, с золочёной галеры на причал спустилась рота великолепных янычар. За ними появился человек в ярдах кипенно-белой ткани, собранной при помощи множества массивных золотых брошей в наряд, который наверняка бы рассыпался, если бы человек шёл, а не ехал на белом красноглазом коне, обвешанном драгоценной сбруей в том количестве, какое только может нести лошадь, не спотыкаясь обо все эти роскошества.
– Новый паша – прямиком из Константинополя.
– Гром меня разрази – из-за него-то и палили все пушки?
– Нового пашу принято встречать полутора тысячами выстрелов.
– Где принято?
– Здесь.
– А здесь – это где?
– Прости, я запамятовал, что ты был не в себе. Город, высящийся вон на той горе – Несокрушимый бастион ислама, Бич христианского мира, Узда Италии и Гроза Испании, Форпост священной войны, покоривший все моря своему закону и сбирающий со всех народов законную дань.
– Враз не выговоришь.
– Англичане называют его Алжир.
– Что ж, в христианском мире я видел, как на целые войны тратилось меньше пороха, чем в Алжире на то, чтобы поздоровкаться с пашой; так что, может быть, твои слова – не пустая похвальба. Кстати, на каком языке мы говорим?
– Его называют «лингва франка» или «сабир». Часть слов в нём из провансальского, испанского или итальянского, часть – из арабского и турецкого. В твоём сабире, Джек, больше французского, в моём – испанского.
– Уж точно ты не испанец!
Собеседник поклонился (правда, шапочку не снял); пейсы, соскользнув с плеч, закачались в воздухе.
– Мойше де ла Крус к вашим услугам.
– Моисей Креста?! Что за имечко такое еврейское?
Мойше, похоже, не находил своё имя особенно комичным.
– История долгая – даже по твоим меркам, Джек. Довольно сказать, что нелегко быть иудеем на Пиренейском полуострове.
– Как ты здесь очутился? – начал Джек, но его перебил рослый турок с «бычьим хером» в руке, который замахал на Джека и Мойше, приказывая им выйти из прибрежной полосы и возвращаться к работе: сиеста была фини, и теперь, когда паша проехал через баб в ситэ, наступило время трабахо 2.
Трабахо заключалась в том, чтобы отскребать ракушки от ближайшей галеры, вытащенной на берег и перевёрнутой килем кверху. Джек, Мойше и ещё десяток невольников (ибо никуда было не деться от факта, что все они здесь невольники) принялись скоблить днище галеры различными грубыми металлическими орудиями. Турок расхаживал взад-вперёд, помахивая «бычьим хером». Высоко над ними слышалось подобие канонады – это процессия двигалась по улицам города. По счастью, бой барабанов, завывание осадных гобоев и штурмовых фаготов приглушала высокая стена.
– Сдаётся мне, ты и впрямь выздоровел.
– Что бы ни плели тебе алхимики и врачи, французская хворь не лечится. У меня короткое просветление, вот и всё.
– Отнюдь нет. Некоторые видные арабские и еврейские целители утверждают, что упомянутая хворь выходит из организма полностью и навсегда, если у больного несколько дней кряду держится исключительно высокий жар.
– Не то чтобы я очень хорошо себя чувствовал, но жара у меня нет.
– Однако несколько дней назад ты и ещё несколько человек слегли с сильнейшей suette anglaise 3.
– Никогда про такую не слыхивал, даром что сам англичанин.
Мойше де ла Крус пожал плечами, насколько такое возможно, когда сковыриваешь ракушки ржавой зазубренной киркой.
– Здесь она хорошо известна – прошлой весной выкашивала целые селения.
– Может, тамошние жители просто слишком долго слушали местную музыку?
Мойше снова пожал плечами:
– Болезнь вполне реальная – может, не столь страшная, как Антонов огонь, носовертица или письма-из-Венеции…
– Отставить!
– Так или иначе, Джек, ты с нею слёг, и жар у тебя был такой, что другие тутсаки в баньёле две недели жарили кебабы у тебя на лбу. Наконец как-то утром тебя объявили мёртвым, вынесли из баньёла и бросили на телегу. Наш хозяин отправился в казначейство уведомить ходжу-эл-пенджика, чтобы в твоей купчей проставили отметку о смерти – это необходимо для выплаты страхового возмещения. Однако ходжа-эл-пенджик, памятуя о скором приезде нового паши, желал самолично убедиться в правильности записи; за любые огрехи, выявленные при ревизии, его ждёт по меньшей мере битьё по пяткам.
– Можно ли из этого сделать вывод, что рабовладельцы часто мухлюют со страховкой?
– На некоторых из них клейма негде ставить, – сообщил Мойше. – Поэтому мне велели сопровождать ходжу-эл-пенджика в баньёл и показать ему твоё тело, но прежде я долгие часы дожидался во дворе, покуда ходжа-эл-пенджик проводил сиесту в тени лаймового дерева. Потом мы отправились в баньёл, однако к тому времени тебя уже увезли на янычарское кладбище.
– Куда-куда? Я такой же янычар, как и ты!
– Тс-с-с! Так я и заключил за те несколько лет, что был прикован рядом с тобой и выслушивал твой автобиографический бред. Поначалу рассказы казались невероятными, затем – даже занимательными, но после сотого и тысячного повторения…
– Хватит! Не сомневаюсь, Мойше де ла Крус, что у тебя хватает собственных занудных качеств, даже если я, в отличие от тебя, их не помню. Сейчас я хочу знать одно: почему меня приняли за янычара?
– Во-первых, когда тебя взяли в плен, при тебе была янычарская сабля.
– Военный трофей.
– Во-вторых, ты бился с таким ожесточением, что недостаток мастерства остался незамеченным.
– Я намеревался пасть в бою, иначе проявил бы меньше первого и больше второго.
– В-третьих – неестественное состояние твоего члена сочли знаком строгого воздержания.
– Вынужденного!
– И заключили, что ты сам себя укоротил.
– Ха! Всё было совсем не так…
– Стоп! – Мойше закрылся двумя руками.
– Я забыл, что ты всё слышал.
– В-четвёртых: у тебя на руке выжжена арабская цифра «7».
– Я тебе скажу, что это буква V и означает «вагабонд».
– Сбоку похожа на семёрку.
– И почему это делает из меня янычара?
– Когда новобранец принимает присягу и становится ёни-ёлдаш – это низший чин, – у него на руке выжигают номер казармы, чтобы знать, к какой сеффаре он принадлежит и какой баш-ёлдаш за него отвечает.
– Ясно. Сочли, что я из седьмой казармы некоего османского гарнизона.
– Совершенно верно. А поскольку ты был явно не в себе и никуда, кроме как на галеры, не годился, тебя решили оставить тутсаком, невольником, пока не умрёшь или не придёшь в рассудок. В первом случае тебя бы похоронили как янычара.
– А во втором?
– Это ещё предстоит узнать. Тогда мы считали, что имеет место первый случай. Поэтому мы отправились за городскую стену на кладбище оджака.
– Можно ещё разок?
– Оджак, или, по-нашему, очаг – турецкий янычарский орден, созданный по подобию мальтийского.
– Вот этот малый, который идёт, чтобы огреть нас «бычьим хером», принадлежит к очагу?
– Нет. Он служит у корсара, владельца нашей галеры. Корсары – ещё одно совершенно отдельное и сложное сообщество.
После того, как турок несколько раз вытянул Мойше и Джека «бычьим хером» и отправился вразумлять других невольников, Джек попросил Мойше продолжить рассказ.
– Мы с ходжой-эл-пенджиком отправились на кладбище. Мрачное это место, Джек: бесчисленные гробницы, по большей части в форме перевёрнутых скорлупок, призванные напоминать становища юрт в Трансоксианской степи – прародине, по которой до сих пор тоскуют все турки, хотя, если она и впрямь так выглядит, я их не понимаю. Тем не менее мы час бродили среди каменных юрт, ища твоё тело, и уже собирались поворачивать вспять, когда услышали глухой голос, выкликающий какие-то не то заклятия, не то пророчества на неведомом языке. Так вот, ходжа-эл-пенджик и без того был на взводе – бесконечная прогулка по кладбищу навела его на мысли о демонах, ифритах и прочей нечисти. Когда он услышал твой голос, несущийся, как мы скоро поняли, из мавзолея убиенного аги, он едва не припустил к городским воротам. Однако под рукой был не просто невольник, а и еврей в придачу, поэтому меня отправили в гробницу – посмотреть, что будет.
– И что же?
– Я нашёл тебя, Джек. Ты стоял в жутком, но восхитительно-прохладном склепе, молотил по крышке саркофага, в котором покоится ага, и повторял какие-то английские слова. Смысла их я не понял, но звучали они примерно так: «Эй, любезный, принеси-ка мне кружечку твоего лучшего портера!»
– Я точно был не в своём уме, – пробормотал Джек, – ибо в таком климате куда лучше светлое пльзеньское.
– Ты был по-прежнему шалый, но я заметил в тебе искру, какой не видел уже год или два – уж точно с тех самых пор, как нас продали в Алжир. Я подумал, что жар лихорадки вкупе с палящим солнцем, на котором ты пролежал несколько часов, выгнал французскую хворь из твоего тела. И впрямь с тех пор ты день ото дня становишься всё вменяемее.
– И как всё это воспринял ходжа-эл-пенджик?
– Ты вышел голый и красный от солнечных ожогов, как варёный рак, и тебя приняли за некую разновидность ифрита. Надо сказать, что турки страшно суеверны и особенно боятся евреев. Считается, будто мы обладаем некими оккультными способностями, и каббалисты в последнее время немало потрудились для укрепления этой веры. Тем не менее скоро всё прояснилось. Наш хозяин получил сто ударов по пяткам палкою толщиной с мой большой палец, а затем его раны полили уксусом.
– Н-да, я бы предпочёл «бычий хер»!
– Надеются, что через месяц-другой хозяин сможет стоять. А тем временем мы пережидаем равноденственные шторма и приводим в порядок нашу галеру, как ты и сам видишь.
По ходу рассказа Джек косился на других галерников и видел невероятное смешение рас. Здесь были негры, европейцы, евреи, индусы, азиаты и множество других, незнакомых ему народностей, однако никого из команды «Ран Господних».
– А что с Евгением и мистером Футом? Выражаясь поэтически: получено ли за них страховое вознаграждение?
– Они на левом весле. Евгений гребёт за двоих, мистер Фут не гребёт вовсе, поэтому в контексте хорошо управляемой галеры они практически неразделимы.
– Так они живы?
– Живы и здравствуют – ты увидишь их позже.
– Почему они не отскабливают ракушки вместе со всеми? – обиженно поинтересовался Джек.
– Зимними месяцами в Алжире, когда галеры не выходят в море, гребцам дозволяется – нет, горячо рекомендуется – заниматься отхожим промыслом. Хозяин получает долю от заработанного. Те, кто ничего не умеют, отскабливают ракушки.
Новость эта Джека не обрадовала, и он накинулся на ракушки с такой злостью, что едва не врубился в корпус галеры. Немедля последовал нагоняй – не от надсмотрщика-турка, а от приземистого рыжего невольника, работавшего рядом.
– Мне плевать, ты правда тронутый или только прикидываешься, но обшивку изволь беречь, не то нам всем крышка! – гаркнул тот на английском пополам с голландским.
Джек был на голову его выше и собрался уже воспользоваться своим преимуществом, но рассудил, что надсмотрщик, который лупит за простой разговор, вряд ли одобрит потасовку. Кроме того, за спиной у рыжего голландца стоял довольно крупный детина и поглядывал на Джека с той же брезгливой недоверчивостью. Детина смахивал на китайца, хотя не выглядел ни щуплым, ни забитым. И он, и голландец казались мучительно знакомыми.
– Эй, малый, потрави-ка немного! Ты не хозяин, не капитан. Что нам за дело до какой-то царапины – лишь бы на плаву держалась!
Голландец недоверчиво помотал головой и вернулся к ракушке, которую отсекал от галеры с тщательностью эскулапа, удаляющего мочевой камень эрцгерцогу.
– Спасибо, что не устроил сцену, – сказал Мойше. – Нам, на правом весле, важно поддерживать мир.
– Эти двое гребут вместе с нами?!
– Да, а пятый в городе, занят собственным промыслом.
– Так на кой нам хорошие с ними отношения?
– Помимо того, что мы восемь месяцев в году сидим на одной скамье?
– Да.
– Мы должны грести слаженно, чтобы сохранять паритет с левым веслом.
– А если мы не будем грести слаженно?
– Галера начнёт…
– Кружить на месте, понятно. А нам-то что?
– Помимо того, что нам спустят шкуру «бычьим хером»?
– Я так понимаю, это само собой.
– Гребцы подобраны друг к другу. Покуда мы гребём наравне с левым веслом, мы составляем комплект из десяти невольников. В таком качестве нас продали нынешнему хозяину. Однако если Евгений и его товарищи по скамье начнут грести сильнее, нас разделят – твои друзья окажутся на разных галерах, либо даже в разных городах.
– И поделом им.
– Извини, не понял.
– Нет, это ты меня извини, – сказал Джек, – но мы ишачим здесь, на этом вонючем берегу. Ладно я – чокнутый бродяга, но ты, судя по всему, образованный еврей, голландец – явно корабельный офицер, и бог его знает этого китайца…
– Вообще-то он японец, но воспитанный иезуитами.
– Отлично: всё к одному.
– К чему же?
– Чем Евгений и мистер Фут лучше?
– Они создали своего рода предприятие, в котором Евгений – рабочая сила, мистер Фут – руководство. Чем именно они занимаются, объяснить трудно. Позже сам увидишь. А пока важно, чтобы вся десятка оставалась вместе!
– За каким лешим тебе это надо?
– Просидев несколько лет на галерной скамье, я втайне составил план, который принесёт нам десятерым богатство и свободу, хотя не обязательно в такой последовательности, – сказал Мойше де ла Крус.
– Предусмотрен ли планом вооружённый мятеж? Поскольку…
Мойше закатил глаза.
– Я просто силюсь вообразить, какая роль может быть отведена мне в плане – если, разумеется, он составлен не сумасшедшим.
– Этот вопрос я до сегодняшнего дня сам частенько себе задавал. Признаюсь, в ранних версиях плана предполагалось как можно раньше выбросить тебя за борт. Однако сегодня, когда с трёхъярусных батарей Пеньона и грозных башен касбы прогремели полторы тысячи выстрелов, сдаётся, в твоей голове расчистились последние заторы, и ты окончательно пришёл в рассудок – или, во всяком случае, почти пришёл. Теперь, Джек, у тебя есть своя роль в плане.
– И мне её откроют?
– Ты будешь нашим янычаром.
– Я не…
– Погоди! Видишь того малого, который отскребает ракушки?
– Которого? Их тут добрая сотня.
– Высокий, похож на араба с примесью негритянской крови – то есть египтянина.
– Вижу.
– Это Ниязи с правого весла.
– Он – янычар?
– Нет, но довольно среди них прожил и покажет, как себя вести. Даппа – чёрный, вон там – научит тебя нескольким турецким словам. А Габриель – японский иезуит – отменный фехтовальщик. Он быстро тебя поднатаскает.
– А зачем по плану нужен лжеянычар?
– Вообще-то нужен настоящий, – вздохнул Мойше, – однако выбирать не приходится.
– Я так и не получил ответа на свой вопрос.
– Позже – когда соберёмся все вместе.
– Ты говоришь, как придворный, сладкими эвфемизмами. Что значит «соберёмся»? Когда нас прикуют за ошейники где-нибудь в тёмных подземельях касбы?
– Ощупай рукой шею, Джек, и скажи, носил ли ты в последнее время ошейник?
– Э… сдаётся, что нет.
– Скоро конец работы – мы пойдём в город и встретимся с остальными.
– Ха! Так-таки прямо и пойдём? Будто свободные?
Джек ещё некоторое время продолжал в том же ключе, однако через час с высоких башен, понатыканных по всему городу, послышались странные завывания, и в касбе выстрелила одна-единственная пушка. Тут же все невольники положили орудия и парами-тройками побрели к городу. Семеро участников плана задержались подождать голландца, ван Крюйка, который не хотел уходить, не доведя работу до конца.
Мойше приметил оброненный топорик, нахмурился, поднял его, очистил от мокрого песка и принялся стрелять глазами по сторонам, ища, куда бы его пристроить. При этом он в задумчивости подбрасывал топорик. Поскольку весь вес заключался в обухе, рукоять беспорядочно крутилась в воздухе. Тем не менее Мойше всякий раз ловко её ловил. Наконец взгляд его остановился на сухом бревне, вбитом в песок и подпиравшем корпус галеры. Мойше снова подкинул топорик раз, другой, потом резко отвёл его за голову, высунул язык, мгновение помедлил и метнул. Топорик один раз медленно повернулся в полёте и замер, вонзившись углом лезвия в сухое бревно.
Семеро галерников поднялись к подножию колоссальной стены и зашагали к городским воротам. Джек шёл вместе со всеми, невольно втягивая голову в ожидании удара бичом. Однако удара не последовало. Ближе к городу он расправил плечи и пошёл свободнее. Вся команда примкнула к нему и к Мойше: вспыльчивый голландец, японец-иезуит, негр с волосами, свитыми в упругие жгуты, египтянин по имени Ниязи и пожилой испанец, страдающий чем-то вроде нервного тика. Когда они проходили в ворота, он громко обратился к стоящим на страже янычарам. Джек понял не все испанские слова, хотя общий смысл разобрал: «Слушайте меня, нехристи поганые, содомиты вонючие, мы составили тайный заговор!» Джек не стал бы такого сейчас говорить, но Мойше и остальные только весело перемигнулись с янычарами и вошли в город: Притон разбойников, Осиное Гнездо, Бич Христианского мира, Цитадель Веры.
Главная, необычайно широкая улица Алжира была заполнена турками, которые сидели, скрестив ноги, и потягивали дым из огромных кальянов. Джек, Мойше и остальные шли по ней недолго. Мойше юркнул в стрельчатую арку, такую узкую, что в неё пришлось проходить боком, и устремился вперёд по открытому сверху каменному коридору немногим шире арки. Идти приходилось вереницей и вжиматься в стену всякий раз, как кто-нибудь шёл навстречу. Ощущение было такое, словно находишься в глубине древнего здания, только всякий раз, поднимая глаза, Джек видел щёлочку неба между глухими стенами, встающими ярдов на десять-двадцать. Террасы и садики на кровлях соединялись мостками и деревянными лестницами. Временами по ним с крыши на крышу порхали одетые в чёрное фигуры, тёмные и неуловимые, как летучие мыши, Разглядеть их толком не удавалось; Джек видел только, что все они одеты как Элиза под Веной, и по походке угадывал женщин.
Внизу, на улице – если допустимо назвать улицей столь узкий проход – женщин не было. Зато мужчины пестрели разнообразием. Отличить янычар не составляло труда. Среди них попадались греки и славяне, но преобладали раскосые азиаты. Наряд их (весьма роскошный) составляли широкие плиссированные шаровары, подпоясанные кушаком, за который были заткнуты всевозможные пистоли, кинжалы и ятаганы; здесь же болтались кошели, кисеты, трубки и даже часы. Сверху – свободная рубаха и несколько жилетов, каждый – выставка галуна, золотых булавок, богатой вышивки. На голове – тюрбан, на ногах – остроносые туфли, иногда поверх всего – длинная епанча. Однако преобладали мавры или берберы, жившие здесь до того, как пришли со своими порядками турки. На этих были широкие хламиды или просто длинные куски материи, обёрнутые вокруг тела и удерживаемые хитроумными кушаками или булавками. Изредка попадались евреи, всегда в чёрном, и считаные европейцы в том, что носили у себя на родине, пока не обасурманились.
Некоторые были в одежде того же фасона, что и юные франты, осаждавшие Элизу в амстердамской «Деве», но порою Джек замечал стариков в плоёном воротнике, испанской шляпе и с бородой клинышком.
– Тьфу ты, Господи! – вскричал Джек при виде одного из таких. – Почему мы – невольники, а вон тот старый хрыч, ковыляющий по лестнице, – уважаемый гражданин?
Вопрос привёл в недоумение всех, кроме негра со жгутами на голове, который только рассмеялся и покачал головой.
– Некоторые вопросы задавать очень опасно, – сказал он. – Знаю по опыту.