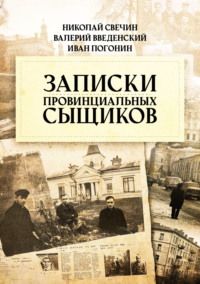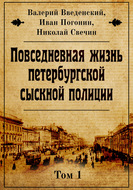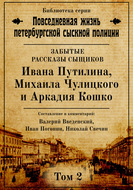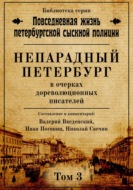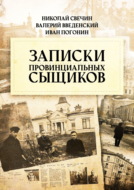Czytaj książkę: «Записки провинциальных сыщиков»
© Николай Свечин, 2025
© Валерий Введенский, 2025
© Иван Погонин, 2025
Предисловие
В конце 1866 года в Петербурге в порядке эксперимента было создано сыскное отделение – первое в стране полицейское подразделение, которое занималось исключительно раскрытием уголовных преступлений. О его действительности мы подробно рассказали в нашей книге «Повседневная жизнь Петербургской сыскной полиции».
Однако преступления совершались не только в столице, но и в остальных городах, а также и в сельской местности. И там и сям ловить преступников приходилось обычным полицейским, отвлекаясь при этом от других своих обязанностей. А их у них было немало – полиция Российской империи отвечала за чистоту улиц и дорог, контролировала техническое состояние зданий, отвечала за санитарию и гигиену, осуществляла регистрацию населения и т. п.
Подробно о структуре полиции Российской империи мы рассказываем во вступительной статье, из которой вы, дорогие читатели, и узнаете, кто такие исправники, урядники, становые и частные приставы – лица, служившие на этих должностях, как раз являются авторами этого сборника. На вверенной им территории они раскрывали преступления, а потом собственноручно писали об этом очерки. Не ждите от них запутанных историй а-ля Артур Конан Дойл – в реальной жизни придуманные этим замечательным автором хитроумные преступления почти не случаются. Но, как и Шерлоку Холмсу, авторам этого сборника для раскрытия преступлений требовались наблюдательность, знание психологии, смекалка, личное мужество и другие качества.
Источниками нам послужили:
• воспоминания исправника Виктора Петровича Селезнева;
• воспоминания начальника сыскного отделения в Ростове, помощника пристава Ивана Дмитриевича Склауни;
• очерки полицейских чиновников, опубликованные в 1909–1913 годах в журнале «Вестник полиции».
Из воспоминаний В. П. Селезнева взяты отдельные главы. Воспоминания И. Д. Склауни мы приводим полностью. А очерки из «Вестника полиции» прошли суровый отбор. Их было напечатано довольно много, хватит еще на том, а то и на два. Но далеко не все они повествуют о расследованиях – так, в произведениях самых плодовитых авторов «Вестника полиции» – Всеволода Попова и Эль-де-Ха – прежде всего описывались полицейские будни, тяготы и особенности службы. На наш взгляд, это малоинтересно современному читателю. Однако желающие ознакомиться с этими произведениями без труда найдут в библиотеках подшивки «Вестника полиции».
При выборе очерков мы пытались представить всю «палитру» тогдашних преступлений: грабежи (самое частое правонарушение), разнообразные мошенничества, противоправные действия фальшивомонетчиков, конокрадов, взломщиков, карманных воришек, насильников и т. п. Также мы стремились показать методы оперативной работы правоохранителей: опросы свидетелей, использование данных адресных столов и сведений от осведомителей из криминальной среды, внедрение в преступные группы «полицейских под прикрытием» и т. п.
Почти все авторы нашего сборника имели начальное образование (двух-, трех-, четырехлетний курс в городских училищах), поэтому литературных шедевров в сборнике не ищите, а некоторые очерки, увы, напоминают рапорт.
О каждом авторе (кроме тех, кто подписывался псевдонимом) мы попытались найти информацию в архивах, общероссийских и провинциальных адрес-календарях, а также в периодических изданиях того времени. Все обнаруженные нами сведения – в коротких заметках перед очерками каждого из авторов. Увы, как выяснилось, кое-кто из них практиковал незаконные задержания и истязания подозреваемых.
Полных сведений ни об одном из авторов мы не нашли, поэтому если вдруг вы, наши читатели, располагаете какими-то дополнительными сведениями или фотографиями, будем признательны, если свяжетесь с нами через почтовый ящик spbsp1866@mail.ru. Также просьба на этот адрес присылать замеченные вами ошибки, неточности, описки и опечатки. Ни одна книга от них не застрахована, что поделать…
Каждый очерк был «переведен» составителями с учетом современной орфографии, а длинные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, которые тогда были в моде, разбиты на более мелкие. Заново проведено деление на абзацы (журналы и газеты в целях экономии места зачастую печатали текст без деления на абзацы), выделена по современным правилам прямая речь и диалоги. При явном пропуске автором или наборщиком какого-нибудь слова оно добавлялось с выделением скобками.
Для нас, составителей, была очень важна изографическая информация – портреты полицейских и преступников, а также виды городов начала XX века, поэтому, несмотря на довольно низкое качество большинства изображений, мы включили их в книгу.
Кроме вступительной статьи, составители написали очерки о двух самых известных провинциальных преступниках дореволюционной России: Соньке Золотой Ручке и Филиппе Полуляхове, а в послесловии рассказали о сыщиках, чьи произведения либо не были написаны, либо по каким-то причинам в сборник не вошли.
Все даты до 1918 года указаны по старому стилю, после 1918 года – по новому.
Авторы благодарят:
– Светлану Дмитриевну Мангутову, кандидата педагогических наук, заведующую библиотекой Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных – за редактирование библиографических ссылок;
– Александра Борисовича Филиппова (Санкт-Петербург) – за редактирование изографических материалов;
– Игоря Валентиновича Сирица (Краснодар), кандидата юридических наук – за предоставление материалов;
– Юрия Геннадиевича Степанова, кандидата исторических наук, главного архивиста Государственного архива Саратовской области – за помощь в архивных поисках;
– Максима Анатольевича Васильченко (Москва), кандидата исторических наук, доцента кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин МФПУ «Синергия» – за помощь в архивных поисках;
– Алексея Михайловича Буякова (Владивосток), председателя Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, историка спецслужб – за предоставление материалов;
– Никиту Валерьевича Иванова (Санкт-Петербург) – за помощь с редактурой текста;
– сотрудников Государственного архива Российской Федерации;
– сотрудников Российского государственного исторического архива;
– сотрудников Российской национальной библиотеки;
– сотрудников Российской государственной библиотеки.
Структура полиции Российской Империи
Городская полиция
До реформы 1862 года в каждом городе существовала своя, обособленная от уездной полиция, затем уездную и городскую полицию объединили. Отдельная городская полиция сохранилась только в губернских городах, городах, подведомственных градоначальствам1, и некоторых уездных и безуездных городах, посадах и местечках, список которых утверждался законодательно.
Штаты городских полиций были двух видов:
1. Законодательно установленные для конкретного города. Обычно законодательно утверждались штаты для городских полиций крупных городов, или городов, имеющих особое значение.
2. Так называемые «Нормальные штаты городских полицейских управлений», утвержденные еще в 1862 году. По этому штату все городские полицейские управления империи, не имеющие законодательно утвержденного штата, делились на три разряда.
Руководитель городской полиции назывался полицмейстером. Каждое полицейское управление имело канцелярию, которой руководил секретарь. В ее штат входили два столоначальника и регистратор.
Для канцелярий полицмейстеру выделялись средства, на которые он закупал писчебумажные принадлежности и нанимал необходимое ему количество писцов. На эти же средства содержались сторожа и рассыльные. Так как средств катастрофически не хватало, на наем сторожей и рассыльных зачастую не тратились, поручая выполнять их обязанности городовым.
Крупный город делился на несколько частей (или участков), которыми руководили частные (или участковые) приставы. В некоторых городах (обычно в тех, в которых существовали законодательно установленные до реформы 1862 года штаты) были только части, в некоторых (обычно в тех, где штаты либо не были законодательно установлены, либо были установлены после 1862 года) – только участки, в некоторых были и части, и участки2.
Приставу, так же как и полицмейстеру, полагалась определенная сумма на канцелярские расходы.
В некоторых городах, штаты полиций которых были утверждены законодательно, существовали должности околоточных надзирателей; наиболее близкий сегодняшний аналог – участковый инспектор.
Низшее звено городской полиции составляли городовые и полицейские служители.
В тех городах, в которых штаты полиции не были законодательно установлены, число городовых определялось по следующим правилам: «в городских поселениях, число жителей которых простирается до двух тысяч обоего пола, полагается не свыше пяти городовых, а в городских поселениях, в которых число жителей превышает две тысячи душ обоего пола, число городовых определяется по расчету, полагая не более одного городового на каждые четыреста душ населения»3. При этом каждый пятый городовой становился старшим, а остальные четверо – младшими. В городах, в которых штаты полиции были установлены в законодательном порядке, число городовых определялось этими штатами, однако если штатом было предусмотрено городовых меньше, чем по одному на каждые четыреста жителей, то количество городовых увеличивалось, исходя из этого расчета.
Некоторые функции полицейских выполняли дворники, которые были обязаны не только контролировать движение населения в своем доме (старшие дворники очень часто занимались пропиской и выпиской жильцов), но и смотреть за соблюдением общественного порядка, не пускать в дом и на двор посторонних подозрительных личностей, оказывать помощь городовым и другим чинам полиции в задержании правонарушителей и доставлении их в полицию.
Ночью городовым помогали сторожа. Обыватели каждой улицы были обязаны либо самостоятельно, в очередь, охранять покой своих соседей в ночное время, либо скидываться и нанимать для этого постороннего человека. Обычно все скидывались, но денег собирали так мало, что нанять могли только старого или малого. От такой сторожевой команды проку было мало. Разве что компанию городовому составить, чтобы он ночью не скучал.
Кроме вышеперечисленных должностей в состав некоторых городских полиций входили:
– сыскные отделения;
– речная полиция – в Нижнем Новгороде, Рыбинске и Санкт-Петербурге;
– конно-полицейская стража – в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Астрахани;
– Нижегородская ярмарочная полиция.
Уездная полиция
В отличие от городских полицейских управлений, штат уездных полиций всех губерний Российской империи, по общему учреждению управляемых, был утвержден законодательно и являлся одинаковым.
Главой полицейского управления в уезде являлся исправник. У каждого исправника был помощник. В уездном полицейском управлении полагались секретарь, два столоначальника и регистратор. Кроме этого, исправник на отпускаемые ему деньги нанимал писцов, рассыльных и сторожей.
Полицией непосредственно уездного города мог руководить либо полицейский надзиратель (если город был небольшим), либо городской пристав (в более крупных городах). У такого пристава даже мог быть помощник. Если уездный город был большим, но собственной полиции ему не полагалось, то в нем тоже могло быть несколько участков, или даже частей, каждой из которых заведовал полицейский надзиратель, или пристав. В таком городе могли быть и околоточные надзиратели.
Совсем маленькие города полицейских исполнительных чиновников не имели, если это был уездный город, то в нем полицией руководил помощник исправника, а если это заштатный городишко, то его под свою опеку брал становой пристав.
Кроме того, полицейские надзиратели с полицейской командой могли быть на железнодорожных станциях (они отвечали непосредственно за станционный поселок, линию отчуждения железной дороги обслуживали жандармы), на заводах, в шахтах, рудниках, в крупных селах и поселках.
Естественно, что в населенных пунктах, в которых имелись исполнительные чиновники полиции, были и городовые (по приведенным в разделе «Городская полиция» нормам).
Уезд делился на несколько станов, во главе каждого из которых стоял становой пристав. На отпускаемые ему 300 рублей в год он должен был нанимать письмоводителя и содержать канцелярию. До 1903 года становому приставу подчинялись урядники, сотские и десятские.
Должность урядника была учреждена в 1878 году. Это нижний чин уездной полиции, нынешний аналог сельских участковых. Существовали пешие и конные урядники.
Должность сотского и десятского была выборной, их выбирал сельский сход, сотского – от части стана, называемой сотней, десятских – от селений. Если сход не находил кандидата на вышеуказанную должность, то общество скидывалось и нанимало десятского или сотского, заключив с ними договор. Десятские подчинялись сотским, а те – уряднику и становому. В их обязанности входило поддержание общественного порядка, оказание помощи в розыске и задержании подозреваемых в правонарушениях, охрана арестованных при становой квартире, их конвоирование, работа рассыльных. На практике сотские и десятские становились бесплатными слугами станового пристава, особенно это касалось тех, кто проживал в том населенном пункте, где была квартира станового.
В 1903 году в губерниях, по общему учреждению управляемых, была введена уездная полицейская стража. Должность полицейского урядника в этих губерниях была ликвидирована, взамен была введена должность урядника полицейской стражи. Количество урядников увеличилось, и урядник стал полагаться в каждой волости, ему подчинялись стражники.
После учреждения уездной полицейской стражи должности сотских упразднили, а десятских вывели из подчинения становых и урядников, подчинив их непосредственно крестьянскому самоуправлению – сельским старостам и волостным старшинам. В уезде полагалось иметь одного стражника на 2500 человек населения. Задумка была хорошая: вместо выбираемого или нанимаемого миром безоружного крестьянина в помощь уряднику поступали несколько строевых нижних чинов, надлежащим образом вооруженных и экипированных. Но в 1905 году началась революция, власть свела стражников в отряды, которые дислоцировались в уездном городе или в распоряжении станового пристава. Урядник в селе остался один на один с преступниками. Стражники в уездных городах изнывали от безделья, а урядник не знал, за какое дело хвататься. Такое положение просуществовало до 1913 года до реформы В. Ф. Джунковского4, который большую часть стражников из уездного города перевел «на землю», в подчинение урядников.
С этого времени уездная стража имела следующую структуру: часть (до 25 %) составляла конные команды, которые находились в уездном городе и при становой квартире, а оставшаяся часть стражи распределялась по уезду: в подчинении каждого урядника находились несколько стражников.
Стража имела двойное подчинение: по всем полицейским вопросам уездная полицейская стража подчинялась исправнику, становым и полицейским надзирателям, стражники еще и урядникам. Общее руководство вооружением, конским снаряжением и строевым обучением всей стражи в губернии осуществлял начальник ГЖУ, непосредственное – его помощник и адъютант, а при «недостатке в губернии чинов ОКЖ» – специально назначаемые офицеры этой стражи. На практике такие офицеры были в каждой губернии. Их полагалось по одному на каждых 300 пеших или 150 конных стражников, т. е. один офицер полагался на несколько уездов.
Эти офицеры, получая неплохое содержание, непосредственным руководством стражников занимались плохо, так как свои должностные обязанности были вынуждены исполнять периодически, наездами, перемещаясь по уездам, от команды к команде. Многие из них, понимая, что из-за больших территорий, которые следовало объезжать, спрос с них будет невелик, вообще от исполнения своих обязанностей отлынивали.
Непосредственно на месте стражниками должны были руководить унтер-офицеры отдельного корпуса жандармов. Но так как их тоже не хватало, то практически повсеместно одного из стражников в команде делали старшим, он-то и осуществлял ежедневное руководство командой, получая за это дополнительно до 100 рублей в год.
Землевладельцы, фабриканты, общественные учреждения и частные общества могли приносить ходатайства об учреждении на их средства дополнительных должностей исполнительных чиновников, урядников, команд конной или пешей полицейской стражи. Такие ходатайства рассматривал: от землевладельцев об охране их имений – губернатор (закон принимался во время революции, нужна была оперативность в принятии решений), от иных лиц – министр внутренних дел.
Пик таких ходатайств пришелся на революционные 1905–1908 годы. В некоторых губерниях по таким ходатайствам даже были учреждены полицейские должности, не предусмотренные законом, – помощники становых приставов.
Неизвестный автор
Окурок выдал (из воспоминаний станового)5
Крестьянин Новоторов, мужчина лет 47–50, будучи на базаре в селе на расстоянии от места своего жительства 18 верст, в этот день и затем на другой не вернулся домой, вследствие чего жена его заявила об этом.
За отсутствием моим из стана за 75 верст, урядник, узнавши, что Новоторов пьянствовал в трактире с какими-то женщинами, а вечером уехал по направлению к своей деревне. Разыскивая пропавшего и предполагая, не находится ли он где-либо в деревенских шинках, урядник вместе с женой его с дороги увидал привязанную к луговой изгороди на расстоянии от села в 2 верстах и от дороги в 300 саженях лошадь, запряженную в сани. Подойдя к ней, жена Новоторова признала ее за свою. При дальнейших розысках по кочкарным лугам, изредка покрытым мелким можжевельником и соснами, урядник нашел и самого Новоторова с явными признаками насильственной смерти и ограбления, о чем за отсутствием моим он тотчас же доложил только что прибывшему в мой стан молодому судебному следователю из кандидатов N-ского окружного суда.
Следователь, обыскав окружающую местность, где находился труп, взял с собой рычаг, на котором оказались следы крови и волосы, произвел вскрытие трупа, причем на теле покойного оказалось 18 колотых ран, кроме раздробления черепа, а в горле трупа оказался обломок клинка ножа длиной около 1 вершка и шириною 1/2 вершка. Я по случаю распутицы, дальнего расстояния и массы разных поручений пробыл в стане после убийства двое суток и уже на третьи приехал ввиду посланного за мной нарочного. Придя к следователю, я нашел его взволнованным ввиду того, что не удавалось открыть виновных. Урядник же доложил мне, что день убийства был базарный, что найти виновных трудно и что он задержал тех проституток, которые с Новоторовым гуляли.
Вообще все поиски, как следователя, так и урядника, ни к каким благоприятным результатам не привели, и мне даже пришлось тотчас же разочаровать урядника освобождением из-под стражи проституток, так как было установлено, что они с Новоторовым пили два часа, а затем он уехал из трактира один, уже сильно выпивши. Они же оставались до закрытия трактира с другими любителями женского пола.
Также пришлось установить, что в трактире в момент отъезда Новоторова около восьми часов вечера народу оставалось очень мало, и вслед за ним никто не выходил. Я прежде всего счел необходимым осмотреть место преступления, на что следователь заметил, что осмотр местности бесполезен, так как время теплое, все следы сапог и т. п. растаяли, и что около трупа нет ничего такого, что могло служить для пользы дела, и что лучше поездить по ближайшим селениям.
Но я все-таки, идя от следователя и надевши охотничьи сапоги, пригласил с собой двух своих знакомых и пошел осматривать то место, где был убит Новоторов.
Местность эта волнообразная, кочкарная, луга покрыты мелким лесом. В одной из мелких балок по указанию урядника и найдены были следы преступления – взрытый снег и вообще следы борьбы. Около того места, где лежал труп, я нашел несколько мундштуков от папирос, из коих два обратили на себя мое внимание. Они были фабрики «Бостанджогло», и на них ясно были [видны] пятна кровяных пальцев. Другие были вдвое толще первых, без всякой надписи – эти, как мне известно, курил лишь местный врач, третьи – фабрики «Персичан», каковые курил всегда мой урядник и, наконец, известные крученые из бумаги «ножки». Будучи затем уверен, что убийца, как бы он ни был неопытен, не возьмет с собой поломанного ножа, я стал искать его по лугам на более отдаленном расстоянии, и розыски мои увенчались успехом. Саженях в 70–90, теперь уже точно не помню, в моховом болоте на ледяном дне, покрытом сверху на две четверти водой, я увидел складной нож с черной ручкой с остатком клинка. Нож был складной с деревянной ручкой, в конце которой было ввернуто медное колечко.

Рис. 1. Коробка от папирос «Пахарь» фабрики М.И. Бостанджогло.
Радости следователя не было конца, когда находившийся у него кончик клинка, найденный им при вскрытии в горле убитого, с точностью пришелся к остатку его в черенке. Следователь просил меня тотчас же принять меры к обнаружению владельца этого ножа, но я, прежде этого, под видом покупки себе папирос, обошел все лавки, спрашивая папиросы только фабрики «Бостанджогло», которые все простолюдины уже бросили курить, предпочитая «Персичан», но ни в одной лавке и трактирах таковых не оказалось, и все лавочники усердно предлагали мне «Персичан», «Даферм», «Богданов» и т. п., уверяя, что папирос «Бостанджогло» давно уже они не держат.
Один из числа многих лавочников, кстати сказать, мой товарищ по охоте, у которого я засиделся долго сравнительно с другими, разговаривая о предстоящей весенней охоте, сначала не поверил, что я ищу папиросы-дешевки для себя, а потом сказал, что уж если я так хочу именно этой дряни, то, чтобы послал в деревню Уколово в трактир, содержатель которого в прошлый базар скупил у него всю эту заваль. Я тотчас же туда отправился, застав в трактире не самого хозяина, мне, конечно, известного, а сына его, 20-летнего парня, оказавшегося страшно дерзким и нахальным, только что вернувшимся из губернского города, где служил кем-то вроде «вышибалы».
Лицо его и глаза ясно показывали: «что мы-де дело имели с чинами повыше вас». Оставив понятых около трактира и взяв с собой только своего рассыльного вместо ямщика, я потребовал от сидельца его свидетельство на право торговли или доверенности, но он вместо ответа наговорил мне дерзостей. На сделанное мной ему надлежащее внушение прибежала из соседней комнаты его мать и, узнавши меня, привела сына к должному повиновению, и парень стал хоть куда. Зная, что содержатель трактира не сознается, что он покупал, а тем более продавал папиросы, не имея на это узаконенного свидетельства, я побоялся приступить прямо к делу и, спросив себе пива, сказал, что еду в соседнее село, и страшно захотел пить, а затем начал ругать своего рассыльного, что он забыл взять мою дорожную сумку с пищей, а главное, с папиросами; на это любезная хозяйка предложила мне какой-то вяленой рыбы, а что папирос она бы и дала, да не держат они их, так как патент стоит пять рублей, а местные крестьяне-раскольники не курят, курят только проезжие, а потому расчету [заниматься продажей папирос] нет. Вскоре пришел и сам хозяин и, узнав, в чем дело, сказал:
– Да вот я на базаре купил немного папирос для себя и дорогих гостей, так, пожалуй, угощу и вас. – И принес откуда-то из сеней две пачки ржавых6 папирос именно фабрики «Бостанджогло».
Выкурив штуки две, я спросил хозяина:
– Где вы купили такую редкость?
И получил ответ, что в прошлый базар в селе. Угостив хозяина пивцом, я сказал ему, чтобы он не стеснялся продавать папиросы кому угодно и что я даю слово не преследовать за это, вынудив этим хозяина сказать мне, что он по усиленной просьбе продал за четыре-пять дней не более пяти пачек и в том числе две приходившему к нему вечером в понедельник в 10 часу какому-то молодому простолюдину из деревни Огибной.
При дальнейшей беседе мне удалось узнать, что этот парень покупал у него водки и на закуску воблу, которую разрезал на стойке складным ножом с черным черенком. При этом он выносил к трактиру два стакана водки какому-то пассажиру, которого будто бы вез на своей лошади до деревни Огибной. Объяснив затем доброму хозяину цель своего прихода, я, составив коротенький протокольчик, прямо из трактира поехал в деревню Огибную, где и дознал, что на базаре из числа молодых простолюдинов, описанных трактирщиком, приметен был только Федор Серов, но лошади своей у него нет.
Придя в дом Серова, я застал его молодую бабенку, которая при виде меня побледнела и при [всем своем] желании встать не могла. Федора дома не оказалось. По объяснениям жены и соседей, он ушел в соседнюю деревню в гости к зятю. На [мой] вопрос, где та одежда и белье, в которых был Серов в прошлый понедельник на базаре, жена его, едва двигаясь, подала мне только что плохо вымытую белую ситцевую рубашку, на подоле которой оказались едва заметные ржавого цвета пятна. Штанов не дала, говоря, что не знает, куда муж девал их. Штаны были [мной] найдены в овинной яме; на них оказалось много кровяных пятен, и они почему-то были изорваны.
Пока я писал протокол, рассыльного своего вместе с местным урядником послал задержать Серова и привести прямо в мою канцелярию, а сам стал производить дознание о поведении и образе жизни Серова, а также имел ли у себя он нож, какой именно и т. д.
Большинство крестьян показали, что Серов поведения хорошего, хозяйством правит хорошо, пьет очень редко и никогда не судился, и что нож он иногда брал с собой в лес на заработки, похожий с тем, который я нашел. После этого я уже убедился, что убийца не кто другой, как Серов.
Когда я приехал домой, ко мне минут через 5–10 привели Серова. На первые мои вопросы он отвечал уклончиво, ни в чем не признаваясь. Когда же я показал ему внезапно нож и сказал, что вот [то], чем ты резал Новоторова, Серов затрясся и упал. Придя в себя, рассказал следующее. В базарный день в трактире он увидал сидевшего в отдельной комнате Новоторова, который, будучи выпивши, целовался с какой-то бабой, [и] заметил ему: «Смотри, старик, эти бабы тебя оберут». На это Новоторов ответил, что у него денег много, всех не вытащат. Напившись затем в трактире чаю и выпивши водки, Серов задумал взять у Новоторова деньги, но мысли об убийстве не было. Выйдя на улицу, он долго поджидал Новоторова, предполагая в темноте вынуть у него деньги. Новоторов вышел часа через полтора-два и направился на постоялый двор, где была его лошадь, но на улице Серов не решился его ограбить и пошел дорогой, ведущей к деревне, где жил он, и сел к нему в сани. Новоторов обрадовался соседу и просил править его лошадью. Таким образом, они доехали до деревни Уколово, где он заходил в трактир, купил водки и папирос, а Новоторов лежал в санях. После этого он, пользуясь темнотой, поворотил лошадь назад не по направлению к деревне Новоторова, а обратно через село в луга.
Новоторов протестовал, но так как Серов кричал на лошадь очень шибко, то пьяной воркотни Новоторова никто не слышал. Доехав до лугов, Серов начал обшаривать свою жертву, и, когда полез в карман штанов изнутри, Новоторов как бы вдруг отрезвел и стал упорно сопротивляться, причем показал преимущество своей физической силы. Тогда Серов, направляя одной рукой лошадь вглубь болота, другой вынул из кармана полушубка нож, [и] нанес им Новоторову нескольку ударов по лицу и, когда лошадь стала у изгороди, оборвал все пуговицы на его полушубке, и нанес ему [еще] несколько ударов ножом в грудь и живот, но Новоторов все еще сопротивлялся. Последний удар ножом он сделал ему в горло, где нож и изломался. Тогда он бросил его около трупа, а сам, выломав жердь, осколком добил Новоторова по голове, вынул деньги – 21 рубль, покурил, нашел нож, пошел к болоту, бросил его в сторону и, вымыв руки и полушубок, отправился по направлению к дому.
Весь добытый мною материал я передал следователю. Убийца был приговорен к восьмилетней каторге.