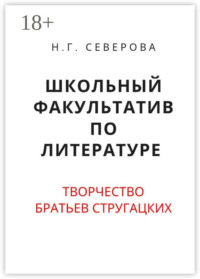Czytaj książkę: «Школьный факультатив по литературе. Творчество братьев Стругацких», strona 4
Глава 6. Планеты «незрелых душ»
В 1962 году выйдет в свет повесть, которая начнет череду произведений, обнажающих проблему-причину извечных человеческих незадач, беду, кочующую в жизненном пространстве людей из десятилетия в десятилетие, беду, изменяющую свою форму, но не меняющую своей сущности.
В 1962 году выйдет в свет повесть «Попытка к бегству».
И здесь уже будет преодолеваться не столько пространство (как это было в начальных произведениях соавторов), сколько время, точнее, стереотипы восприятия мира человеком будущего: разум героя вдруг подметит, что его светлая душа, оказывается, способна на непривычное чувство ненависти.
И обычному человеку, пусть даже это человек будущего, придется осознать себя героем, от которого зависят судьбы цивилизаций.
Так начнется в «Попытке к бегству», будет подхвачена в повести «Трудно быть богом» (1964) и продолжена в «Обитаемом острове» (1969), «Жуке в муравейнике» (1979), «Волнах гасят ветер» (1985) линия трагического преодоления – линия прогрессорства, показывающая мир в его мучительной для отдельной человеческой души и судьбы сложности.
Обратимся к самому началу этого пути, к произведениям 1960-х годов, в которых оттачиваются представления авторов о том, что есть пространство беды и каковы причины возникновения такого пространства.
Повесть «Попытка к бегству» начинается звенящим наслаждением жизнью.
Контрастным по отношению к этому мотиву любви ко всему сущему станет последующее повествование, наполненное чувствами ненависти и бессилия, ощущением беды.
Второй мотив, открывающий «Попытку к бегству», мотив «живых механизмов», намертво связан с чувством жалости; старый сосед главных героев повести не может смириться с тем, что в современных вертолетах используются биоэлементы:
«Кому это надо? Живые механизмы… Полуживые механизмы… Почти неживые механизмы… <…> Бедная испорченная машина превращается в сплошной больной зуб! Может быть, я слишком старомоден? Мне ее жалко, ты понимаешь?» [13;224—225]
Чуть позже, на планете Саула, уже люди будут обречены выступать в роли «живых», «полуживых», «почти неживых механизмов», заставляя Вадима развить тему, начатую стариком-соседом:
«– Это не люди. Люди не могут так. – Он вдруг поднял голову. – Это киберы! Люди только те, которые в шубах! А это киберы, безобразно похожие на людей!
Саул глубоко вздохнул.
– Вряд ли, Вадим, – сказал он. – Это люди, безобразно похожие на киберов» [13;297—298].
Так, начальные мотивы повести – первый, контрастируя с основной частью, второй, развиваясь и трансформируясь в ней, – подводят нас к основной теме «Попытки к бегству» – изображению пространства беды.
Настоящая беда проявится в повести при помощи сопоставления представлений о беде молодого героя из гуманного будущего (любовь как настоящая беда) с тем, что он видит на Сауле:
«Здесь было темное горе, тоска и совершенная безысходность, здесь ощущалось равнодушное отчаяние, когда никто ни на что не надеется, когда падающий знает, что его не поднимут, когда впереди нет абсолютно ничего, кроме смерти один на один с безучастной толпой» [13;280].
Чтобы ввести читателя в пространство беды, авторам необходим персонаж, подобный Вергилию в «Божественной комедии» Данте.
Таким героем станет Саул Репнин, сбежавший из времени фашистских концлагерей в будущее, а оттуда на безымянную до его высадки планету.
Именно «человек в беде» необходим Стругацким, чтобы разобраться в причинах возникновения пространства беды.
Прыжок героев в пространство беды будет подан контрастно.
На наших глазах произойдет резкая смена психологической атмосферы: атмосфера скоморошеского веселья, радостного предвкушения череды открытий на Сауле, при высадке сменится подавленностью, острым ощущением несчастья, но и это ощущение несчастья подается контрастно:
«Вокруг был снег. И сверху падал снег большими ленивыми хлопьями. „Корабль“ стоял среди однообразных круглых холмов, едва заметных на белой равнине. Под ногами из снега торчала короткая бледно-зеленая травка и много мелких голубых и красных цветов» [13;255].
Эффект «ушата холодной воды» возникает в финале этого фрагмента, когда на смену эпически-спокойному тону приходит намеренно краткое тревожное предложение:
«А в десяти шагах от люка, припорошенный снегом, лежал человек» [13;255].
В повести «Трудно быть богом» мы не совершим с главным героем первого шага по территории беды (Антон уже пять лет пребывает в роли Руматы Эсторского – великосветского льва Арканарского королевства).
Но в романе «Обитаемый остров» первый взгляд героя в пространство беды будет отмечен нами: опасливый взгляд в низкое, твердое небо, «без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров, – настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая» [14;13].
Даже небо в этом мире, непроницаемое, предельное, и напоминает человеку о ловушке, западне, капкане, невозможности вырваться.
Пространство беды характеризует звук: в «Попытке к бегству» на дне котлована, куда согнаны тысячи человек, несоответственно тихо; звуки же воплощают царящее здесь насилие (ворчание механизмов, разрывающих плоть заключенных, выкрики надсмотрщиков), нездоровье, аномальность происходящего:
«Время от времени кто-то где-то начинал хрипло, надсадно кашлять, задыхаясь и сипя, так что начинало першить в горле. Этот кашель немедленно подхватывали десятки глоток, и через несколько секунд котлован наполнялся трескучими сухими звуками. На некоторое время движение людей останавливалось, затем раздавались жалобные выкрики, резкие, как выстрелы, щелчки, и кашель прекращался…» [13;279]
Мысль о том, что пространство беды – это всегда больное пространство, подтверждает описание Арканарского королевства в «Трудно быть богом»:
«На сотни миль – от берегов Пролива и до сайвы Икающего леса – простиралась эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая оврагами, затопляемая болотами, пораженная лихорадками, морами и зловонным насморком» [15;32].
И, конечно же, больное пространство будет заявлять о себе при помощи цвета.
Во всех трех произведениях, о которых мы ведем речь, доминирует серый цвет, но использование его авторами различно: серый цвет в «Попытке к бегству» – прежде всего знак принадлежности к отверженным («На дне котлована на грязном растоптанном снегу среди десятков разнообразных машин копошились, сидели и даже лежали, бродили и перебегали люди, босые люди в длинных серых рубахах» [13;279]).
В «Трудно быть богом» серый цвет тоже обозначает неблагополучие, но уже характеризует тупые души обывателей и философию палачей фашистского толка («серое слово», «серое дело»), закономерно трансформируясь по ходу повествования в черный цвет («Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные» [15;166]).
В романе «Обитаемый остров» серый цвет одновременно характеризует и враждебное человеку пространство (» <…> все было серое, пыльное, плоское» [14;14]), и человека – жертву этого пространства:
«Несколько секунд они смотрели друг на друга, и Максим ощущал, как уныние, исходящее от этого лица, затопляет дом, захлестывает лес, и всю планету, и весь окружающий мир, и все вокруг стало серым, унылым и плачевным, все уже было, и было много раз, и еще много раз будет, и не предвидится никакого спасения от этой серой, унылой, плачевной скуки» [14;25].
Пространство, имеющее такие признаки, неминуемо выводит читателя на исторические переклички: если в «Попытке к бегству» и «Трудно быть богом» воинствующее зло, беспредельная подлость «высверкивают» феодальным мороком или фашистской забубенностью, то в «Обитаемом острове» действуют уже не пики, удавки и арбалеты; атомные удары той или иной степени сложности поделили планету на пространство меньшей или большей беды.
Так, Гай Гаал, думая о людях южных районов, родившихся после целенаправленного взрыва трех атомных бомб, сам, выросший на зараженной территории, отмечает:
«Это был жалкий народ – мутанты, дикие южные выродки, про которых плели разную чушь, и сам он плел разную чушь, – тихие, болезненные, изуродованные карикатуры на людей» [14;249].
В душном мире Саракши много злости, «очень много страха, очень много раздражения… Они все здесь раздражены и подавлены, то раздражены, то подавлены» [14;42].
Отторжение, неприятие людей друг другом в буквальном смысле пространственно материализуется:
«Рыхлая тетка у буфета произнесла длинную ворчливую фразу и скрылась за своим барьером. Они здесь обожают барьеры, подумал Максим. Везде у них барьеры. Как будто все у них здесь под высоким напряжением…» [14;60]
Но не только человеческий мир «обитаемого острова» обманывает ожидания Максима Каммерера (поначалу он надеется найти на этой планете цивилизацию – «мощную, древнюю, мудрую»), не оправдает его надежд и мир природный.
Лес в «Обитаемом острове» сопоставим с лесом в «Улитке на склоне» (1968) своей чрезмерностью.
Но в «Улитке на склоне» мы находим чрезмерность витальную, биологическую (масштабность объемов, разнообразие форм), в «Обитаемом острове» лес – пространство, чрезмерно нашпигованное военной техникой:
«Здесь шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на железо: на мертвое, проржавевшее насквозь железо, готовое во всякую минуту убить; на тайно шевелящееся, цепляющееся железо; на движущееся железо, слепо и бестолково распахивающее остатки дорог» [14;204].
И слабая надежда на волшебный предмет-помощник, с помощью которого можно вылечить это больное пространство («Если бы мы нашли Крепость, тогда бы, друг мой, все стало бы по-другому.» [14;214]), конечно же, не оправдается.
На протяжении всего романа подтверждается первоначальное наблюдение Максима Каммерера: « <…> планета-могильник, планета, на которой еле-еле теплилась разумная жизнь, и эта жизнь готова была окончательно погасить себя в любой момент» [14;90].
Объясняя, как «разумная жизнь» превратила свое жизненное пространство в пространство беды, авторы прибегают к классификации.
На «обитаемом острове» есть те, кого действующее через сеть башен излучение приводит в полное подчинение:
«Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее» [14;227].
И есть невосприимчивые к излучению «выродки», только они могут «воспринимать мир, как он есть, воздействовать на мир, изменять его, управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую Неизвестными Отцами. Все Неизвестные Отцы были выродками, но далеко не все выродки были Неизвестными Отцами» [14;228].
Такая «разумная жизнь», помимо армии и гвардии, оберегает себя при помощи теле-радио-змеиного гнезда, набитого «отборнейшей дрянью, специально, заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достанет гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен» [14;357].
Поначалу кажется, что причиной неблагополучия пространства являются его символы преуспеяния: люди в мехах («Попытка к бегству»), дон Рэба («Трудно быть богом»), Неизвестные Отцы («Обитаемый остров»), потому что только палачи в этом тюремно-эшафотном пространстве обладают свободой.
Разумеется, это свобода уничтожать:
«Наши копья остры и зазубрены, и при обратном движении они извлекают из врага внутренности» [13;332]. («Попытка к бегству»);
«Он [дон Рэба – Н. С.] упразднил министерства, ведающие образованием и благосостоянием, учредил министерство охраны короны, снял с правительственных постов родовую аристократию и немногих ученых, окончательно развалил экономику, написал трактат „О скотской сущности земледельца“ и, наконец, год назад организовал „охранную гвардию“ – „Серые роты“. <…> Но он продолжал крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, выкручивался, словно старался обмануть самого себя, словно не знал ничего, кроме параноической задачи – истребить культуру» [15;92]. («Трудно быть богом»);
«<…> они [Неизвестные Отцы – Н.С.] могли бы заставить миллионы убивать друг друга во имя чего угодно; они могли бы, возникни у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийств… Они могли все» [14;228]. («Обитаемый остров»).
Есть нечто такое, что объединяет палачей, – циничная философия.
Согласно такой философии, человек – это не более, чем общественная собственность; каждый, начиная от ближнего твоего и заканчивая властями, имеет право на жизнь, сознание, душу человека, на его человеческий статус.
Точнее всего авторам удается передать это в «Попытке к бегству», в эпизоде, где Саул допрашивает стражника Хайру:
«– Сколько людей в хижинах?
– В хижинах нет людей.
Антон и Вадим переглянулись. Саул бесстрастно продолжал:
– Кто живет в хижинах?
– Преступники.
– А преступники не люди?
На лице Хайры изобразилось искреннее недоумение» [13;319].
Но не это самое страшное…
Человек, против которого направлена циничная философия, – неоднороден. Жертвы неоднородны.
Есть те, которые «желают странного», и есть болванки, заготовки, куклы.
Мотив «живых механизмов», людей, похожих на киберов, начатый в «Попытке к бегству», по-своему трансформируется в «Трудно быть богом» и «Обитаемом острове», сменив эмоциональную тональность на прямо противоположную:
«Двести тысяч человек! Было в них что-то общее для пришельца с Земли. Наверное, то, что все они почти без исключений были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека. Они были пассивны, жадны и невероятно, фантастически эгоистичны» [15;143]. («Трудно быть богом»);
«<…> унылая безнадежная страна, страна беспросветных рабов, страна обреченных, страна ходячих кукол…» («Обитаемый остров») [14;300].
Человек-кукла, человек-заготовка – причина, почва и попуститель зла.
Безнадежность сквозит в размышлениях Руматы о народе Арканара, о правилах стадности, «освященных веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тупице их тупиц» [15;91].
Эти рефлексии будут обострены самой жизнью – «черным переворотом» – приходом Святого Ордена к власти.
Именно в этот момент Румата находит причину, по которой неблагополучное пространство, словно бы само собой, превращается в пространство еще большей беды.
Причина – хладнокровие:
«Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность тех, кого режут. <…> Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы, тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей» [15;168—169].
Аналог и одновременно оппонент Руматы – Будах – по-своему продолжит тему хладнокровия в монологе о способности человека привыкать ко всему:
«<…> привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия…» [15;195]
В чем видится авторам причина хладнокровия, порождающего подлецов, доносчиков, убийц?
Причина, заставляющая этих людей подчиняться страху, – в их душах:
«Психологически почти все они были рабами – рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом – рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов» [15;143—144].
И вновь мысль Руматы получит развитие в монологе ученого Будаха о борьбе со злом:
«<…> и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя» [15;196].
Зная психологию раба, Саул («Попытка к бегству») предрекает, во что выльются замыслы молодых героев, вознамерившихся подарить средневековой планете коммунизм: либо герои из будущего превратятся в нянек при разжиревших бездельниках, либо найдется энергичный мерзавец, который подгребет себе под седалище все подаренное землянами изобилие, а самих землян вышибет вон с планеты.
К чему приводит циничная философия раба-хозяина и раба-слуги, постигнут Максим Каммерер и Гай Гаал, вглядываясь в фотографии, найденные на белой субмарине. Фотографии, доказывающие, какой синий, ослепительный, великолепный, снежный, веселый, смеющийся мир можно превратить в выгребную яму, если руководствоваться этой философией.
Действительно, человек – источник зла.
Но наряду с рабами-стражниками есть те, кто «желает странного» («Попытка к бегству»).
Наряду с рабами доном Рэбой и лавочниками есть Гур Сочинитель, Будах, Кира («Трудно быть богом»).
Наряду с рабами-«куклами» есть «выродки» («Обитаемый остров»).
«Желающим странного» в «Попытке к бегству» автоматически присваивается статус преступника.
В «Трудно быть богом» состав преступления книгочеев заключается в том, что они «умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ; <…> что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни не знающего красоты народа; <…> что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу…» [15;39—40]
Основная вина «желающего странного», с точки зрения раба, и основное достоинство «желающего странного», с точки зрения свободного человека, – это то, что он усомнился.
Два варианта видения судьбы «усомнившегося» в «поступательном ходе истории» предлагают Стругацкие.
В «Попытке к бегству» гимн-плач такому человеку поет Саул:
«И этого человека, конечно, боятся. Этому человеку тоже предстоит долгий путь. Его будут жечь на кострах, распинать, сажать за решетку, потом за колючую проволоку…» [13;324]; в пределах же повести «Трудно быть богом» авторы оптимистично утверждают, что сама история, время, будущее за тех, кто «желает странного»:
«Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать против исторической объективности, они могут только притормозить, но не остановить. Презирая и боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, чтобы удержаться. <…> Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне – от естественнонаучных исследований до способности восхищаться большой музыкой…» [15;144—145].
Воспевая книгочеев как «радость будущего», Стругацкие не могут не отметить, что «человек усомнившийся» – это человек, усомнившийся во всем, в том числе и в своих собственных силах, и в праве определять, что есть Зло, и что есть Добро.
Именно в этой связи рассматривается проблема пассивности тех, кто «желает странного».
Если есть свобода палача, то есть и свобода жертвы.
Свобода быть существом растоптанным.
На вопрос Руматы: «Почему вы отрываете смысл своей жизни – добывание знаний – от практических потребностей жизни – борьбы против зла?» [15;195], Будах, сам претерпевший гонения, отвечает не как практик, только что вызволенный из темницы, а как философ-теоретик: «Борьба со злом! Но что есть зло? Всякому вольно понимать это по-своему» [15;196].
Желание и умение размышлять, строить умозаключения, находить в мире гармонию играет с Будахом злую шутку, перекрывая его стремление к свободе.
Так, Будах с удовольствием характеризует социальную систему Арканарского королевства как «отточенный кристалл, вышедший из рук небесного ювелира», и даже если чем-то он не доволен в этом мире, то считает, что изменить высшие предначертания способны только высшие силы.
Антиподом Будаха, склоняющего голову перед высшими силами, становится «желающий же странного» бунтарь Арата.
Но и «мститель божьей милостью», чья биография построена по принципу описания увечий, полученных Аратой в борьбе с серым миром, ощущает, насколько ослабла его воля с появлением «бога» – Руматы:
«Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие…» [15;205]
Если в «Попытке к бегству» мы еще не находим изображения отдельных судеб «желающих странного», то в «Трудно быть богом» Стругацких уже интересуют характернейшие типы таких судеб.
Так, наряду с ученым (Будах) и воином (Арата) мы встретим в повести «ясную, чистую душу, не знающую ненависти, не приемлющую жестокость» – возлюбленную дона Руматы – Киру, самим своим существованием противостоящую Злу.
Фрагмент, посвященный Кире, вновь выписан в гимнически-плачевой манере, но уже по иной причине, чем фрагмент, посвященный судьбе «желающих странного», в «Попытке к бегству».
Киру характеризует любящий ее Румата, и если начало фрагмента пронизано восхищением любовника и одновременно человека будущего («Добрая, верная, самоотверженная, бескорыстная… Такие, как ты, рождались во все эпохи кровавой истории наших планет»), то финал фрагмента – это только отчаяние любящего сердца:
«Жертвы. Бесполезные жертвы. Гораздо более бесполезные, чем Гур Сочинитель или Галилей. Потому что такие, как ты, даже не борцы. Чтобы быть борцом, нужно уметь ненавидеть, а как раз этого вы не умеете» [15;214].
По-иному будут увидены авторами те, кто «желает странного», в «Обитаемом острове».
Столь важная для художественного мира Стругацких мысль о новом биологическом виде поможет освоению этой темы.
В выморочном пространстве романа смешной и одновременно жалкий старик, дядюшка Каан, проговаривает гипотезу, имеющую хождение в научных кругах:
«<…> выродки есть не что иное, как новый биологический вид, появившийся на лице Мира в результате радиоактивного облучения. <…> Выродки опасны не как социальное или политическое явление, выродки опасны биологически, ибо они борются не против какой-то одной народности, они борются против всех народов, национальностей и рас одновременно» [14;128].
Гипотеза, столь же полуанекдотичная, как и персонаж, ее излагающий, но в этом абсурдном, пронизанном фантасмагорическими связями мире порой оправдываются самые нелепые предположения.
В «Обитаемом острове» судьбы тех, кто «желает странного», выписаны с еще большим вниманием, чем в «Трудно быть богом»: вместо одного Араты-бойца в «Обитаемом острове» мы найдем целую череду борцов за справедливое общество, «где каждый волен думать и делать, что хочет и что может, <…>» [14;166].
Это – главный принцип их жизней, и он противопоставляет их тоталитарному режиму, заставляя уйти в борьбу целиком, лишая их всех чувств, кроме ненависти, и превращая их тем самым в живых мертвецов.
Гэл Кетшеф – человек, утративший все в жизни, перешагнувший все барьеры, не боящийся ничего: ни смерти, ни позора, – потому что он уже «все пережил. Он уже считает себя мертвым и опозоренным…» [14;112]
В пространстве беды превращение человека в живого мертвеца становится законом (вспомним «Попытку к бегству»: «Это люди, безобразно похожие на киберов»).
Но законом в «Обитаемом острове» становится и то, что «желающие странного» ведут себя не как жертвы: они судят и произносят приговоры своим палачам:
«Потом она [Орди Тадер – Н. С.] вдруг сказала спокойным низким голосом:
– Вы все – оболваненные болваны. Убийцы. Вы все умрете. <…> Вы все здесь сдохнете еще задолго до того, как мы сшибем ваши проклятые башни, и это хорошо, я молю бога, чтобы вы не пережили своих башен, а то ведь вы поумнеете, и тем, кто будет после, будет жалко убивать вас» [14;118—119].
«Странное», характеризующее выродков, в «Обитаемом острове» увидено авторами, прежде всего, как отступление от основного закона «душного пространства»: «Быть таким, как все».
Мысль о неистребимой людской потребности видеть личность как шаблон встречается уже в «Попытке к бегству»:
«Странности… Нет никаких странностей. Есть просто неровности. Внешние свидетельства непостижимой тектонической деятельности в глубинах человеческой натуры, где разум насмерть бьется с предрассудками, где будущее насмерть бьется с прошлым. А нам обязательно хочется, чтобы все вокруг были гладкие, такие, какими мы их выдумываем в меру нашей жиденькой фантазии… чтобы можно было описать их в элементарных функциях детских представлений: добрый дядя, жадный дядя, скучный дядя. Страшный дядя. Дурак» [13;241].
Человек, видимый как шаблон, лишенный индивидуального подхода, права на чувство собственного достоинства, превращается в часть толпы со всеми ее мерзостями.
Пытаясь накормить и одеть заключенных, герой – человек гуманного будущего, вступает в конфликт с концлагерником ХХ века – Саулом:
«– <…> Самых слабых мы накормим сразу же.
– Не делайте глупостей. Они увидят еду. Они увидят одежду. Они вас растопчут вместе с вашими мешками» [13;281].
Шаблонность, одинаковость, серость видится как главное зло и Гуром Сочинителем в «Трудно быть богом»:
«Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми» [15;134].
Искренняя забота о человеке, его жизни, душе, безопасности – вот что отличает будущее от настоящего и прошлого в «Попытке к бегству» (достаточно вспомнить изумление Вадима по поводу того, что он не видит поисковых партий, брошенных на спасение людей после катастрофы).
Милосердие будущего вступает в конфликт с цинизмом по отношению к отдельной человеческой жизни; драматично то, что циничную философию прошлого проговаривает Саул, чья судьба исковеркана этим цинизмом:
«– Лучше бы они пустили эту технику, чтобы искать разбежавшихся, – сказал Вадим.
– Ну, это вы зря, – возразил Саул. – В такой каше не до отдельных людей.
– Как это так – не до людей? Для кого же они город восстанавливают? Тем [погибшим – Н. С.] мальчикам город уже не нужен…
Саул пренебрежительно махнул рукой.
– Во время взрыва погибло, наверное, тысяч десять таких мальчиков. Жалко, конечно, да не до них.
Вадим взбеленился. Глайдер рыскнул в сторону.
– Вы, Саул, извините меня, но ваш уютный кабинет и занятия историей повлияли на вас странно. Вы рассуждаете, как я не знаю кто. Вы еще нам тут скажите, что цель оправдывает средства.
– А что же, – согласился Саул хладнокровно, – бывает, что и оправдывает» [13;271].
Цинизм Саула – это цинизм жертвы, порожденный ненавистью к своей жизни, поскольку жизнь эта рассматривается и организуется палачами как лагерный срок.
Это цинизм жертвы, понимающей, что человечество на всем протяжении своего существования пытается сделать вековечным законом циничное отношение к отдельному человеку.
Это цинизм, парадоксально переплетенный с ненавистью к такому пониманию вечности:
«– Я им внушу другие понятия о вечности, – сказал Саул и замолчал.
<…>
– Я не терплю ничего вечного, – неожиданно спокойно сказал он и выстрелил.
Первый удар пришелся по громадной черепахообразной машине. Панцирь вспыхнул и разлетелся, как яичная скорлупа, а платформа на одной гусенице завертелась на месте, сшибая и опрокидывая идущие за нею маленькие зеленые кары.
– Нельзя изменить законы истории… – сказал Саул.
<…>
– …но можно исправить некоторые исторические ошибки, – продолжал Саул, целясь» [13;338—339].
Так, на наших глазах осуществится первая попытка преобразования пространства беды и несправедливости.
Эту попытку предпримет человек, сам находящийся в беде, пытавшийся бежать из нее и посчитавший за подлость сдаться без борьбы.
Свою попытку «расстрелять циничную вечность» Саул оценит так: «Чепуху я сделал, <…>» [13;341].
В «Трудно быть богом» уже невмешательство героев приведет к тому, что пространство беды само собой преобразуется в пространство еще большей беды.
На очередной встрече с доном Кондором и доном Гугом Румата с бессильным сарказмом подводит итоги того, что произошло в Арканаре, благодаря их общему невмешательству: интрига Святого Ордена привела к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии:
«Последствия этого для Запроливья, а затем и для всей Империи я просто боюсь себе представить. Во всяком случае, вся двадцатилетняя работа в пределах Империи пошла насмарку. Под Святым Орденом не развернешься» [15;209].
Это взгляд со стороны на механизм наращивания зла.
В романе же «Обитаемый остров» механизм преобразования такого рода показан изнутри, и именно в тот момент, когда готовится качественный скачок (проект, схема переворота проигрывается в сознании одного из Неизвестных Отцов – государственного прокурора).
Прокурор – та сила, которая постаралась прибрать к рукам Каммерера, способного нарушить равновесие на Саракше.
И перед нами пройдет нескончаемая череда манипуляций, которые должен осуществить Максим для достижения цели: молниеносного броска от культа Неизвестных Отцов к культу одной личности.
Возможно ли излечение больного пространства?
Как гипотетический путь такого преобразования рассматривается насильственное исправление человеческой психики.
В драматичном фрагменте «Трудно быть богом», который условно можно назвать «Советы Богу», лекарь Будах дает советы дону Румате Эсторскому по исцелению Арканарского королевства, но все они оказываются несостоятельными; Румата доказывает это, обращаясь к закономерностям человеческой психики и истории человечества.
Тогда Будах предлагает еще одну возможность:
«Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни!
Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках…
– Я мог бы сделать и это, – сказал он. – Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с земли и создать на его месте новое?» [15;199]
Darmowy fragment się skończył.