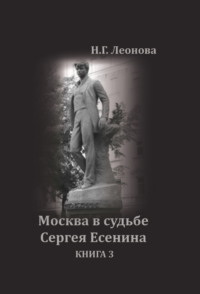Czytaj książkę: «Москва в судьбе Сергея Есенина. Книга 3»
Дарственные надписи С.А.Сергея Есенина цитируются по книге Н.Г.Юсова «С добротой и щедротами духа…». Литературно-издательская артель «Алексей Казаков со товарищи». Челябинское полиграфическое объединение «Книга». Челябинск, 1996.
Текст публикуется в авторской редакции

© Леонова Наталья,2025
От автора
Тяжко и горько мне…
Кровью поют уста…
Снеги, белые снеги —
Покров моей родины —
Рвут на части.
На кресте висит
Ее тело,
Голени дорог и холмов
Перебиты…
Волком воет от запада
Ветер…
1918
Ну, кто мог бы еще так сказать? Лишь Есенин. Есенин – душа России. Сегодня только простодушные или равнодушные люди принимают на веру версию самоубийства большого русского поэта Сергея Александровича Есенина, хотя тайна его страшного ухода до сих пор не разгадана. Есть категория читателей и даже почитателей поэта, предпочитающих не вникать в сложные жизненные обстоятельства покойного: мол, личность – это одно, а талант – другое. Пил, хулиганил, бил своих жен, но писал чудесные стихи, и пусть его тайны останутся тайнами…
Считаю такой подход к творчеству С. Есенина ошибочным. Если в течение столетия на известную личность возводится напраслина, то в этом нужно разбираться: изучать факты, сопоставлять, опровергать.
Наш современник, выдающийся композитор Георгий Свиридов, не раз обращавшийся в своем творчестве к поэзии Есенина и высоко ценивший его дар, писал: «Сергей Есенин – это колоссальная фигура в мировой поэзии, он был принижен ниже всякой меры сознательно. И мы с этим, к сожалению, смирились».
Задолго до Георгия Васильевича поэт есенинского круга Рюрик Ивнев утверждал:
«Есенина знают оболганным и урезанным<…>».
27 декабря 2025 года исполняется 100 лет со дня гибели Сергея Есенина. В течение ста лет в публикациях о поэте проскальзывают сомнительные характеристики: «алкоголик», «с ужасным психиатрическим диагнозом»… Последнее выражение из книги Ольги Кучкиной «Зинаида Райх» (неплохая в целом книга). Все несуразности, все загадки последних часов жизни поэта исследователи уверенно объясняют состоянием его психики.
Официальное есениноведение упорно не признает никаких, даже самых убедительных, доводов в пользу версии убийства. Остается надеяться на следы, оставленные в архивах, которые обещали открыть через сто лет… Валентина Пашинина в книге «Неизвестный Есенин» пишет: «Есенинская комиссия ищет документы о последних днях поэта. И, скорее всего, напрасно. Большевистские руководители научились не оставлять компрометирующие документы. Это было не в их интересах. Искать нужно не документы, а следы и мотивы, побудившие к насилию. Анализировать факты».
В том-то и дело, что особо никто ничего не ищет. Для официального есениноведения самоубийство поэта – дело доказанное окончательно. Есенинская группа Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН занята другими проектами. Успешно завершен фундаментальный труд «Летопись жизни и творчества С.А. Есенина» в 5 томах и 7 книгах, замечательное справочное издание. В разгаре работа над «Есенинской энциклопедией». Старший научный сотрудник ИМЛИ Максим Владимирович Скороходов отрапортовал журналистам о новом открытии Есенинской группы (хотя, по его словам, – «о Есенине известно очень многое»): «В этом году(2024) я опубликовал неизвестную ранее дарственную надпись Есенина издательскому работнику Иосифу Вениаминовичу Аксельроду – копию автографа прислал из США один из дальних родственников адресата». Да, Иосиф Вениаминович – известная личность – начинал свою трудовую деятельность уборщиком в Книжной лавке Есенина и Мариенгофа, потом перешел в типографию.
Тема гибели С. Есенина не обсуждается. Все фотографии по делу и документы хранятся в ИМЛИ. Почти все документы порченые. Все протоколы допросов с оборванными концами.
Подводя итоги деятельности Есенинского комитета Союза писателей по выявлению обстоятельств смерти С.А. Есенина (еще в XX веке), ныне покойный председатель комиссии Юрий Львович Прокушев констатировал: «Прямых, неопровержимых данных пока нет. Подчеркиваю: пока. Как нет их и в публикациях с версией об убийстве поэта» (Цитирую по «Летописи», т.5–2). В архиве ИМЛИ имеются документы, подтверждающие проживание поэта в 5-м номере гостиницы «Англетер» с 24 по 29 декабря 1925 года: счет на оплату проживания на общую сумму 27 руб. 06 коп. и за гостиничную простыню, утраченную при транспортировке тела поэта в морг, на сумму 6 руб. Копии этих документов представлены гл. редактору «Летописи» Наталье Игоревне Шубниковой-Гусевой племянницей поэта Светланой Петровной Есениной для публикации в «Летописи».
Поддерживая версию самоубийства, Есенинский комитет все-таки разумно оставил себе «лазеечку» на тот случай, если будет доказана версия убийства…
Почему-то принято считать, что все окружение С.А. Есенина безоговорочно приняло версию самоубийства. Это утверждение – одно из основных в копилке доказательств самоубийства – ошибочно.
На самом деле версии убийства были. Старожилы Ленинграда рассказывали, что 28 декабря у гостиницы, вход в которую охраняла конная милиция, собралась толпа. Шепотом произносилось слово «убийство». Во весь голос слово «убийство» не произносилось, но многие сомневались в версии самоубийства.
Василий Наседкин, который ездил с Софьей Толстой-Есениной в Ленинград и сопровождал гроб с телом поэта в Москву, сказал жене Кате, что Сергея убили. А вдова, уезжая в апреле 1926 года в Ленинград с целью сбора материалов для будущего Музея Сергея Есенина, зачем-то написала завещание в пользу своих ленинградских подруг И. Карнауховой и Е. Николаевой: в случае ее смерти все собранные материалы следовало передать подругам для продолжения начатого дела. Завещание датировано 11 апреля 1926 года. Что заставило молодую здоровую женщину, Софью Андреевну Толстую-Есенину, писать завещание?
А вот что цитируется в «Летописи», т. 5–2 —выдержка из газеты «Postimees». Tartu, 6 gaan, N5 (перевод С. Субботина): «<…> Судебному следователю Семеновскому, который был сторонником версии убийства, а не самоубийства, продолжение следствия запрещено, и на его место назначен другой следователь.
Из кругов близких усопшему писателю, сообщается, что Есенин в последнее время очень досаждал советским властям своими острыми сатирами на коммунистических заправил. Эти сатиры тайно размножались и ходили из рук в руки».
О том, что следствие изначально рассматривало версию убийства, в Ленинграде шептались многие. Но вскоре и следственные действия и слухи прекратились.
Валентина Пашинина, автор книги о Есенине, написала об изображении тела покойного работы художника Сварога, одним из первых оказавшегося в 5-м номере гостиницы:
«Этот рисунок, по моему глубокому убеждению, следует рассматривать как одну из главных улик, главный документ, составленный не подневольным участковым надзирателем, а художником. И этот документ опровергает ложь участкового».

Рисунок художника В. Сварога
«Записка, написанная кровью, – единственная, если так можно выразиться, улика самоубийства». А. Яковлев, режиссер. «Жертва вечерняя». Кстати, Есенинский комитет по выявлению обстоятельств смерти С.А. Есенина вопрос о группе крови поэта и ее соответствия группе крови, которой написана предсмертная записка, перед собой не ставил.
Взрослый сын Сергея Есенина Константин Сергеевич Есенин, вспоминая последнюю встречу с отцом, тоже, видимо, чувствовал странности версии самоубийства:
«Последний приход отца, как я уже сказал, состоялся за несколько дней до рокового 28 декабря. Этот день описан многими. Отец заходил к Анне Романовне Изрядновой, еще куда-то. Уезжал в Ленинград всерьез. Наверное, ехал жить и работать, а не умирать. Зачем иначе ему было возиться с огромнейшим, тяжеленным сундуком, набитым всем его скарбом. Эта деталь, по-моему, существенная.
Отчетливо помню его лицо, его жесты, его поведение в тот вечер. В них не было надрыва, грусти. В них была какая-то деловитость». Добавлю к сказанному: известно, что огромный сундук был набит яркими модными галстуками и обувью!
Духовный пастырь села Константиново, крестный Есенина отец Иоанн, до самой своей смерти отпевал крестника. Отпевала «самоубийцу» и истово верующая мать. А спустя годы говорила: «Сына убили, внука убили, зятя убили…»
Мать сына Сергея Александровича Есенина Александра – Надежда Вольпин, склонная верить в самоубийство поэта, все же отмечала: «Однако, никогда, даже вскользь, не бросал он слов о прямой готовности покончить с собой. Только в стихах Есенина, в давних его стихах, прозвучало это памятное:
И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
Сам же Есенин говорил Василию Наседкину, что поэту необходимо чаще думать о смерти и что, только помятуя о ней, поэт может особенно остро чувствовать жизнь.
Близкий приятель последних лет поэта – писатель Всеволод Иванов – удивлялся: «С. Есенин никогда не казался мне мрачным, обреченным. Это был человек, который пел грустные песни, но словно не его сочинения. Казалось, он много сделал и был доволен».
Считается, что находясь за границей в обществе Дункан, поэт только беспробудно пил и скандалил. На всех известных мероприятиях присутствовала Л.Е. Белозерская (Булгакова), жена журналиста Василевского. О пресловутом «алкоголизме» Есенина очень важно свидетельство беспристрастного человека. Любовь Евгеньевна видела Есенина в день его приезда в Берлин, видела в гостях у профессора Ю.В. Ключникова, видела за столом у А.Н. Толстого и Н. Крандиевской, приходил к ним Есенин с «неразлучным» А.Б. Кусиковым. Видела Есенина Любовь Евгеньевна и после возвращения поэта из Америки и написала: «Мне повезло – я ни разу не видела Есенина во хмелю».
Известны воспоминания Ивана Васильевича Евдокимова, технического редактора Собрания стихотворений С. Есенина, кочующие из сборника в сборник. В этих воспоминаниях Есенин часто предстает в подпитии. Словно невидимый режиссер следит, чтобы все воспоминания работали в едином ключе: освещали путь поэта к последней черте – самоубийству (без капли сомнений). А вот что Иван Васильевич записал в свой дневник, который находится в РГАЛИ (Сообщено С. Субботиным): «Пытаюсь объяснить смерть – почему этот земной счастливец, первый поэт нашей гигантской страны, общий любимец, красивый, прекрасный, заласканный женской и мужской любовью, с поднимающеюся все выше и выше славой, вдруг так внезапно кончает свою жизнь? Ведь было же внешнее полное земное счастье! Вскрытие дало нормальный мозг. Кончил с собой, будучи трезвым. И всего-навсего прожил 31 год. Пытаются объяснить смерть – и не могут, пишут жалкие слова».
Уж коль коснулись алкоголизма, вот еще воспоминания из 1925 года Лидии Белуччи-Гриневой, записанные москвоведом Ниной Молевой: «Была в Сергее Александровиче удивительная ловкость и непринужденность. Все, что он делал: подвинет за спинку венский стул, возьмет из рук чашку, откроет книгу (обязательно пересматривал все, что было в комнате), – получалось ладно.
Ладный он был и в том, как одевался, как носил любую одежду. Никогда одежда его не стесняла, между тем заметно было, что она ему не безразлична. И за модой он следил, насколько в те годы это получалось. Особенно запомнилось мне его дымчатое кепи. Надевал он его внимательно, мог лишний раз сдуть пылинку. Мне этот жест всегда потом вспоминался в связи со строкой: «Я иду долиной, на затылке кепи…»
Читали у нас свои произведения многие, читал и Сергей Есенин. От всех поэтов его отличала необычная сегодня, я бы сказала, артистическая манера чтения. Он не подчеркивал ритмической основы или мысли. Каждое его стихотворение было как зарисовка настроения. Никогда два раза он не читал одинаково. Он всегда раскрывался в чтении сегодняшний, сиюминутный, когда бы ни было написано стихотворение. Помню, после чтения «Черного человека» у меня вырвалось: «Страшно!» Все на меня оглянулись с укоризной, а Сергей Александрович помолчал и откликнулся как на собственные мысли: «Да, страшно». Он стоял и смотрел в окно». Это и есть портрет горького пьяницы?!
А как быть со свидетельством замечательного современного поэта Григория Калюжного, которому посчастливилось общаться с Натальей Михайловной Дитерихс, в замужестве Полуэктовой, дочерью генерала М.К. Дитерихса, двоюродной сестрой Софьи Андреевны Толстой-Есениной?
Григорий Петрович пишет: «Готов выступить как свидетель, если будет наконец открыто уголовное дело по факту гибели Сергея Есенина в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, на которые так и не обратили внимание советские есениноведы во главе с Ю.Л. Прокушевым.
Да. Наталья Михайловна Дитерихс в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года стала свидетельницей телефонного звонка из Ленинграда, после которого Соня Толстая упала в обморок, а потом, придя в себя, сказала: «Сергея застрелили». Об этом она мне рассказывала не раз, поскольку я был потрясен ее воспоминаниями. А память у нее была отличная».
Снимки Наппельбаума – плохие свидетели. Есенина в петле он почему-то не фотографировал…
Кстати, о фотоснимках… Снимок Есенина с подписью «Поэт за работой. 1920-е г.г.» я впервые увидела в книге Захара Прилепина «Есенин» из серии ЖЗЛ. Все снимки поэта известны наперечет. Этот – явно постановочный. Некий актер, в образе Есенина, снят в декорациях гостиницы «Англетер», в наброшенном на плечи пальто – каким увидел поэта Вольф Эрлих, вернувшийся в номер за забытым портфелем вечером 27 декабря, и описал его на следующий день в свидетельских показаниях. Снимок гуляет по интернету. Снимок, которого быть не могло: не Эрлих же притащил в 5-й номер гостиницы «Англетер» треногу и тяжеленный ящик фотоаппарата!

Поэт за работой. 1920-е г.г.
Как недавно стало известно дотошным исследователям, «Акт» вскрытия тела покойного поэта патологоанатомом Гиляревским, скорее всего, фикция. У каждого патологоанатома имелся личный журнал, в который заносились результаты после каждого вскрытия рукой ассистента патологоанатома под диктовку, в отличие от «Акта», который заполнял сам патологоанатом. Так вот, личный журнал Гиляревского не найден: либо утерян, либо конфискован.
Неспроста заключительная часть моей книги озаглавлена строчкой известного стихотворения Сергея Есенина: «Я с собой не покончу. Иди к чертям».
В народе говорят: «Все, кто провоцирует или покрывает убийство – находятся в союзе с чертями».
Глава 1
«В развороченном бурей быте»
К.Д. Бальмонт и С.А. Есенин
Светло запомнился поэту Сергею Алексеевичу Соколову Константин Дмитриевич Бальмонт: «Иду по Козицкому, еще не растаявший грязный снег, падает что-то вроде дождя. Вижу, идет в своей крылатке Бальмонт и что-то кидает. Подхожу, у него корзинка с фиалками, и он их раскидывает по пути. Увидел меня, страшно смутился: «Не смейся, Гриф, Благовещение – праздник весны, а видишь, какая скверность вокруг, вот я и решил…» Близкие считали, что Бальмонт выразил себя верно следующими строками:
Не кляните, мудрые,
Что вам до меня?
Я ведь только облачко,
Полное огня.
Я ведь только облачко,
Видите, плыву.
Я зову мечтателей,
Вас я не зову.
У символистов это называлось «ловить миги», выражаясь современным языком, очевидно, «жить на полную катушку». В кругу символистов предпочитали мадеру и коньяк. После «принятия», даже всегда молчаливый Юргис Казимирович Балтрушайтис становился интересным собеседником. Но у Бальмонта быстро наступал «кризис». Он, часто надменный и заносчивый, становился просто невыносимым. Балтрушайтис тогда говорил о нем: «В нем непоправимо сидит провинциальный трагик!» Иван Алексеевич Бунин выражался более поэтично: «У Бальмонта в мозгах хризантемы распустились».
1903 год. Когда поэт Сергей Алексеевич Соколов (псевдоним С.А. Кречетов, прозвище «Гриф») задумал открыть собственное издательство, и пригласил в качестве «лица фирмы» К.Д. Бальмонта, тот согласился. Соколов и его тогдашняя жена Нина Петровская, тоже поэтесса, жили на Знаменке, 20 – в доме причта Храма Бориса и Глеба. И дом, и Храм не сохранились. В 1906 году они переедут в Большой Николопесковский переулок, 1/28. Там тоже у них будет бывать Бальмонт. С «благоговейным трепетом» ожидала Нина Ивановна знакомства с известным поэтом. И вот он явился:
«Невысокий господин с острой рыжей бородкой и незначительным лицом, непохожий на портрет Бальмонта, показался мне совсем незнакомым. «Я Бальмонт!» – сказал он и быстро сбросил пальто. Верно, растерянно потопталась я в прихожей, прежде чем догадалась пригласить гостя в кабинет. Он вошел, беглым прищуренным взглядом скользнул по стенам, потом, оглядев меня с головы до ног, сказал: «Вы мне нравитесь, я хочу Вам читать стихи. Только постойте…» Он стоял посреди комнаты точь-в-точь в той же позе, как на ехидном портрете Серова, краснея кончиком носа, вызывающе выдвинув нижнюю губу, буравя блестящими остриями маленьких глазок. Петух или попугай.

К.Д. Бальмонт
«Спустите шторы… зажгите лампу…»
Спустила, зажгла.
«Теперь принесите коньяку…»
Принесла.
«Теперь заприте дверь…»
Не заперла, но плотно затворила.
«Теперь… (он сел в кресло) встаньте на колени и слушайте…»
Я двигалась совершенно под гипнозом. Было странно, чего-то даже стыдно, но встала на колени.
Будем как солнце всегда молодое
Нежно ласкать огневые цветы.
Счастлив ли? Будь же счастливее вдвое,
Будь воплощеньем внезапной мечты.
Читать Бальмонта одно, слушать совершенно другое. Он читал с вызовом, своеобразно ломая ритм, в паузах нервно шурша листочками из записной книжки (с ней он не расставался), крепко закусывая нижнюю губу необыкновенно острым белым клыком.
Пауза – и опять звенящие, рвущиеся нити, шуршание крыльев, журчание весенних ручьев. Через мою голову время от времени рука поэта тянулась к рюмке. Я, сохраняя неудобную позу, едва успевала ее наливать. И бутылка пустела…
Вернулся Кречетов, в недоумении посмотрел, протер пенсне, опять посмотрел и скромно присел на диван. Цельность этого прекрасно-нелепого действия нарушилась, к тому же подошел час обеда. «Пойдем обедать, Бальмонт, – радушно пригласил Гриф».
Бальмонт посмотрел на него уничтожающим взглядом и залился фальцетным саркастическим смехом.
«Я хочу пить, а не есть! Пить!.. еще!» Он произносил «пть» <…>
«Ах, тебе жалко!.. Тогда вот…монеты, позови прислугу!»
«Здесь не кабак, дорогой Бальмонт», – мягко, но решительно ответил Гриф. И тут началось…
Пришлось уйти и оставить Бальмонта с самим собой. Мне не было ни жалко, ни грустно, ни противно. С того же первого дня мне уяснилось, что Бальмонт страдает самым обыкновенным раздвоением личности <…>».

Большой Николопесковский переулок, дом 1/28
В период с 1905 по 1913 годы К.Д. Бальмонт много путешествовал. А в 1920 году уехал из России навсегда. Последний адрес «рыжекудрого сына Солнца» – так называл поэта имажинист Вадим Шершеневич, – Большой Николопесковский переулок, дом 15. В наши дни здание принадлежит Театральному институту им. Б. Щукина. А до 1920 года на двери квартиры первого этажа сверкала начищенная медная табличка:
«ПОЭТ
Константин Бальмонт»

Большой Николопесковский переулок, дом 15
Вадим Шершеневич был хорошо знаком с Константином Дмитриевичем, и своей язвительной «кистью» нарисовал потомкам его портрет:
«Золотые, годами немытые кудри, усиленно сдобренные перхотью, высокопарное произношение в нос, словно у человека полипы в носу или сифилис, выводок стилизованных девиц в модных платьях «реформ», уткнувшихся в лицо Бальмонта влюбленными глазками и гладивших его руки, стаканы, разбиваемые по-юнкерски после тоста, невнятные речи и плохие стихи, нарочито старомодный сюртук, траур из-под ногтей – словом, вид того самого поэта, не потребованного к священной жертве Аполлоном и погруженного в забавы суетного света, который так мне противен».
Забавно, что критик и поэтесса Серебряного века Ольга Мочалова в неопубликованной рецензии на книгу стихов Шершеневича «И так итог», оказавшуюся действительно последней его поэтической книгой, назвала Вадима Габриэлевича «Воскресшим Бальмонтом»…
Кстати, яростнее всех символистов Бальмонт нападал на футуристов (вспомним начало поэтической карьеры Шершеневича в рядах футуристов), а вот имажинизм считал чрезвычайно интересной поэтической задачей», – так и говорил на закрытом заседании Всероссийского союза поэтов.
Константин Дмитриевич Бальмонт высоко оценивал творчество Сергея Есенина: «Есенин – большой талант, почитайте его, послушайте его лучше». Особенно поэт-символист отмечал стихотворение «Шел господь пытать людей в любови»… Когда Есенину передали лестную похвалу, тот «покраснел, как мальчик».
Хорошо, что забияка Есенин узнал, как Бальмонт ценил его творчество. В гибели Сергея Есенина Константин Дмитриевич винил советскую власть. М. Горький был другого мнения. Он писал из Соренто Ромену Роллану: «Бальмонт обвиняет Советскую власть в самоубийстве Есенина? Для меня Бальмонт – человек слишком далекий от действительности для того, чтобы судить о ней более или менее правильно. Драма Есенина – это драма глиняного горшка, который насмерть разбился о город <…>».
В одном из своих стихотворений Бальмонт написал: «Нам нравятся поэты, похожие на нас». Литераторы старшего поколения сравнивали Сергея Есенина с Константином Бальмонтом. Из дневника К.И. Чуковского: «Я говорю Тынянову, что в Есенине есть бальмонтовское словотечение, графоманская талантливость, которая не сегодня-завтра начнет иссякать». И он же о Бальмонте: «галантерейный, романсовый стиль», «дешевизна», «затасканные штампы», «ужимка и пошлость».
Еще пример сравнения Сергея Есенина с Константином Бальмонтом – цитата из письма Максимилиана Волошина Ольге Константиновне Толстой, уже бывшей теще Есенина, из Коктебеля 18.03.26: «Бальмонта знаю очень близко и очень люблю его. Поэтому мне кажется, что я понимаю Соню. Бальмонт страдает запоем, и один глоток алкоголя часто искажает всю его внутреннюю сущность и заставляет его говорить про самых близких ему и дорогих людей отвратительные вещи: обвинять, клеветать, жаловаться первому встречному. Точно так же его жизнь полна кабацких скандалов и безобразий. Но те, кто хоть однажды видел его подлинный лик, всегда будут связаны жалостью к больному. Этот заносчивый, хвастливый, на публике всегда рисующийся и манерный поэт – в сущности, очень скромный и застенчивый ребенок, совершенно исковерканный переменным душем то успеха, то презрения. Судьба Есенина мне представляется именно такой. И чем больше унижения и позора, искажения человеческого ЛИКА, тем крепче вяжет любовь к таким потерянным. Эта жалость, думается мне, и связала Соню так крепко». Письмо Волошина попало к Софье. По поводу письма С. Толстая-Есенина написала матери, Ольге Константиновне, т. к. именно матери и адресовал письмо Волошин: «Оно меня очень возмутило. <…> Макс не понял меня, не понял Сережу.<…> Бог с ним».
Давайте и мы попробуем сравнить этих, столь несхожих на первый взгляд, поэтов…
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) по происхождению из мелкопоместных дворян. Родился и первые 10 лет прожил в селе Гумнищи Владимирской губернии. Стихи начал писать в раннем детстве. Говорил, что учителями его в поэзии были «усадьба, сад, болотные озерки, шелест листвы, бабочки, птицы и зори». Любовь к литературе у него от матери. Бальмонт ничем, кроме поэзии, жить не мог. Своими обширными знаниями, прежде всего, обязан самообразованию, т. к. в 1890 году исключен из лицея, и оставил попытки получить «казенное образование». Войти в круг поэтов помог Бальмонту В.Г. Короленко, обратившись к редактору журнала «Северный вестник» с просьбой приглядеться к стихам одаренного юноши. Как видим, многие события жизни юного Бальмонта схожи с путем Есенина в мир поэзии. И Бальмонт, и Есенин читали лекции в «Школе стихосложения», организованной В.Я. Брюсовым, выступали в кафе «Домино» Всероссийского союза поэтов (СОПО), состояли в правлении «Дворца искусств».
Непродолжительный роман с Бальмонтом дает право Нине Ивановне Петровской слегка приоткрыть завесу над взаимоотношениями Константина Бальмонта с женщинами: «Прежде всего, нужно было выбрать в поведении с ним определенный стиль и такового держаться. То есть или стать спутницей его «безумных ночей», бросая в эти чудовищные костры все свое существо до здоровья включительно, или перейти в штат его «жен-мироносиц», говорящих хором только о нем, дышащих только фимиамом его славы и бросавших свои очаги, возлюбленных и мужей для этой великой миссии. Или же оставалось холодно перейти на почву светского знакомства, то есть присутствовать в назначенные дни на пятичасовых чаях, которыми сам триумфатор тяготился безмерно <…>»
Нина Серпинская, поэтесса, современница Бальмонта и Есенина, дополняет Петровскую, иллюстрируя выше сказанное о «женах-мироносицах»: «Внутри его квартиры захлопали все двери: из каждой выглянула настоящая, будущая и бывшая жена. Все заахали, заохали – да как же Константин Дмитриевич поедет в такую даль (Спасопесковский— Сухаревская-Садовая), может простудиться, может случиться автомобильная катастрофа…» И для сравнения – эпизод, описанный Надеждой Вольпин, подсмотренный ею в коммунальной квартире Галины Бениславской: «И вот он возлежит калифом среди сонма одалисок. Дубины стоеросовые!
Различаю среди «стоеросовых» стройную Соню Виноградскую и еще одну девушку, красивую, глазастую, кажется, Аню Назарову.
Идет глупейшая игра. «А он не бешеный?», «Пощупаем нос. Если холодный. Значит, здоров!» И девицы наперебой спешат пощупать – каждая – есенинский нос. «Здоров!», «Нет, болен, болен!», «Пусть полежит!»
Есенин отбивается от наседающих ценительниц поэзии».
Бальмонт был женат 3 раза. Есенин 4. Еще пример. Две женщины были последовательно увлечены сначала Бальмонтом, потом Есениным. Первая – влюбчивая внучка Льва Николаевича Толстого, юная Соня Толстая. В 1916–1917 она брала уроки музыки у горячего поклонника Л.Н. Толстого, музыканта и композитора А.Б. Гольденвейзера, и посещала его уроки на Пречистенке, 9. В гостях у музыканта познакомилась с Константином Дмитриевичем Бальмонтом, влюбилась сначала в его стихи, а потом и в самого поэта. А в 1925 году вышла замуж за Есенина. Вторая – Агнесса Рубинчик. Бальмонт посвящал стихи и ей и ее сестрам. Был влюблен в каждую из них. Потом у Агнессы был небольшой роман с Есениным.
Есть у Есенина и Бальмонта общее в искренности, исповедальности творчества. Надежда Петровская написала: «Бальмонт творил из жизни поэмы по кабакам и канавам арбатских переулков». О том же, но о Есенине, по сути, написала и Соня Виноградская: «Каждая строка его говорит о чем-то конкретном, имевшем место в его жизни».
Благодаря поддержке своего друга, поэта и литовского дипломата Юргиса Казимировича Балтрушайтиса в июне 1920 года Константин Дмитриевич Бальмонт получил разрешение на временный выезд за границу. На родину Бальмонт уже не вернулся. Ни политической, ни административной карьеры в России Бальмонт, конечно, не сделал. Он бедствовал в большевистской России, бедствовал и вне Родины. Его письма из заграницы удивительно напоминают письма Есенина друзьям из поездки по миру. Поэту пришлось задержаться в Ревеле, ожидая немецкой визы (он ехал в Париж, через Берлин). В письме бывшей жене от 19.07.20 Константин Дмитриевич написал: «Ревель – красивый старинный город. Но жизнь здесь пустая и ничтожная. А вид толстых обжор и пьяных грубиянов столь противно необычный, что хочется проклинать буржуазию, – занятие бесполезное. Русские, которых встречаю, беспомощно слепы. Они ничего не понимают в современной России». Для несчастного Бальмонта пути назад уже не было. Он умер в нищете, потеряв рассудок, от воспаления легких в богадельне под Парижем.
Когда-то юный Есенин, работая в Типографии И.Д. Сытина, восхищался тем, как поэт Бальмонт оформляет свои рукописи, сдавая их в набор. Собирал сборники поэта в свою личную библиотеку. Потом, под влиянием времени, стал относиться к К.Д. Бальмонту с иронией. Сетовал, что назвал сына Константином. Но похвала поэта-символиста его порадовала… Бальмонт и Есенин – поэты милостью Божией… Оба очень любили свою Родину. Ранний Есенин похож на раннего Бальмонта. У вас есть возможность сравнить.
Безглагольность
Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.
Приди на рассвете на склон косогора, —
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.
Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далеко-далеко.
Во всем утомленье – глухое, немое.

Константиново. Рассвет на Оке
Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада, —
Деревья так сумрачно-странно безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.
Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.
1900 Константин Бальмонт

Константиново. Рассвет на Оке
* * *
Есть светлая радость под сенью кустов Поплакать о прошлом родных берегов И, первую проседь лаская на лбу, С приятною болью пенять на судьбу. Ни друга, ни думы о бабьих губах Не зреет в ее тихомудрых словах, Но есть в ней, как вера, живая мечта К незримому свету приблизить уста. Мы любим в ней вечер, над речкой овес, – И отроков резвых с медынью волос, Стряхая с бровей своих призрачный дым, Нам сладко о тайнах рассказывать им.

Константиново. Рассвет на Оке
Есть нежная кротость, присев на порог,
Молиться закату и лику дорог.
В обсыпанных рощах, на сжатых полях
Грустит наша дума об отрочьих днях.
За отчею сказкой, за звоном стропил
Несет ее шорох неведомых крыл…
Но крепко в равнинах кобыльих лугов
Покоится правда родительских снов.
1917 Сергей Есенин