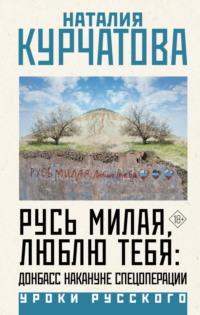Czytaj książkę: «Русь милая, люблю тебя: Донбасс накануне спецоперации», strona 3
– Всё же – не кажется ли вам, что вся эта внутриполитическая борьба в ЛДНР серьезно осложняет перспективы интеграции региона с Россией, а ведь вы постоянно повторяете, что изначальной целью было именно это, а вовсе не полная независимость республик? Да и жители, по моим наблюдениям, надеются именно на воссоединение с Россией на тех или иных условиях.
– Абсолютно нет. Единственным по-настоящему серьезным препятствием интеграции, которое я вижу, является перенасыщенность региона оружием, которое здесь можно найти в каждом подвале. Что касается вопросов политических, то здесь есть свои сложности, и в основном это сложности метрополии – санкционный режим и неоднозначное общественное мнение у вас. Тем не менее, мы уже наблюдаем интеграцию в мягкой форме – признание наших документов, облегчение въезда на территорию РФ для наших граждан; это всё – муравьиные тропы, а вот когда произойдет полная переориентация промышленности Донбасса на Россию – то это уже будут широкие ворота, которые позволят нам быстрее двигаться в правильном направлении. И несмотря на кажущуюся половинчатость этого пути, мы всё равно сможем решить множество задач даже и без политического признания. Уставших, измученных людей интересует не формальный статус, а реальное положение вещей. Другое дело, что отсутствие политического статуса мешает нам пустить на территорию здоровую российскую бюрократию… Нет, я понимаю, что у вас тоже масса проблем… Но российское управление даст нашим людям куда больше социальных гарантий, нежели наш волюнтаристский во многом подход, – и не потому даже, что российскому бюрократу будет сверхценна жизнь и благополучие каждого гражданина ДНР, а потому, что он будет беспокоиться за влитые сюда российские деньги, за эффективность производства, и под это дело подтягивать и зарплаты, и социальную сферу. Тем более что у нас же, при всех промышленных мощностях, узкоспециализированный регион, Донбасс не производит массы продуктов, условно говоря, широкого потребления, и в изоляции мы долго не протянем: люди, которые могут работать, – уедут, останутся пенсионеры, которым некуда деваться, и мы здесь будем ходить по пустынным улицам и пинать мусорные пакеты. Никто этого не хочет, поэтому, по моим сведениям, более 70 % населения республик выступают за глубочайшую интеграцию с Россией – вплоть до присоединения. А мы, те первые, кто участвовал в инициации этих процессов, готовы в какой-то момент передать олимпийский огонь из своих корявых рук российским профессионалам; я лично говорил Суркову в свое время: дай бог, чтобы вы оставили нам кусок хлеба в виде пенсиона небольшого, медаль местного производства – Анну на шею, и довольно с нас, ведь свое место в истории – мы уже заняли. Нужно думать не о себе, а о народном благе.
* * *
В конце нашей беседы Ходаковский, узнав, что я планирую проехаться по городам-спутникам Донецка, предлагает дать мне машину и сопровождающего в Ясиноватую. Этот городок к северу от Донецка считается своего рода «вотчиной» бригады «Восток», как бы феодально это ни звучало. Подобному гостеприимству возразить трудно.
Я выхожу во двор штаба, боец по имени Виталий уже заводит «Land Rover», на заднем сидении которого привычно лежит автомат. Мы обмениваемся с Виталием номерами республиканской сети «Феникс» – на всякий, как он говорит, случай.
– Мне пристегнуться? – спрашиваю.
– Нет, лучше не надо. Требование безопасности.
– Чтобы быстро выскочить, если что?
– Ну да.
Виталий чуть выше меня ростом и лет на десять моложе, ладный, вежливый. Яркие и ясные голубые глаза.
– У вас тут разное говорят про знаменитых командиров… – закидываю я удочку, обращаясь к Виталию.
– Да, чего только не было.
– А ваш?
– С Сергеевичем всё понятно. Он жесткий, но нет… фигни. Полная ясность.
…Ясиноватая – маленький и весьма уютный советский городок. Такой может найтись где угодно на теле бывшей Империи: хрущевско-брежневские пятиэтажки, Дом культуры, парк, заводское правление. Может, пригород Петербурга, может, Урал, Поволжье или, вот, Донбасс. Очень чисто. На постаменте посреди небольшой площади стоит горнопроходческий комбайн из тех, что в свое время производил Ясиноватский Машзавод.
Здание правления завода разгрохано прямой танковой наводкой. Советский еще танк стрелял в советский завод. Это нужно уложить в голове.
В Парке отдыха Железнодорожников гуляют пожилые пары и молодые мамаши с детьми. Рядом стоит паровоз. Он – памятник и никуда не едет. С недалеких здесь позиций «бахает». Люди вокруг не реагируют.
Я интересуюсь, нельзя ли попасть на позиции. Виталий отвечает, что «таких распоряжений от командира не поступало».
Мы идем по улицам, заходим в магазины. Я вижу, что в магазинах есть еда: город живет. Пожалуй, магазины даже побогаче, чем в Донецке. В одном их них мы покупаем кофе «три в одном» и пирожки с горохом, своего рода донецкий специалитет. Виталий настаивает, что угостит меня этими пирожками.
Мы лопаем пирожки и болтаем про местную жизнь. О том, как в одночасье перераспределились приоритеты – и военные, врачи, коммунальщики продвинулись наверх по социальной лестнице. По тону собеседника я слышу, что он считает такое положение вещей совершенно правильным.
* * *
Вернувшись в гостиницу, я сообщаю Прилепину, что взяла интервью у Ходаковского – и хотела бы предложить его «Свободной прессе», где тот – шеф-редактор. Прилепин отвечает, что интервью с Ходаковским они публиковать не будут. На мои расспросы он сообщает о нежелательных связях «Скифа» (позывной Ходаковского) в Москве и в Киеве. По военному времени последнее звучит особенно круто. Впрочем, в интернете мне уже встречались версии о том, что Ходаковский – агент СБУ, и даже Моссада, поэтому я, что называется, не слезаю с Прилепина еще месяца полтора.
В следующий мой приезд Захар говорит, что постарается свести меня с советником Захарченко, Александром Казаковым, который прокомментирует «всё, что Ходаковский тебе наговорил».
«Только звони ему после одиннадцати, он работает по ночам», – сообщил Захар, скидывая мне контакт Казакова.
Встреча происходит в кафе на бульваре Пушкина, Казаков – без видимой охраны. Мой собеседник пьет кофе чашку за чашкой. Разговор идет не под запись.
Александр Казаков – человек интеллигентный и отчетливо невоенный, говорит образно, с примерами. Рассказывает в том числе известный мне уже случай о том, как Захарченко взвешивал на рынке свой пистолет, чтобы проверить честность торгующих, и о том, как после визита в один из прифронтовых поселков лично распорядился привезти старушке машину угля. О «виртуальной приемной» главы, куда сыплются обращения граждан к «Бате» (позывной Захарченко). О мужестве, проявленном Александром Владимировичем в ходе боевых действий. По эмоциональному впечатлению от слов Казакова, глава Республики на этой территории – тип культурного героя, совершающего попеременно военные и филантропические подвиги. И даже с чужих слов я заражаюсь обаянием этой личности, пусть в отношении советника к патрону и сквозит несколько наивная очарованность интеллигента – могучим, истинно народным характером.
При этом я не могу не держать в голове того, что системные недостатки республиканского менеджмента, о которых говорил Ходаковский, могут быть обусловлены как раз этой завязанностью всех нервов сообщества – на одну ключевую фигуру.
Разговор наш затягивается, а Казакову надо провести совещание с журналистами и блогерами в Министерстве информации. Едем туда. За длинным столом сидят республиканские чиновники, представители СМИ и блогеры. Обсуждают не совсем понятные мне информационные войны, идущие в соцсетях. Я слышу несколько фамилий блогеров, на которых подписана. В том числе фамилию «Манекин». Как понимаю, «войны» эти идут в основном между сторонниками Республики, у которых – просто разные взгляды на ее обустройство. Украинский фактор рассматривается скорее как неизбежный фон нежелательного влияния.
После совещания у Казакова еще одна встреча, до которой остается около часа. Он предлагает мне заехать поесть – и договорить заодно. Мы отправляемся в ресторан «Пушкин» и садимся на террасе под белым шатром. Ресторан фешенебельный, цены вполне московские; глядя в меню, я прикидываю, чего бы такого заказать, чтобы не разориться. Казаков советует мне карпа в сметане и деликатно намекает, что я, мол, гость – и могу не стесняться. Я соглашаюсь на карпа. Прикидываю, что в любом случае смогу его оплатить – в первый свой приезд мне пришлось вытаскивать деньги с российской карточки через «жуликов», полуподпольную контору по обналичке, на сей раз я еще «за ленточкой», как здесь называют границу, запаслась кэшем.
Пока ждем еду, касаемся вопроса Ходаковского (они, так скажем, оппоненты, и Казаков настроен к Ходаковскому весьма недоброжелательно). Один Александр сообщает о другом ряд подробностей, не то чтобы леденящих душу, но определенно заставляющих задуматься. Затем я задаю вопрос, который беспокоит меня едва ли не больше всего: к чему всё идет и какие, вообще говоря, цели у «проекта ДНР». Казаков молчит с полминуты, что для него нетипично.
– Могу я задать вам такой вопрос? – повторяю я.
– Конечно, можете! – наконец улыбается Александр, слегка склонив голову и пристально на меня глядя; я уже отметила эту повадку собеседника: в острые моменты разговора склонить голову и немного набычиться, сверля тебя ярко-голубыми глазами. – Но я вам попросту не смогу на этот вопрос ответить. Потому что, если я эти цели обозначу, нас просто порвут. В любом случае, это будет преждевременно. Скажу только: я – человек Империи, и выступаю за ее максимальную целостность…
Вскоре к нам присоединяется военкор с позывным «Север». Он рассказывает о том, как напросился на выход с минометным расчетом, и как после «отработки» по позициям противника они еле унесли ноги. От «Севера» хлещет адреналином.
Затем подъезжает машина, из которой выходят сначала бойцы с автоматами, осматривают ресторан и занимают периметр. Это «личка» министра доходов и сборов ДНР Александра «Ташкента» Тимофеева, с которым у Казакова и назначена встреча. Министр в камуфляже проходит за стол и пожимает руки всем собравшимся, я тоже после некоторого колебания протягиваю ладонь; у грозного «Ташкента» рука – полноватая и словно бескостная, ощущение – будто жмешь край подушки; при этом что-то в этом пожатии сообщает трепет. О Ташкенте говорят в том числе как о главной грозе донецких коммерсантов, из которых он вытрясает те самые «доходы и сборы». Казаков с Ташкентом говорят о делах, упоминается в том числе позже увековеченная Захаром Прилепиным в романе «Некоторые не попадут в ад» «вундервафля» – страшное секретное оружие Республики, разработанное под руководством Тимофеева. (В тот раз я была предупреждена, что всё, звучащее за этим столом, не предназначено для публикации. Но после романа, думаю, уже можно.)
…Попытка сделать сборный материал в виде заочного диалога между тогдашней властью ДНР и ее главным оппонентом Ходаковским, одновременно и одним из зачинателей донбасского сопротивления, в тот раз провалилась: моей осведомленности попросту не хватило для выработки хоть сколько-нибудь самостоятельной позиции. Я взяла паузу, а чуть позже узнала, что фокус не удался бы в любом случае – Ходаковский на тот момент находился в медийных стоп-листах как местного, так и федерального уровня.
Интермедия третья,
о шекспировских могильщиках и превратностях войны
Возвращаясь в март 2017 года, вспоминаешь прежде всего постоянное напряжение неизвестности, и это при том, что в тот раз я даже не попала на позиции. Скажу больше: напряжение это не возникало именно в прифронтовых районах, куда я ездила по определенным делам и чаще с каким-никаким сопровождением, скорее оно было разлито в атмосфере огромного города, живущего по непонятным мне в то время законам. Как оказалось, к этому нельзя было подготовиться, читая сводки с Донбасса и комментарии очевидцев.
…Я иду завтракать в кафе на улице Челюскинцев, где работает моя новая знакомая Ольга, миловидная женщина с двумя детьми и большими проблемами. Зарплата Оли в кафе, где она выполняет работу кассира, официантки, и, как я подозреваю – еще и повара и уборщицы, составляет менее трех тысяч рублей. Правда, у нее есть сменщица, то есть она работает не 30 дней, а 15.
История Оли – очень простая человеческая история. Она жила гражданским браком более десяти лет, родились две дочери. В апреле 2014 года муж поехал в Славянск отвозить гуманитарку, машина попала под обстрел, у мужа – восемь пулевых и осколочное. Доставали с того света всем Донецком; до войны здесь очень хорошая была медицина. Выжил. Пошел воевать. Оля тоже пошла – писарем при штабе. И всё, как говорится, завертелось. В 2015-м Оля уехала с дочками в Ростовскую область, а муж нашел себе новую подругу. Вроде бы каждый выбрал свой путь. Но в России Олю и ее детей никто особо не ждал: работала на подсобных работах, жили в бараке… Заболела мама и вскоре умерла, заболел отец, Ольга вернулась. Дом – в обстреливаемой зоне. Вернулся также и муж: с подругой разошелся и на войне помотало.
– Я его не звала, – говорит Оля; потом добавляет жестче: – Он мне такой не нужен. Он ворует у детей еду.
Я видела этого человека – изящный, тихий, прихрамывает. Мы стояли на троллейбусной остановке, на мой невинный вопрос об одном из командиров ополчения он слегка присел и ответил: «Я еще жить хочу». Это был первый раз, когда я поняла, что есть люди, которым ни в коем случае нельзя сталкиваться с войной.
– Ну что, куда сегодня? – спрашивает меня Оля, пока я прихлебываю чай из пакетика с горячим бутербродом вприкуску.
Солнце уже припекает, мы сидим за деревянным столом под каштанами.
– Завтра встреча с военным одним, а сегодня проедусь на Октябрьский поселок.
– Ты осторожнее, там прилетает, да и народ пуганый, одного журналиста с камерой едва не прибили – думали, корректировщик…
Поселок, названный по имени шахты – «Октябрьская», расположен на западной окраине Донецка, в прифронтовой зоне. Это один из самых пострадавших, да и до сих пор страдающий от обстрелов, районов города. В центре «Октябрьского» позже будет открыт памятник погибшим жителям района, отдельно – погибшим детям.
Еду в сторону ж/д вокзала на троллейбусе. Выхожу и, как непуганый идиот, начинаю фотографировать забранное стеклом здание с гордой надписью «Донецк». Вскоре ко мне подходят два бойца. «Девушка, пройдемте». На шевронах – знак батальона железнодорожной охраны. Один повыше, с недостачей зубов, стремный. Второй – изящный длинноносый хлопец с мягким хрипловатым голосом.
Военные заводят меня в пустынное здание вокзала, смотрят мой паспорт, и в то же время поглядывают на сумку с гюйсом российского флота, похожего на флаг Новороссии.
– Да наша она, что ты, Дуб… – говорит длинноносый.
«Дуб» важно листает мой паспорт РФ в обложке из фильма «Deadman».
– Наталия Курчатова, о как! Санкт-Петербург! А что это у нее на паспорте мужик с пистолетом?
К нам присоединяется гражданский сотрудник железной дороги, немолодой уже дядька, что-то говорит парням. Наконец, Дуб решает:
– Я сейчас наберу военкора нашего, он тебе расскажет, как здесь себя вести…
Бойцы удаляются для звонка. С моим паспортом. Я прогуливаюсь вдоль панорамных окон, щурясь на солнце. Дяденька-железнодорожник подходит, качая головой, и говорит вполголоса и накоротке:
– Наташка, ну ты либо бесстрашная, либо совсем без башки…
Военкором, которого мне вызвонили бойцы для инструктажа, оказывается Дмитрий Гау – первый «голос Республики», что в свое время посидел на подвале, кажется, у «казаков». Сейчас Гау служит в одном из батальонов и говорит, что это «куда спокойнее, чем быть журналистом». Еще он прихрамывает – поговаривают, что на том же подвале ему поломали ноги. Гау настоятельно советует мне сделать республиканскую аккредитацию и подробно объясняет, как.
Расставшись с ним, я сажусь на троллейбус и еду в ОГА – ныне Дом правительства ДНР. Отмечаюсь на вахте, беру пропуск и поднимаюсь на лифте. Время еще не позднее – часов пять вечера. Заглядываю в кабинеты Министерства информации, на которых вместо табличек – распечатанные на принтере указатели. Кабинеты пусты. Наконец, мне везет – и я встречаю сотрудницу, которая сообщает, что «все ушли, сегодня короткий день». На самом деле, все дни на воюющем Донбассе – короткие; из-за комендантского часа жизнь сместилась на крестьянский ритм: день у всех начинается в 6–7 утра и заканчивается примерно в 22. Аккредитацию я в тот раз так и не получила.
Про «казаков» я узнаю завтра, когда приезжаю «на Прагу» – в расположение так называемого «батальона Прилепина» в бывшем отеле на берегу одного из ставков9. Рядом – элитный поселок; местные с иронией называют его «поселок Демьяна Бедного» – по названию одной из улиц; сейчас многие дома здесь пустуют.
Офицер в чине старшего лейтенанта, которого мне порекомендовал Захар, встречает меня на караулке. Позывной – «Варяг», высокий и красивый парень. Личность достаточно известная – один из первых активистов «русской весны» на Донбассе, которого на украинских ресурсах аккредитуют как русского националиста. Сейчас Варяг или, в миру, Александр Матюшин – скорее евразиец, из тех, кто вдохновлен идеями Александра Дугина.
Варяг занимается в батальоне в том числе и работой по сопредельной с моею специальности. Сейчас ему нужно записать интервью с бойцами, которые они выкладывают на «YouTube», – контрпропаганда. Мы садимся в импровизированной студии, Варяг опрашивает сослуживцев, я слушаю. Рассказывают в основном про зверства украинских войск.
Затем, не под запись, Варяг скажет мне:
– В этом отеле, «Прага», до нас стояли вроде бы наши, так называемые «казаки». И то, что творилось у них на подвале… Но мы это всё… вычищали, – Варяг решительно тушит сигарету; до батальона он некоторое время прослужил в республиканском МГБ.
* * *
На следующее утро, 19 марта, я отправилась на кладбище «Донецкое море», где должны быть «сороковины» Михаила «Гиви» Толстых.
В тот день шел отвратительный мелкий дождь, воинский некрополь был оцеплен бойцами «Сомали». Они сразу сказали мне, что не могут пропустить без особого разрешения – «может быть, после мы отправим к вам командира». Мне почему-то казалось важным попасть именно в этот день к его могиле, что бы ни говорили в Донецке про командиров вообще, и конкретно про «Гиви».
Для меня в то время это была своего рода русская сказка, богатырская былина про обычных людей из народа, взявших щит и меч, которые неожиданно оказались им вровень. Тридцать лет и три года они сидели на печи, парковали и чинили дорогие машины, таскали такелаж на заводах, спускались в шахту, рубились в «DOOM», покуривали травку и попивали дешевое пиво, – но в переломной точке Истории оказались смелее и масштабнее, чем большинство людей с образованием, с положением.
Я стояла под дождем довольно долго, час или полтора; мой английский бушлат промок насквозь, и в «челси» тоже вода хлюпала. Затем вышел работник кладбища и пригласил меня в сторожку.
Мы сидели в мазанке о две комнатки, куда возвращались могильщики, счищая у входа жирные комья с лопат. Сторож топил буржуйку поленьями акации, тонкими и волнистыми, с причудливым древесным узором. Могильщики и сторожа перебрасывались шекспировскими репликами и спорили, стоит ли пить сок кладбищенских берез. Весна здесь ранняя, сок уже шел вовсю.
Затем зашел офицер по безопасности батальона «Сомали», суровый дончанин с этим их типичным орлиным профилем, встал у печки – от камуфляжа шел пар, и попросил мои документы.
Донецк, три года на войне10
Записки из города, который мечтает о России
За время войны на Донбассе люди там выработали неписаное правило: полного доверия заслуживает только то, чему ты сам был свидетелем. Украинская пропаганда работает как бесперебойный фейкомет; прореспубликанские и пророссийские СМИ также о многом, как минимум, умалчивают; это ситуация войны в том числе информационной. Прифронтовые города насыщены самыми разнообразными слухами, и даже человек, заслуживающий исключительного доверия, может быть попросту дезинформирован. Составить хоть сколько-нибудь достоверную картину из разрозненных сведений – задача чрезвычайно непростая.
Границы
На пути следования автобус Санкт-Петербург – Донецк проходит две таможни – федеральную и республиканскую. Российский пограничный пункт в Новошахтинске по-прежнему укреплен от обстрелов – в самую горячую фазу войны сюда не раз прилетало, но всё равно производит впечатление форпоста цивилизации с присущей ей здоровой бюрократией: стандартная процедура досмотра, опрос подозрительных лиц; также вам (гражданину РФ) скорее всего дополнительно сообщат, что вы въезжаете в нестабильный регион. На таможне ЛНР ограничиваются проверкой паспортов и багажника, но вместо дам-пограничниц на вас смотрит боец в камуфляже; на долю секунды задерживает взгляд на каждом лице: с чем пожаловали?.. Ясно, что если вызовешь подозрения, то разговоры будут вестись уже в совершенно другой обстановке. Там же возникает удивительное словечко – «краснопаспортные»; касается оно россиян – людей с красной корочкой и двуглавым орлом на ее обложке. Доставая его, ты моментально ловишь на себе взгляды, в которых уважение мешается с завистью. Действительно, здесь трудно отделаться от ощущения, будто ты какой-то долбанный американец, приехавший в Мексику со своими кредитными картами и орлиным паспортом, со своей огромной и, как ни крути, в неплохом тонусе страной за спиной, – на территорию, где у людей совершенно иного порядка проблемы.
После пересечения границы пассажиры автобуса, в основном местные с Донбасса, что едут на побывку с заработков или возвращаются домой насовсем, оживляются как по волшебству. Молчавшие более суток дороги от Петербурга до Новошахтинска, дончане начинают разговаривать – и по мобильникам, и друг с другом; салон наполняется глуховато-мягким донецким говором, в котором не только южное фрикативное «г», но и вообще большинство согласных звучат слегка хрипловато. Наконец, узнаю́, что сосед едет домой в город Красный Луч, что он по специальности монтер подземных коммуникаций, на родине работал в шахте, в Петербурге нашел работу в метро, но повздорил с начальницей. Одно время в России активно обсуждали (и осуждали) молодых дончан, которые уезжали на заработки, вместо того чтобы взять в руки оружие. Немного иначе смотришь на ситуацию, когда узнаёшь, что при ценах на еду и лекарства, сравнимых с московскими и питерскими, средняя зарплата в республиках составляет 5–7 тысяч рублей; на одну российскую зарплату здесь зачастую кормится целая семья.
На пропускном пункте Снежное – граница ЛНР и ДНР – пассажиров встречают два рыжих приветливых бобика. Они улыбаются и яростно молотят хвостами – пушистым и гладкошерстным, в то время как водитель автобуса предупреждает, что за брошенный здесь окурок можно уехать на яму на пару суток. Не вполне ясно, шутит он или нет – бобики улыбаются, боец-пограничник расслабленно прохаживается вдоль бетонного заграждения, но все мужики на всякий случай педантично гасят бычки в жерле металлической урны, похожей на те, что стоят на входе в какой-нибудь петербургский хипстерский бар. Попутно брюзжат на тему, что понаставили мол, границ – все мечтали о Новороссии в теснейшем альянсе с метрополией, а получили две маленькие республики, границы и надолбы, остров Свободы среди степей. Это первое мое столкновение с господствующим умонастроением, и не только среди гражданских.
Гостиница «На семи ветрах»
Маленькая гостиница, которую мне рекомендовали друзья, – по российским меркам сверхбюджетная: одноместный номер, пусть и с удобствами на этаже, ниже цены за койку в питерском хостеле; по местным же – не самая дешевая, поскольку находится в самом центре Донецка. У неё, помимо очевидных плюсов вроде транспортной доступности, близости гражданских, культурных и коммерческих объектов, есть и дополнительный: в этот район последние два года не прилетает.
Контингент постояльцев обычен для прифронтового города: журналисты со всех концов света (моим соседом по коридору был высокий норвежец, разгуливавший после душа в полотенце и босиком), русские добровольцы, ждущие определения в воинскую часть, местные из городков донецкой агломерации, приехавшие в столицу по делам и из-за комендантского часа не успевающие обернуться в один день.
В смене персонала – две женщины: администратор и горничная, обе средних лет, с печатью многомесячной усталости, обе – с обстреливаемых окраин города. Угостила их тульским пряником, купленным по дороге; приняли радостно и с достоинством. Дончане вообще довольно сдержаны, самолюбивы, немногословны; эти черты удивительно роднят их с петербуржцами – и отличают не только от украинцев, но и от южных русских, например, с Кубани.
Центр и фронт
– Жизнь у нас очень тяжелая. Хочется, чтобы было как до войны. И жили хорошо, и была законность.
– Хотите обратно под Украину? – не веря своим ушам, спрашиваю я.
– Да хоть бы и под Украину, раз России мы не нужны. Жили неплохо, была законность…
После я узнаю, что это не самая распространенная, но встречающаяся точка зрения, характерная особенно для донецких обывателей из центра города, который обстрелы затронули мало, к тому же значительная часть его жителей среднего класса на время активных боевых действий выезжала кто на Украину, кто в Россию.
– Живем очень скудно, появились новые элиты, старый бизнес прижимают. При Ринате Леонидовиче лучше было. Зря Россия сюда влезла, – сообщает мне уже другая собеседница, женщина средних лет, муж которой, по ее словам, зарабатывал тем, что возил «титушек» в майданное время. – Сейчас я его пилю за это. Нам это всё воодушевление было чуждо, мы митинги 2014-го в Донецке смотрели по телевизору – и офигевали. Тогда как раз поняли, что нормальная жизнь закончилась. Посмотрели на эти залпы со своего балкона – пришлось с детьми уехать. Потом вернулись – не оставлять же квартиру, хорошая квартира, наш дом, зарабатывали на нее годами, а теперь она копейки стоит, если ее продать, то на Украине, например, и не купишь ничего. Напиши, пожалуйста, правду, – всхлипывает она, когда мы расстаемся.
Вот, пишу. Но есть и другая правда.
В один из вечеров после комендантского часа мы курим на лестнице с дончанкой с гостиничного ресепшна. Я делюсь с нею озадаченностью по поводу настроений обычных жителей, среди которых встречаются «хоть бы кто нас забрал, даже Украина, раз России мы не нужны», и «да пусть бы зашли уже хохлы и всех на фонарях перевешали – лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Собеседница отвечает, аккуратно подбирая выражения:
– Понимаешь, первые – это скорее всего центровые или те, кто вовсе уезжал на Украину: они не видели обстрелов, не теряли друзей и близких, поэтому им всё более-менее пофигу. Вторые – ну, нервы сдают у людей. Я вот живу на окраине, с нашего дома восемь ребят молодых ушли в ополчение, трое – погибли. Я их знала всех. По нашему району стреляли, как-то попали в газопровод, счастье, что не рвануло… Нет, я не хочу в Украину… – спокойно говорит она.
В этот момент в гостинице начинается скандал – и моя визави срывается его разрешать. Это хрупкая женщина лет пятьдесяти, с обычным здесь ахматовским профилем – то ли греческая, то ли армянская кровь. В гостинице есть два крыла – «приличное», подороже, с номерами на одно-два места, в котором живу я, и комнаты размещения типа хостел, куда заселяются жители области, приехавшие в Донецк по делам и не успевающие отбыть из-за комендантского часа, а также гуманитарные волонтеры и добровольцы из России, свалившиеся на Донбасс, в отличие от того моего знакомого из Ижевска, «дикарями». Я пару раз встречала этих ребят на лестнице: неформалы с пирсингом и в камуфляже, с горящими глазами; идейности и экстремального туризма в них примерно поровну.
Очевидно, что люди, непосредственно столкнувшиеся с войной, настроены наиболее прореспубликански и не готовы к воссоединению с Украиной категорически, даже на условиях федерализации. Существует также барьер между «фронтовиками» и людьми, в самый горячий период боевых действий (2014–2015 гг.) покидавшими Донбасс; первые относятся ко вторым с долей подозрительности. Особенно недолюбливают гаишников: «Где они были в четырнадцатом? Все слиняли! А теперь появились обратно, как по волшебству», – говорит шофер, проработавший в городе всю войну.
– Было время, когда город настолько опустел, что по улице Артема11 можно было пройти в одних трусах, и никто не обратил бы внимания. Да и без трусов можно было бы, – рассказывает один из жителей, не выезжавший с Донбасса ни на день. – Я никуда не уехал даже не по идейным соображениям, а потому что здесь мой дом, а где меня еще ждут-то? Пасынка, правда, отправили мы в Таганрог. Была еще история – парня молодого с территории, которая под ВСУ, вывезли родители в Ростов, чтобы в армию не загребли. Так вот его на второй день там такой же малолетка сбил на машине, насмерть. От судьбы не убежишь.
Подобный фатализм сложно понять жителям мирных территорий; наверное, он попросту помогает не сойти с ума.
Ополчение
На кладбище Донецкое море сегодня сороковины Михаила «Гиви» Толстых.
Обратный таксист, сообразив, откуда я еду, долго рассказывает про то, как ополченцы отжимали у людей квартиры и машины. «А у вас, – заметил он, – они бы могли отобрать, как минимум, мобильный телефон! А то, и…», – протянул он, перед этим оценивающе глянув на меня в зеркало заднего вида.
– Оля, – обратилась я вечером к новой донецкой приятельнице. – Правда ли, что ополченцы отжимали квартиры-машины, вообще именно для этого многие туда и шли?
– Ты знаешь, я массу таких разговоров слышала, – но именно слышала; сама и мои знакомые с подобным не сталкивались. Но, думаю, в 14-м всякое бывало, потому и начали кое-кого потом закрывать. А насчет того, что для этого туда и шли, – люди, которые такое говорят, они, мне кажется, просто очень любят денежки, но при этом у них кишка тонка пойти в ополчение и проверить, можно ли там отжать квартиру…
Оля начинает смеяться, представляя, видимо, какого-нибудь знакомого куркуля, который идет в ополчение отжимать квартиру или бизнес у соседа.
– …В четырнадцатом был удивительный народный подъем, но и много бывало гамна, – говорит мне офицер одного из подразделений армии ДНР; «гамна» – это региональная норма, как и «ложить» в значении «класть»; за прошедшие здесь дни мне даже перестало царапать ухо. – Практически у каждого соединения была своя яма, которую использовали в соответствии с собственными представлениями о прекрасном… Кто-то диверсантов ловил, а кто-то… Вот, например, было знакомое мне «казачье» подразделение, которое занималось откровенным бандитизмом, таскало коммерсантов на подвал и прочее. Подразделения этого больше нет, но много они натворили и многое испоганили… Раньше мы тут кубанки носили, и я тоже, я же донец потомственный. Этих «казакующих» я за казаков и не считал, но пришлось от кубанки отказаться – просто чтобы не ассоциироваться. Наша паранойя нынешняя – она отчасти от этого; слишком многое приходится вычищать. К тому же националистическое украинское, да и просто правое подполье – вовсе не миф. В этом плане мы в русле европейских тенденций: у нас есть тут и нипстеры (наци-хипстеры), и Misanthropic Division, вся эта модная зараза общеевропейская из Украины, да и из России отчасти заползла – это, конечно, щенята еще, пусть и правее них только стенка. Но есть и настоящие боевые группы.
Darmowy fragment się skończył.