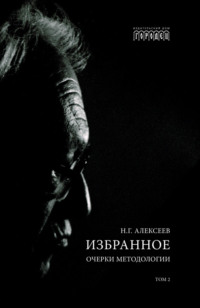Czytaj książkę: «Избранное. Очерки Методологии. Том 2»

© АНО «Академия попечителей», 2025
© ИД «Городец», 2025
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)
«Меня будоражила наивная мысль: мышление спасет человечество»*
Интервью с Н.Г. Алексеевым

Идя на поводу у своего любопытства, я включаю диктофон и задаю вопросы – на какие способен – всем активным участникам игротехнического и методологического движения. В этом моем (неуклонно растущем) списке достославных мужей Никита Глебович Алексеев занимает особое место. С одной стороны, он застал аж всех (!) отцов-основателей ММК (которые тогда и не подозревали о своей роли). С другой стороны, включившись (не сразу) в ОД-игры под руководством Георгия Петровича Щедровицкого, Никита Глебович достаточно быстро начал проводить свои игры, выращивая в «осваиваемых» городах новые игротехнические команды.
Наша беседа (фрагмент которой я предлагаю читателю) длилась часа три и была прервана только потому, что я опаздывал на метро… Итак, я включаю диктофон, который почему-то (?!) зафиксировал не мой первый вопрос (очевидно, развернутый), а его, Никиты, ответ:
Никита Глебович Алексеев (далее – Н.Г.): …Меня интересует мое собственное понимание, а не точное исследование в научном плане.
– И меня… Но давай начнем с начала. Из ныне действующих методологов-игротехников, не порвавших c ММК, ты сотрудничаешь с Георгием Петровичем дольше всех, а потому – когда и при каких условиях вы познакомились?
Н.Г.: Не помню, на первом или втором курсе МГУ я начал курсовую работу о «случайности и необходимости», после чего мне сказали, что меня разыскивает какой-то Щедровицкий. Ну, разыскивает и разыскивает… Наконец, он меня нашел, и у нас была очень интересная встреча, кажется, в тот же первый день. Мы гуляли – я жил у «Беговой», он у «Сокола» – и, по-моему, раза три-четыре прошли туда-сюда, расставшись очень поздно. Он тогда, если мне память не изменяет, заканчивал тот же философский факультет, только я учился на философском отделении, а он на логическом. Беседовали мы в основном о мышлении. Я чувствовал, что им надо заниматься; меня будоражили наивные, идиотические мысли – мышление спасет человечество, и потому категориями надо заниматься, процессами, механизмами. Это – как я сегодня понимаю – было мало дифференцированное, смутное ощущение, но сидящее как некоторая ценность.
– А почему выбрал философский факультет?
Н.Г.: А понимаешь, тоже забавная вещь… У меня ведь получилось таким образом: отец был расстрелян…класса до 9-го я учился так, что по всем гуманитарным предметам – литература, география, история – было «отлично», за счет очень большого чтения, а по естественным – математика, физика, химия – между «тройкой» и «четверкой». И вот в середине 9-го класса дядя мой спросил: «Куда ты пойдешь и как думаешь жить дальше?» Был он умный мужик, но работал слесарем, спился, поскольку во время войны семь раз бежал из плена, после очередного побега его подобрали американцы, а ты понимаешь, какая у нас послевоенная жизнь была: раз в неделю он должен был ходить регистрироваться… И вот подсунул он мне две мысли. Сказал, что я должен очень хорошо кончить школу, и когда узнал, что по математике и физике у меня не очень, спокойно заметил: «Ты же умный мужик, возьми задачку, разберись, решай, пойми». Я и взял одну задачку математическую, решал ее неделю, поначалу решил через полчаса, потом видоизменял, применял разные способы, исписал толстую тетрадь… После этого у меня по математике и физике, понимаешь, стали появляться одни «отлично», и я вообще задумал идти на математический факультет. Но тут пришла в школу интересная пионервожатая… А училась она на философском факультете!.. Я немножечко за ней приударил, и это предопределило выбор мой, как ни странно. Но не просто так: и гуманитарная наклонность была, и мысль сидела – вот жили люди, голодали, войну пережили, неужели потом не будут знать этого?!
Короче говоря, погуляли мы с Георгием и, думаю, прониклись определенной симпатией.
– А уже существовал ММК?
Н.Г.: Тут, понимаешь, непонятно. Существовал не ММК – в этом много рационализации и реконструкции исторического плана. Понимаешь, было четверо, схватывающих некоторое содержание, была видна группа, ты всех их знаешь, было видно распределение между ними. Как-то чувствовалось, что духовным лидером Саша Зиновьев был; какая-то организаторская функция – при том, что все были самостоятельными людьми, спорили друг с другом, – взята была Георгием, а Грушин и Мамардашвили выступали в каком-то смысле самодеятельными личностями. Было четверо молодых ребят, чуть постарше меня, и к ним сразу подключилась группа – думаю, это была сознательная акция со стороны четверки, – там были Костеловский, ваш покорный слуга, Садовский, Швырев, Финн и Лахути. Это из тех, кого я помню. В тот период мы довольно часто встречались, чаще у Мераба Мамардашвили на квартире, он жил у «Аэропорта», хотя я могу спутать, и у Юры Щедровицкого… Встречались для обсуждения. Помню, я какой-то доклад про операции делал, это заранее обговаривалось. Можно сказать, что так зарождался семинар.
– А помнишь первое впечатление от Георгия Петровича?
Н.Г.: Понимаешь, я через него вошел в группу, и во-вторых, как мне представляется, у нас просто были хорошие дружеские отношения, мы вместе за город ездили, жили сравнительно недалеко друг от друга, мне страшно нравились его родители, я приходил к ним, чай пил, они мне какие-то советы давали. И он ко мне приходил, очень нравился моей маме, и работал он в очень интересном для меня ключе.
– Судя по публикациям, вы довольно быстро стали работать вместе.
Н.Г.: Здесь тоже надо точность восстановить. Я лично эти публикации не писал, хотя обсуждал, а вот в «Педагогике и логике» – там самостоятельная статья1. Какие-то идейные вещи мне удалось (конечно, совместно) обозначить. Понимаешь, идея всегда рождается странно, распределенно.
– А почему четверка распалась?
Н.Г.: Об этом лучше у Георгия спросить. Но что, например, получилось с Сашей? Он ушел в логизированные формы, причем еще и формализуемые, начал эти логики обрабатывать, какой-то невероятный крен сделал – потому что мне-то представлялось, что мы во многом вышли из его диссертации, но потом он от этой ориентации – от генетически-содержательной логики – отошел.
– Откуда это утверждение?
Н.Г.: Я не могу восстановить впечатления, которые у меня тогда были. Мы отталкивались от тех, с кем шел спор, это важно понять. Как я могу сейчас восстановить, спорили с тремя оппонентами.
Одни – формальные логики типа Войшвилло. И содержательность была направлена против той формальности, против таких как бы «пустовсеобщих» форм. Предполагалось, что движение мысли имеет какие-то другие характеристики.
– Кем предполагалось?
Н.Г.: Мною, чего уж там. И отсюда возникли, у Саши, скажем, выведение, сведение, и все это понималось как захватывание содержания. В этом смысле такие силлогизмы, как «Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен» – представлялись как не захватывающие содержания, пустые в этом смысле, абсолютно безотносительные. А у нас предполагалось, что форма хотя и общая, но захватывает содержание и творит его. Тогда я этого не знал, но сегодня сказал бы, в аристотелевском духе, – форма, которая создает содержание.
– И потому каждая форма для своего содержания…
Н.Г.: Они могут быть сколь угодно общими. Идея состояла в том, чтобы эти формы найти. Такова была первая оппозиция, и отсюда – содержательность.
Вторая оппозиция, которая достаточно быстро проявилась – я говорю про себя, не могу за всех, – связана была с диалектикой и так называемой диалектической логикой. Через них всеобщность получалась какой-то словесной: первое через второе, второе через третье, и все взаимосвязано, все через противоречие. Вроде бы понимаешь, но с этим как бы делать нечего, не из материала как-то тащится, для этого вроде бы ничем не нужно владеть. Это та всеобщность, которая тоже выступила как пустая. Отсюда пошли споры – вторая линия, в оппозиции к Ильенкову с его компанией.
Здесь важен был момент генетический. Он уже тогда понимался таким образом, что мы должны «тащить» содержание из исторического материала. Пусть смутно, но стали мы догадываться, что надо анализировать тексты и в них находить закономерности. И здесь кто что начал захватывать, каждый свои куски. Я пытался работать с дифференциально-интегральным исчислением – не очень, но пытался. Георгий, помню, с Аристархом начал какой-то пример разбирать, физику Галилея. Два момента – содержательный и генетический – пошли рядом, содержательность «выползает» из истории, надо в историческом материале покопаться, найти, увидеть. Существенно, что та же диссертация Зиновьева опиралась на анализ «Капитала», Грушин работал над формами исторического мышления, вокруг этого шли разговоры.
Наконец, третья оппозиция, которая была весьма очевидной и заложена тогда же, по крайней мере, в моем понимании – это оппозиция к психологии, я сказал бы, к сенсуализму, материалистическому сенсуализму, к тому, что эти формы не присущи одному, индивидуальному, человеку, а есть логика, т. е. нечто надындивидуальное, и что индивидуальное должно через это получить свое объяснение. Примат логического!
Эти три оппозиции задавали ценностно существенные ориентиры. Я больше не буду оговариваться: все, что я говорю, отражает мое понимание.
– А если теперь перескочить через генерации, которые просачивались через семинар?
Н.Г.: Их было очень много. Но я должен сказать, что года на два выскочил, потому что интересовали другие вещи, приходил раз в полгода, мне люди эти были интересны, тогда начали появляться Розин, Генисаретский… Но семинарили они вечерами, а я работал, преподавал математику в «вечерке» Ленинградского района, пять лет отработал и даже похвалюсь, что дважды или трижды признавался лучшим учителем района. А еще новые друзья появились, интересные, богемные – из артистической сферы, я с ними много спорил… В шахматы играл…
С Георгием резких расхождений не было, хотя помню две встречи, после которых мне было неприятно. Как-то он мне сказал: «Вон, Вадим Розин развивается, а ты – стоишь!» А я думаю: «Ну и черт с ним, пусть развивается». Плохая, наверное, черта – честолюбия лишен… И еще случай был, его тоже надо вспомнить: в одном из заговоров я участвовал, не скрывал и ему про это сказал. При обсуждении его работы по Аристарху, «краевых процессов» и прочее я выступил на семинаре у, если не ошибаюсь, Петра Алексеевича Шеварева, пытался работу раздраконить. Сейчас понимаю, глупый был поступок.
– Но это был не личный, а содержательный конфликт?
Н.Г.: Понимаешь, это никогда не понятно, насколько он содержательный, все перепутывается, поскольку для содержательного, критического разбора необходимо личное отношение. По крайней мере, тогда мне так надо было, а сейчас, может быть, могу обойтись. А оказалось, что Георгий думал ту работу двигать на кандидатскую диссертацию. Если бы я это знал, ни за что бы не выступил. А может быть, это миф…
– Ладно, проскочим к играм. Почему участвовал или не участвовал в первых, почему на каком-то этапе включился? Я слышал, что «старая гвардия» не стала участвовать в играх, потому что кто-то якобы сказал: мне интересно было изучать мышление Канта, но не МарьИванны…
Н.Г.: У меня не было этого. Понимаешь, могу засветить тебе все точки, как я их помню. В первой игре я не участвовал, впервые пришел на обсуждение в Институт психологии, там обсуждалась И-3.
– Первые две прошли мимо?! При том, что И-2 длилась чуть ли не год?!
Н.Г.: Ну, не интересовала. Абсолютно! А когда пришел, стал спрашивать: что это такое? И никак не мог понять – не мог понять их заинтересованности, увлеченности. И домой пришел, все думал. Бросалась в глаза живость обсуждения. Ни слова не помню из него, кроме их увлеченности. Может быть, это моя характеристика, Георгий говорит: «Ты психологист», – но для меня существенно, как люди обсуждают… И все же потом вновь большой кусок пропустил, понимаешь, вел несколько методологических семинаров – помимо семинара по рефлексии, проблемы которой меня тогда очень интересовали, вел большой семинар во ВНИИТЭ, откуда потом многие работы вышли, Швырева в частности, Бориса Юдина, Мирского…
– Иными словами, живость обсуждения поразила, но в игру ты так и не вошел?
Н.Г.: Не вошел, хотя о них знал, иногда даже выступал на общих заседаниях. Знал, что такая действительность существует и что «деятели» появились. А первая игра, на которую я попал, была в МИНХиГП, в Москве, кажется, И-21, я Ладушку (Алексеева Лада Никитична, дочь – прим. ред. сборника) с собой брал. Эта игра произвела на меня очень сильное впечатление и в то же время оказалась для меня очень тормозной. Сразу два момента отмечаю, пост-рефлексивных. Георгию очень понравилась тогда моя рефлексия после игры. Он даже сказал: «Лично, Кит, ты меня обогнал!..» В чем я мог его обогнать? По какому-то вопросу – так я понял смысл. Я наглядно увидел, причем совершенно конкретно, что могу развить некоторые свои способности. До того я помнил 10–15 имен-отчеств, а за игру смог это число утроить! Я понял, что это возможно при определенном отношении к людям, когда человек этот становится для меня очень существенным. Затем добавляется небольшая техника, и тогда, буквально на автомате, захватывается… Меня этот факт просто поразил, потому что был очень принципиальным: в ходе игры я могу с собой нечто сделать! Или со мной может нечто сделаться! Я оба эти момента учитывал уже тогда. Поразительно – за короткий момент я могу себя переделать или меня переделает, я переделаюсь. Оба залога здесь есть.
Это первое. А второе – у меня была схемка рефлексии, предварительно несколько продуманная, и на игре я ее увидал!.. Еще раз, причем, увидел впервые сам, оформил ее. Известная схемка: остановка, фиксация и т. д. Помню свидетельство Громыко и Петра [Щедровицкого], они потом неделю пытались ее опровергнуть, но не смогли. Ну, понимаешь, хорошая схемка навязывается. И не важно, кто ее оформил, но если она связана с действительностью, с мыследеятельностью, то она садится, а уточнять ее можно потом.
И третий результат: во время игры, в рефлексии, я сразу сказал, что ОД-игра – это практика методологии. По-видимому, для Георгия эта было существенно. Не потому, что он этого не знал, а скорее потому, что это был взгляд авторитетный и со стороны. Обрати внимание: схема, которую я вчерне продумывал вне и не для игры, здесь заработала. Более того, ее можно запустить в действие и проверять, а затем с ее помощью нечто сделать. Вот что было неимоверно значимым: до игры я видел практику методологии поверхностно и узко – в научных исследованиях, в организациях. А здесь непосредственно в жизни!
И потом для меня чрезвычайно важно, как человек говорит. Он может сказать: «Волга впадает в Каспийское море» – и это будет открытием…
– Для него?
Н.Г.: Но в этом смысле и для меня… Он же это по-своему прожил, а когда человек выдает прожитое, он это говорит иначе. Вот на моих играх выходит человек, воспроизводит, скажем, простенькую схему доклада, но я-то чувствую, что он внутренне до нее долез, допер – сам! По глазам чувствую, по голосу, по строению речи. А тогда и то, что человек сказал, становится для меня значимым, возникает к нему определенный тип отношения, и не могу после сказать ему, что это уже лет 20 как известно. Понимаешь, я могу его проблематизировать, но и сама проблематизация резко меняется.
– Если он заново открыл закон Ньютона, ты перестаешь относиться к нему, как ИванИванычу, а начинаешь – как к Ньютону?
Н.Г.: Совершенно верно. Но я забыл сказать о тормозящем влиянии первой же игры. Мне ни в коем случае нельзя было идти исследователем, занимая внешнюю позицию. Мне следовало прожить игру, при случае выйти к доске, нечто сказать, а я постеснялся. В результате породил в себе мифы, преодолеть которые потом было очень трудно. Хотя я и общительный человек, легко вступаю в коммуникацию, но – плохо вижу, плохо слышу, а потому казалось, что вылезать на широкое поле деятельности – очень сомнительно, понимаешь… И это держалось очень долго. И еще была одна причина затыка: до последнего времени мне казалось, что для развития игры в нее требуется вкладывать только то, что работает на ее развитие. Идея идиотская, но – держала. Возникал план «постороннего», причем не Георгий держал, а что-то непонятное.
Один момент запомнился, когда я Георгия выгнал… Мы что-то обсуждали, оживились, а он заходит и сразу со своим типичным номером: «Что вы тут понимаете?» А я ему тут же: «А ты что понимаешь?» Он засмущался и выскочил… Я же тогда просто взбесился: тоже мне еще, не успел войти, а уже все схватил!
А другая игра, под Верхним Волочком, запомнилась мне крупной своей неудачей. Вывели группу на один очень хороший предметный проект, но не хватило у меня понимания – снять движение работы и выйти с чисто методологическим докладом. В каком-то смысле трагический для меня момент…
– Но почему, проведя мало игр с Г.П., ты пришел к осознанию необходимости проводить свои игры как разработчик и руководитель?
Н.Г.: Не торопись. До этого я сыграл еще несколько игр не своих, и они оказались для меня принципиально важными. Вначале меня пригласил Сазонов на игру в Ульяновск, там в методологической группе кроме меня работали Сева Авксентьев и Рифат Шайхутдинов. Там я очень активно выступал на оргрефлексии. И вторая с Сазоновым игра, на ЗИЛе – с «Карбюратором». Борис [Сазонов] уехал, что-то у него с матерью случилось, игру вел я и породил очень сильную, с моей точки зрения, схему стратегии, или, как я ее сейчас более точно определяю, норм стратегического мышления. Четыре нормы, очень простые, оргдеятельностные. Главное – с их помощью я могу и собой управлять, и другими, игру построить на них. Не знаю, есть ли оно у других, но я понятие стратегии имею. Эту схему я не только помню, но пару раз использовал, один раз даже услышал в ее адрес – гениальная! Когда она вовремя вброшена, с модификациями…
И очень большое значение имело одно замечание Бориса. Как-то я на его игре вел консультацию и, отвечая на вопрос: «Может ли культура быть товаром?», впал в некоторый пафос. Я же видел, что люди вокруг заворожены, абсолютно точно видел: вот скажу сейчас «Встали и пошли», – и все пойдут… Потом Борис мне сказал, что для него это было, как сошествие Иисуса Христа. Что я тогда говорил конкретно, не помню, но точно такого в игре со мной никогда не было. И это меня переориентировало: я впервые понял, что могу сам игру провести. Я понял, что все это – насчет слуха, зрения, отставания мышления – были мои домыслы…








Заметки к соотношению мыследеятельности и сознания*

Заметки эти дались автору с большим трудом; на нелюбовь к письму наложилась первоначально еще не осознаваемая установка сделать их методологически личными, сколь ни странным может показаться и прозвучать такое сочетание. То же самое, но в других словах: заметки эти субъективны, выражают личное видение и понимание обсуждаемого в них, не претендуя на некую общезначимость. Отсюда просьба к возможным читателям: учитывайте это.
1. Логически, а не по времени, первым встал вопрос о смысле обсуждения темы. Мне близко утверждение В. Франкла о том, что смысл не строится, а находится; в него, правда, следует внести поправку – прежде, чем найтись, смысл должен быть как-то, возможно и многими ходами, предзадан, в неявленной форме уже существовать. «Полная» цепочка становления смысла может быть представлена в последовательности уже трех «звеньев». Они суть предыстория, обнаружение и рефлексия с рационализацией. Как только мы лишаемся одного из них, так со смыслом происходит что-то не то. Без предыстории он не имеет своих собственных корней и как чуждый, чужой склонен и стремится, прежде всего, к формальному (вплоть до формалистического) разворачиванию и разработке. Вне нахождения или обнаружения он не имеет качества новизны, есть лишь продолжающийся старый смысл. Вне рефлексии с последующей ее рационалистической проработкой он не передаваем, не транслируется.
Когда в феврале прошлого года в Киеве на II съезде методологов была объявлена тематика следующего, III съезда, то первая моя реакция была достаточно сложной, в ней сошлись, по крайней мере, три версии:
воздействие доклада «индологов», в котором угадывалось нечто стоящее, ранее в нем не охваченное, что побуждало строить «объемлющую рамку»;
определенная неудовлетворенность завышенным удельным весом игр в методологическом движении;
смутное ощущение возможности прорыва – то, что коренится, на мой взгляд, в сути методологического подхода вообще.
Сказанное – было, но куда-то «нырнуло» и на время затаилось, его оказалось недостаточно. Необходим был еще некоторый, но вполне конкретный, рабочий контекст. Таковым оказался грант (от Института человека), замысленный его участниками как сведение счетов, даже расправа с тоталитарным мышлением и сознанием. Участники предстоящей работы были психологами, я же привлечен был ими в качестве методологической службы. Что меня поразило уже в тексте заявки на работу – это синонимия, полное неразличение мышления и сознания, которые выступали как одно и то же. Заработала старая традиция ММК: не различается – надо различать.
Немногое дало обращение к истории вопроса. Вроде бы достаточно отчетливым было различение мышления и сознания у Гегеля (различение логики и феноменологии); весьма вероятно, что глубокие соображения имелись у Фихте в развертывании форм сознания. Это и, бесспорно, еще многое другое требует тщательной и неторопливой проработки. Тем не менее, представление о том, что само различие мышления, мыслительной деятельности, мыследеятельности (порядок не случаен, он выстраивается для методологической постановки вопроса) и сознания не выступало как конструктивный принцип, осталось незыблемым. В этом просто не было необходимости; думаю, что сейчас такая необходимость начинает проявляться.
Обосновать ее обращением к «ситуативной предыстории», конечно, нельзя, это было бы смешной натяжкой. У одного одни ситуации, у другого другие, а представить надо нечто, могущее иметь общее значение, позволяющее осуществить переход от субъективного к объективному идеализму.
2. На семинаре по политологии в Калининграде обратил на себя внимание тезис П.Г. Щедровицкого о рамках. Если я правильно понял, то он – в следующем: рамка тогда и только тогда является действительно рамкой, если человек, строя (беря, видя) ее, помещает себя в нее и некоторым образом в ней действует, но – и это принципиально – находится и вне ее, действуя с помощью этой рамки для других (что определяется контекстом) целей и другим образом. Обрисовано это было двумя изображениями одного «человечка»; одно из них было в овале, т. е. внутри, а другое вовне, и между ними, разумеется, была связь. Упомянуть об этом представилось необходимым, ибо три подобных конструкции – три рамки – существенны для приобретения смысла в постановке проблемы соотношения мыследеятельности и сознания.
Первая из них – логика «изысканий» (здесь, к сожалению, очень трудно найти и адекватное, и единственное точное слово) по мышлению в ММК. На мой взгляд, применительно, и только, к общей цели ведущегося разбора эту логику изысканий можно представить так: исследование – проектирование – практика. Кратко поясню. Само исследование было предуготовляющим (что частично в те времена осознавалось, но в обобщенно-абстрактном виде) к последующему действию; важно было разобраться на выбранных образцах, как нечто может быть достигнуто в нормах. Сознание при этом (прошу прощения за невольную игру слов) сознательно игнорировалось, то есть особым образом учитывалось, отсюда тезис об антипсихологизме. Важна была жесткая демаркация. При этом – еще раз подчеркну, только в рассматриваемом ракурсе – началась теоретическая сборка ранее наработанного с введением одного нового, принципиально важного момента – типологически деятельностного, позволяющего конструировать целостности, собирать их в различные формы с учетом социокультурных особенностей, деятельностных позиций. Сознание при продолжающемся его «игнорировании» начало типологизироваться, расслаиваться на различные сознания сфер или сообществ, уже «внутрь» которых оказалась перенесенной исходная оппозиция мышления и сознания. Характерно (и очень интересно для изучения), что выходящие на этом рубеже из ММК начали делать ставку именно на сознание, его анализ и т. д. Практика организационно-деятельностных игр столкнула с сознанием напрямую – как с разнообразием индивидуальных сознаний, так и с их типологическими характеристиками. Как бы «незаконно» в наш обиход вошли совершенно новые слова: ценность, самоопределение и т. п. Уже десятилетие именно они начинают осмысляться в первую очередь, несут ключевую нагрузку.
Здесь, пожалуй, самая трудная для формулирования (возможно, и для понимания) резюмирующая часть: именно за счет резкости противопоставления, за счет его удержания само различение мыследеятельности (мышления) и сознания приобретает смысл. Более того, такое различение уже накопило, как я старался краткими штрихами показать, содержательный потенциал, требующий своего раскрытия. Трехчленка «исследование – проектирование – практика» изысканий по мышлению в ММК фиксирует завершение цикла; введение сознания «в работу» ММК может открыть новый цикл. Новый – но с учетом предыдущего, уже прошедшего. Мы имеем и гарантию, что не будет утеряно и прошлое, а переосмыслено в новых контекстах. Я имею в качестве таковой гарантии Г.П. Щедровицкого, организатора и мыслителя, владеющего редким даром: всякий раз обращаясь к истории, приумножать новое; согласно Конфуцию, это – дар учителя.
Внутренне противоречивой мне представляется вторая рамка – рамка той ситуации в стране, в которой мы сейчас находимся: по данному выше определению, мы должны быть также «вне ее». Вопрос: получается ли? держим ли и этот второй необходимый компонент рамки? Либо нас просто протаскивает через обстоятельства, и мы только это и осознаем? Как-то патетично получается, чего не хотелось бы. Складывается, тем не менее, впечатление некоторой потери в темпе. Трудно сказать, с чем это связано, феноменологически можно лишь констатировать по многим самым разнообразным фактам (приведу произвольно лишь два из них: наличие эффектно играющих команд, вообще отрицательно относящихся к методологическим «штудиям», и схоластическую вымученность некоторых компендиумов с попыткой «полно» изложить методологию как некоторую таким образом транслируемую систему) снижение – за некоторыми немногочисленными исключениями – уровня теоретико-методологических работ, прежде всего, в аспекте глубины и дальности их воздействия. Мне кажется, что ранее это имело место; мне также кажется, что в настоящее время, время наибольшей практичности, наиболее уместной может стать «спокойная», «непрямо» практическая теоретико-методологическая работа. Вполне возможно, что «выход» на сознание дает определенный шанс. Возможно. Или кажется, поскольку обосновать это с принудительной силой я не в состоянии.
О третьей рамке – культурно-исторической. Думается, что сейчас уже начался и начинает бурно нарастать второй фиксируемый в истории переворот в системе трансляции. Можно верить, можно не верить в закон отрицания отрицания, но глобальные процессы изменения в трансляции с помощью этой схемы могут быть описаны. Дописьменные формы передачи опыта и знаний строились на живой коммуникации. Появление письменности во многом ее трансформировало; возникновение и развитие современных технических средств знаменует введение специфических заместителей непосредственной коммуникации. Представляется, что трансляционные процессы далее будут строиться при помощи таких заместителей, т. е. опять приобретут преимущественно коммуникативную форму, снимающую – по закону отрицания отрицания – привычные нам формы, в каком-то смысле возвращающие уже на достигнутом техническом уровне «живую коммуникацию». На мой взгляд, если мы хотим заглянуть в будущее, простраивая идеальные объекты для завтрашнего дня, то не учитывать этого нельзя; по-иному, в частности, необходимо будет трактовать и соотношение мыследеятельности и сознания. Продвинутая компьютеризация, например, воздействует на индивидуальные сознания за счет возможности их подключения – и легкого подключения – по надобности к общему (общим) электронному «со-знанию», что не может не сказаться не только на их «наполнениях», но и на структурах и способах организации. Более того, думается, что мы находимся перед началом самых разнообразных (удачных и не очень) имитаций мыслительных (в узком смысле слова) и даже мыследеятельностных процессов. Ко всему этому необходимо отнестись. Если в шутку, то мне вспоминается трактат одного из первых наших кибернетиков, очень способного и одаренного воображением инженера А. Михневича. Весьма знаменателен финал текста: «Настанет время, когда последнего человека сдадут в музей Истории человечества»…
Выделение трех вышеуказанных рамок имело для меня две цели: обосновать, насколько я мог, необходимость самой постановки проблемы соотношения мыследеятельности и сознания, и как бы положить пути ее обсуждения. Важно, чтобы обе эти цели были; реализовываться другими они будут по-другому: иными будут рамки, иными их развороты, выживут же наиболее удачные.
Вернусь к самому началу данных заметок, к трехчленке разворачивания смысла «предыстория – обнаружение – рефлексия с рационализацией». Рамки задают, определяют предысторию как некоторую объективность, как то, в чем происходит наше движение; в ситуативной предыстории и в истории возникает обнаружение смысла. В цепи конкретных событий нечто вдруг становится принципиально важным; к рефлексии с рационализацией сейчас и предстоит перейти.
3. Соотношение мышления (мыследеятельности) и сознания можно проанализировать следующими тремя основными заходами: от мышления к сознанию; от сознания к мышлению; в объемлющем контексте. Первый ход опирается в основном на игровую практику; второй эксплицитно никогда не провозглашался, да и не мог провозглашаться, но богатейший материал для него накопился, на мой взгляд, в «проектировочном» периоде развития ММК; третий ход предполагает возвращение – конечно, с учетом всего накопленного – к теоретико-деятельностным разработкам первого периода, в том числе, необходимо подчеркнуть, к разработкам по семиотике.