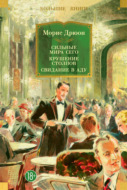Czytaj książkę: «Свидание в аду»
Maurice Druon
RENDEZ-VOUS AUX ENFERS
Copyright©1968 by Maurice Druon
© Я. Лесюк, перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство Иностранка®
© Серийное оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013
Издательство Иностранка®
* * *
Эта книга посвящается Донин де Сен-Совёр
Глава I
Бал чудовищ
1
Когда на каком-нибудь празднестве ожидалось прибытие того или иного министра, полицейская префектура была обязана направлять туда блюстителей порядка во главе с офицером; вот почему во вторую половину весны не проходило и дня, чтобы у подъезда дома какого-либо академика или редактора солидной газеты, герцогини, видного адвоката или крупного банкира не располагался наряд специальной охраны, который регулировал уличное движение и выстраивал автомобили длинной цепочкой.
На каштанах, окаймлявших улицы, «догорали» последние белые свечи; на лужайках Тюильри у ног мраморных статуй и юных парочек, застывших на скамейках в страстном поцелуе, пламенели тюльпаны.
Итак, каждый вечер, между пятью и восемью часами, в узких переулках возле Лувра и на запруженной площади Оперы, позади огромных зеленых автобусов, битком набитых ехавшими с работы усталыми людьми, быстро катился поток личных автомобилей: в них, нетерпеливо ерзая на кожаных подушках, восседали сильные мира сего или люди, считавшие себя таковыми либо желавшие таковыми стать. И для любого из них каждая потерянная минута служила источником жестоких терзаний.
Весенний сезон в Париже был в самом разгаре.
Три сотни светских дам одна за другой переставляли с места на место мебель в своих гостиных и до блеска начищали столовое серебро, приглашали официантов из одних и тех же ресторанов, опустошали одни и те же цветочные магазины, заказывали у одних и тех же поставщиков одинаковые печенья и пирожные, выстраивали целые пирамиды одинаковых бутербродов из пшеничного или ржаного хлеба с одними и теми же салатами или анчоусами; после ухода гостей хозяйки неизменно обнаруживали, что их квартира выглядит так, будто в ней побывала на постое целая армия: на диванах валялись пустые бокалы и грязные тарелки, ковры были прожжены сигаретами, скатерти покрыты пятнами, на инкрустированных столиках виднелись липкие кружочки от рюмок с ликерами, а цветы, отравленные дыханием множества людей, бессильно клонили долу увядшие головки; и тогда элегантные дамы без сил опускались в кресла и неизменно произносили одну и ту же фразу:
– А в общем все прошло очень мило…
И на следующий день – либо уже в тот же вечер – они, превозмогая мнимую или действительную усталость, устремлялись на точно такие же приемы.
Ибо все те же сотни людей, составлявших цвет парламента, литературы, искусства, медицины, адвокатуры, самые могущественные финансисты и дельцы, самые примечательные из приезжих иностранцев (а они зачастую специально приезжали ради такого рода приемов и раутов), самая многообещающая и ловкая молодежь, самые богатые из богатых, самые праздные бездельники, самые сливки аристократии, самые светские завсегдатаи светских салонов встречались здесь, толклись в духоте, улыбались, обнимались, лобызались, злословили и ненавидели друг друга.
Появление новой книги, премьера нового фильма, сотый спектакль, возвращение какого-либо путешественника, отъезд дипломата, очередной вернисаж, новый рекорд пилота – все служило поводом для подобных сборищ.
Каждую неделю какой-либо кружок с помощью прессы открывал нового «гения», ему суждено было блистать два-три месяца, после чего он угасал в удушающей атмосфере собственного успеха подобно тому, как угасает факел в собственном чаду.
Париж в ту пору демонстрировал наряды, драгоценности, украшения – все, что производила промышленность, служа искусству и моде. Воображение и вкус, равно как и деньги, без счета расходовались на туалеты, драгоценности и украшения.
Столица Франции являла собой величайшую ярмарку тщеславия, пожалуй единственную в мире! Что же побуждало этих людей устраивать у себя приемы и ходить на приемы к другим, приглашать к себе в гости и самим бывать в гостях, делать вид, будто им необычайно весело, хотя на самом деле им было смертельно скучно танцевать из учтивости с теми, кто был им неприятен, и – из ложной скромности – не танцевать с теми, кто был мил их сердцу, огорчаться, если их фамилия отсутствовала в списке приглашенных, и притворно жаловаться всякий раз, когда они получали очередное приглашение, восторгаться творениями, авторов которых они презирали, и самим сносить презрение от тех, кем они восхищались, заискивающе улыбаться лицам, которые оставались к ним равнодушными, громко заявлять о своей мизантропии, о своем стремлении бежать от шумного света и расточать в этой незамысловатой игре свое время, силы и состояние?
Дело в том, что на этой ярмарке, где всякий был одновременно и продавцом, и покупателем, где каждый что-либо предлагал и ему самому что-либо предлагали, происходил самый тонкий товарообмен на свете – его предметом были могущество и успех.
Так как успех и влияние – что бы ни говорилось обычно – не продаются: ими только обмениваются.
Самодуров по природе, людей, злоупотребляющих властью, прирожденных взяточников, мздоимцев, лизоблюдов, содержанок по призванию на свете гораздо меньше, чем принято думать.
Правила игры гораздо тоньше: тут все основано на взаимных услугах, это упорный труд «человеческих пауков», ибо каждый, желая соткать паутину, должен помогать другим заниматься тем же.
Ярмарка тщеславия была вместе с тем и ярмаркой женщин и мужчин, ибо влияние и успех лишь прокладывают путь к любви, если только они, в силу необходимости, не заменяют ее…
Представители власти, принимая, как и другие, участие в этом смотре истинных и фальшивых ценностей, сообщали ему тем самым официальный характер.
Ночью фронтоны величественных зданий освещались мощными прожекторами, придававшими архитектурным ансамблям, барельефам, колоннадам и балюстрадам нереальный феерический вид. Фонтаны на площади Согласия были окутаны светящейся водяной пылью. По лестницам театров, получавших государственные субсидии, мимо гвардейцев, стоящих по краям ступеней в белых лосинах и касках с конскими гривами, поднимались высшие сановники Республики, дабы представительствовать на пышных празднествах, из приличия именовавшихся благотворительными.
Сверх всего прочего в тот год должна была распахнуть свои двери Всемирная выставка – последняя в длинном ряду таких выставок, происходивших с 1867 года; выставки эти породили пять поколений павильонов, отделанных под мрамор, множество рекламной литературы и золотых медалей. Словом, тем летом в Париже ожидалось два «сезона», и к участию во втором из них предполагалось, хотя бы частично, привлечь народ – потому что время от времени это приходится делать.
2
Симон Лашом приехал на вечер к Инесс Сандоваль за несколько минут до того, как часы пробили полночь. Двенадцать дней назад он получил такое приглашение:
Графиня Сандоваль надеется видеть Вас у себя в числе близких друзей на БАЛУ ЖИВОТНЫХ (в передней Вы найдете маску, которую придумал и нарисовал специально для Вас Ане Брайа)
«Ага, – сказал себе Симон, – в это время года она охотно именует себя графиней. Оно и понятно – ведь сейчас Париж наводнен иностранцами…»
Действительно, зимой, драпируясь в изысканно простую тогу литературной славы, поэтесса на время отбрасывала свой титул.
Огромная квартира Инесс Сандоваль, расположенная, а вернее сказать, построенная над вторым этажом старинного особняка на Орлеанской набережной, своим убранством напоминала просторную каюту капитана пиратского корабля. Поэтесса любила драгоценные камни без оправы – она держала их в позолоченных дароносицах, – тяжелые старинные шелка с бахромою по краям, православные кресты, статуэтки испанских мадонн с ожерельями из потускневшего жемчуга на шеях, гитары самых причудливых форм и массивные лари эпохи Возрождения из дерева дымчатого оттенка. Расшитые золотом парчовые драпировки из двух полос заменяли двери.
В передней стояла большая вольера: ее населяли голубые попугаи, желтые канарейки, пестрые колибри, наполнявшие воздух громким щебетанием и приторным запахом перьев. Ангорские коты с густой светло-коричневой шерстью при виде входящих бесшумно убегали в коридоры, а в их золотистых глазах, казалось, можно было прочесть тайные укоры совести или просто печаль о том, что они кастрированы.
Убранство передней довершали фигуры зверей и птиц под стеклянными колпаками: попугаи из саксонского и севрского фарфора, у которых словно замер в горле крик, большие фаянсовые мопсы, сидевшие на ковриках, деревянные черепахи в настоящих панцирях, развешанные по стенам причудливые изображения тигров и ягуаров, бьющие в барабан кролики, плюшевые бегемоты, каких обычно дарят детям.
Пристрастие к животным и подсказало Инесс Сандоваль идею ее бала-маскарада.
– Добрый вечер, господин министр. Тут, кажется, приготовлена маска для вашего превосходительства, – сказал Симону слуга в черном фраке.
«Откуда этот малый знает меня?» – подумал Симон. Потом он сообразил, что этот лакей раз шесть за последнюю неделю подавал ему напитки и в шести различных передних протягивал шляпу и перчатки.
На большом столе, где в начале вечера были сложены звериные маски обитателей зоологического сада, теперь оставалось лишь несколько масок; внимательно оглядев их, слуга подал министру спрута, сделанного из картона и тюля.
Симон улыбнулся своим воспоминаниям.
В дни их недолгой связи (в любовной хронике Лашома Инесс Сандоваль следовала за Мартой Бонфуа) поэтесса обычно говорила ему:
– Ты мой обожаемый спрут. Руки твои сжимают меня и увлекают в подводные глубины блаженства.
И вот – девять лет спустя – эта маска осьминога деликатно напоминала о прошлом.
«Только бы не было фотографов, – мелькнуло в голове у Симона. – Впрочем, если они появятся, то уж лучше быть в маске».
Скопище фантастических существ – полулюдей-полуживотных, вернее, полулюдей-получудовищ – походило на кошмар. «Близких людей» набралось около двухсот, и их громкие голоса порою заглушали звуки музыки. Для бала Инесс Сандоваль ультрасовременный художник Ане Брайа видоизменил животное царство: рожденные его воображением маски населили мир фантастическими существами, он на собственный лад переделал все то, что Иегова создал в пятый день творения. Взъерошенные совы с фиолетовым оперением и золочеными клювами, гигантские мухи, чьи глаза метали латунные молнии, кролики в леопардовых шкурах, змеи с несколькими языками, на которых было написано: «французский», «английский», «немецкий», «испанский», кошки из гранатового бархата, бараны с проволочным руном, желтые ослы, изумрудные рыбы с торчащими над их головами ручными пилами или игрушечными молотками, моржи с телеграфными знаками на мордах и фарфоровыми изоляторами у висков, лошадиные черепа, майские жуки, покрытые перьями, синие амфибии и зеленые пеликаны щеголяли во фраках и в длинных вечерних платьях. Какой-то кавалер ордена Почетного легиона водрузил на себя голову розового льва, украшенную жандармскими усами. Слоновьи хоботы из гуттаперчи свисали на крахмальные манишки. Обнаженные женские руки с бриллиантовыми браслетами поднимались не для того, чтобы провести пуховкой по лицу, а для того, чтобы поправить гребешок цесарки или рыбий плавник.
Гостям явно нравился спектакль, в котором они участвовали, все забавлялись тем, что входили в роль животных, которых изображали их маски. Со всех сторон неслось кудахтанье, рев, мычание, кваканье. Какой-то сиреневый боров расталкивал толпу и беззастенчиво ворошил своим «пятачком» платья на груди у женщин.
В один из салонов набилось особенно много двуногих чудовищ, и они топтались на месте, раскачиваясь под звуки оркестра. Музыканты были наряжены обезьянами; музыки почти не было слышно. И гостиная эта казалась каким-то адским котлом, где в собственном соку варились уродливые твари, вызванные к жизни кошмарным бредом больного.
Хозяйка дома переходила от одной группы гостей к другой; лицо ее было наполовину скрыто маской диковинной птицы, возле ушей покачивались два больших зеленых крыла, задевавшие всех встречных. То была невысокая женщина с обнаженными смуглыми плечами, ногти ее покрывал лак цвета запекшейся крови, зеленое платье было того же оттенка, что и крылья на голове.
Инесс Сандоваль на ходу чуть покачивала бедрами: это объяснялось тем, что ее правая нога была немного короче левой, но она сумела обратить себе на пользу даже свой физический недостаток. Поэтесса двигалась вперед, словно слегка вальсируя и как бы отбрасывая невидимый шлейф: казалось, она на каждом шагу готова сделать реверанс.
Каждой своей фразой она создавала у собеседника иллюзию, что он имеет дело с необыкновенно благородным и отзывчивым существом.
Когда ее поздравляли с на редкость удавшимся вечером, она отвечала:
– Но я тут ни при чем, абсолютно ни при чем. Все дело в таланте Брайа и в ваших дружеских чувствах.
Ане Брайа, низенький и косолапый толстяк в башмаках с задранными кверху носками, обращал на себя внимание копной спутанных волос и огненно-рыжей бородой; на нем был поразительно грязный смокинг: можно было подумать, что, перед тем как появиться в гостиной, он по рассеянности прижал к груди палитру с красками; выслушивая похвалы, он склонялся в поклоне, выпячивая при этом живот. Лицо его скрывала маска козла, которую он придерживал за деревянную ручку, – то был козел античной комедии1; язвительная усмешка ясно говорила окружающим: «Недурно я над вами посмеялся, не правда ли?..»
Без сомнения, бал-маскарад обошелся очень дорого, и многие из гостей спрашивали себя, как могла Инесс Сандоваль решиться на такие расходы и каким образом Брайа, постоянно заваленный заказами и вечно сидевший без гроша, умудрился найти время, чтобы нарисовать все эти маски.
Композитор Огеран, вырядившийся тритоном («чтоб наконец дельфину мог сесть Орфей на спину…» – шепнула Инесс на ухо Симону), ухватив Лашома за лацкан фрака, украшенный орденской ленточкой, увлек его в угол и вполголоса раскрыл ему тайну.
Все объяснялось очень просто: оказывается, сказочно богатая миссис Уормс-Парнелл, гигантского роста старуха, которую Брайа превратил в этот вечер в голубку, заказала полный комплект масок для такого же маскарада, который она собиралась устроить у себя в Америке; кроме того, внезапно возникла мысль обессмертить праздник, выпустив в роскошном издании ограниченным тиражом акварели Брайа со стихотворными надписями Инесс Сандоваль: разумеется, «близким друзьям» неловко будет не подписаться на это издание, оно должно было принести двести тысяч франков чистого дохода.
Какой-то фотограф приблизился почти вплотную к композитору и министру просвещения, увлеченным пересудами, и чуть было не ослепил их. У Лашома вырвался нетерпеливый жест. И в тот же миг при яркой вспышке магния он увидел, что к нему направляется Сильвена Дюаль в маске лангусты. Нарочито небрежная походка актрисы, ее чуть вздрагивающие плечи, пальцы, которые нервно теребили медальон, усыпанный драгоценными камнями, – все говорило Симону о неизбежной семейной сцене, и он поспешил отойти от композитора.
Он взял руку Сильвены с таким видом, словно не встречался с нею в этот день, будто она не была его официальной, признанной любовницей, и машинально поднес эту руку к своей маске.
Он почувствовал, что окружающие их чудовища внимательно наблюдают за ними.
– Теперь ты не станешь отрицать, что без особого труда мог заехать за мною или, на худой конец, прислать свою машину, – проговорила Сильвена. – Я уже не в первый раз замечаю, что, когда тебя привлекает какой-либо бал, правительственные обязанности не мешают тебе освобождаться раньше, чем обычно. Разумеется, ради меня не стоило опаздывать даже на пять минут на эту очаровательную танцульку, глупее которой трудно себе что-нибудь представить!
На ней было платье из переливчатой ткани цвета морской волны, усеянное блестками; оно плотно облегало бюст и бедра, сужалось к икрам и вновь расширялось у щиколоток, образуя нечто вроде рыбьего хвоста; платье это подчеркивало чувственность, присущую Сильвене и всем ее движениям.
Актриса была вне себя от ярости: во-первых, она не попала в объектив фотоаппарата и потеряла возможность красоваться на газетной полосе рядом со «своим» министром; во-вторых, в маске лангусты, выбранной для нее Инесс Сандоваль, она усматривала обидный намек; в-третьих, Симон Лашом без нее приехал на этот вечер.
С раздражением отбрасывая щупальца из тюля, болтавшиеся у него на груди, Симон ответил, что заседание кабинета министров закончилось раньше, чем предполагалось, а приехал он на этот бал исключительно из дружеских чувств.
– Вернее, потому, что десять лет назад ты спал с хозяйкой дома. Уж мне-то хорошо известно! – отрезала Сильвена. – А когда господин министр посещает своих прежних подружек, он не желает являться к ним вместе со мною, боится подчеркнуть нашу близость! До чего же ты трусливо ведешь себя в присутствии этих женщин, мой бедный Симон!.. Сегодня ты можешь быть доволен – они все тут собрались. Здесь и твоя дражайшая Марта Бонфуа, которая тебе в матери годится, здесь и…
– А у тебя, бедняжки, тут нет ни одного знакомого, никаких воспоминаний, не так ли?! – взорвался Симон. – Ты чиста и невинна, как девственница. Далеко ходить за примерами не придется, разве Вильнер не здесь? – спросил он, протянув руку в том направлении, где стоял высокий плотный человек в маске быка Аписа с золотыми рогами, в котором нетрудно было узнать прославленного драматурга. – И если бы эта, как ты выражаешься, танцулька происходила в доме кого-либо из твоих дружков, ты бы нашла ее великолепной.
Сквозь прорези масок лангуста и спрут бросали друг на друга взгляды, полные ненависти. Оба старались говорить тихо, как будто вели среди шумного веселья интимную беседу. Но их собственные голоса гулко отдавались под картонными масками, наполняли жужжанием их уши и распаляли злобу.
– Во всяком случае, я никогда не стыжусь появляться с тобою на людях, – продолжала Сильвена.
– Еще бы, тебе это только на пользу, – отпарировал Симон.
Ценою долгих и упорных усилий, нажима, интриг ему недавно удалось добиться, чтобы Сильвену приняли в труппу театра «Комеди Франсез», и он полагал, что получил право несколько недель пожить спокойно.
– Негодяй! Негодяй и… к тому же невежа, – прошипела Сильвена. – Ну что ж! Если так, забавляйся в свое удовольствие, мой милый, я тоже постараюсь не терять времени.
Их разговор был прерван появлением лакея, разносившего на подносе напитки.
«Она всю жизнь останется потаскушкой», – подумал Симон, удаляясь. И ему показалось, что с их связью надо непременно и поскорее покончить. Но он уже твердил себе это пять лет подряд. Еще никогда он так часто не думал о разрыве с любовницей, как во время своей связи с Сильвеной. Должна же эта мысль в один прекрасный день осуществиться!
«Если человек не решается бросить женщину, которую презирает, то, может, и сам он достоин презрения?» – вот вопрос, все чаще и чаще приходивший в голову Симону.
И он спрашивал себя, где та женщина, которая поможет ему освободиться от Сильвены. За последнее время у него было несколько мимолетных любовных приключений, о которых он умалчивал, но ни одна из этих случайных подруг не внушила ему истинного чувства.
Кто же ему когда-то сказал?.. Кажется, Жан де Ла Моннери – да-да, именно старый поэт однажды сказал ему: «Позднее вы сами убедитесь, что начиная с определенного возраста мы влюбляемся в женщину лишь потому, что хотим освободиться от другой. И с этой поры наши романы приносят нам только адские муки».
3
На костюмированных балах, особенно на балах такого рода, все очень быстро узнают друг друга, и если гостям не удается угадать, кто скрывается под той или иной маской, значит, эти люди им не знакомы. И потому гости Инесс Сандоваль были заинтригованы внезапным появлением таинственной пары: буйволы, совы, кролики, носороги собирались в кружки, клювы наклонялись к мохнатым ушам, повсюду слышался один и тот же негромкий вопрос: «Кто это?»
Вновь прибывшие были очень молоды и, насколько можно было судить, очень хороши собой. У юноши – высокого и тонкого, казавшегося особенно стройным благодаря фраку, – были изящные белые руки, красиво выступавшие из манжет; он благородным движением поднимал к лепному потолку голову белого оленя, увенчанную длинными серебряными рогами. Девушка (а может статься, молодая женщина – об этом невозможно было судить) была в белом платье, походившем на античное одеяние; ее лицо скрывала маска черной лани. Она была великолепно сложена; ее фигура не отличалась таким изяществом, как фигура юноши, но гибкое девичье тело привлекало красивой округлостью форм.
«Эта девочка, должно быть, восхитительна», – подумал Симон, провожая взглядом парочку, направлявшуюся к Инесс Сандоваль; из любопытства он тоже подошел к поэтессе.
– Дорогой друг, пригласите потанцевать прелестную незнакомку; у нее с вами много общих воспоминаний, хотя она о том и не подозревает, – обратилась Инесс к Лашому.
– Кто же она? – шепотом спросил он.
– Нет, мой милый, – воскликнула поэтесса, – пусть она сама вам скажет, если захочет! Сегодня вечер тайн.
И она удалилась, увлекая за собою юношу в маске оленя.
Музыканты-обезьяны играли танго, и танцоры медленно двигались, покачивая своими фантастическими головами.
Рука Симона обняла талию незнакомки. Сквозь плиссированный шелк платья он ощутил гибкую, упругую спину. Он знал, что танцует плохо, но в темноте это не имело значения. Достаточно было только подчиняться движению толпы. Юный стан его партнерши, не слишком податливый, но и не сопротивлявшийся, ее грациозные движения и почти невесомая спокойная рука, доверчиво лежавшая в его руке, – все наполняло Симона удовольствием и смутным предчувствием любовного приключения.
– И все же кто вы такая? – спросил он.
Он приготовился к тому, что маска станет интриговать его, прибегнет к нехитрой игре: «Угадайте!..» – «Француженка?..» – «Нет, не француженка…» – «Замужем?» – «Тоже нет… Горячо, холодно…»
Незнакомка посмотрела на танцующих и сказала:
– Вы не находите, что это напоминает картины Иеронима Босха?
У нее был звонкий, хорошо поставленный голос.
Потом она просто прибавила:
– Я Мари-Анж Шудлер.
– Быть не может! – воскликнул Симон. – Вы – дочь Жаклин и Франсуа? О! Как это необыкновенно! Теперь я понимаю, почему Инесс…
От изумления он сбился с такта и, словно это могло помочь ему увидеть лицо девушки, машинально приподнял свою маску.
Глазные впадины спрута, зиявшие надо лбом Симона, и щупальца, сбегавшие на его манишку, придавали ему вид неведомого и злобного морского божества, внезапно всплывшего из бездонных пучин.
– Я Симон Лашом, – проговорил он.
– О да! Вы и в самом деле хорошо знали всю нашу семью, – произнесла Мари-Анж Шудлер, ничем не выказав своего удивления. Немного спустя она прибавила: – Я очень польщена, что танцую с вами, господин министр.
Симон так и не понял, была ли в этих словах вежливая ирония, или они были просто продиктованы почтительностью.
Но маску Мари-Анж так и не сняла.
– А ведь всего минуту назад, – снова заговорил Симон, – я как раз думал о вашем деде Жане де Ла Моннери… Знаете, я помню вас совсем крошкой. И вот теперь… Жизнь поистине удивительна!.. Впрочем, если разобраться, все это, в сущности, совершенно естественно и поражает только нас самих… Мари-Анж! – прошептал он, словно желая убедить себя в чем-то неправдоподобном.
И внезапно в уме Симона пронеслись воспоминания десяти-, пятнадцати– и даже семнадцатилетней давности.
В самом деле, что такое пятнадцать лет в человеческой жизни? И вдруг они обрушиваются на вас, как лавина!
– Сколько же вам теперь лет?
– Двадцать два.
– Да, конечно… – пробормотал Симон.
Итак, девочка, которую гувернантка держала за руку в день торжественных похорон поэта, шалунья в белых носочках, игравшая в саду на авеню Мессины, превратилась во взрослую девушку, в молодую женщину, чье тело волновало его своей близостью и тайной… И Симон ощутил то изумление, какое обычно испытывают люди, внезапно обнаружив, что вчерашние дети выросли, повзрослели, стали независимыми и самостоятельными.
«Девственница она еще или уже нет?» – спросил он себя. Ощущая, как естественно и непринужденно – без вызова, но и без робости – держится она, когда прикасается к нему в танце плечом, грудью или бедром, он был склонен считать, что Мари-Анж уже не девушка… Непроницаемая под своей маской, она безмолвствовала. «В сущности, я, должно быть, ей уже наскучил. Ей, вероятно, смертельно надоели люди, которые только и делают, что твердят: „Я хорошо знал вашего отца, вашу мать, вашего дедушку!“ Конечно, женщине приятней, когда интересуются ею самой. И потом, если мужчина не хочет, чтобы женщина относилась к нему как к старикашке, не следует, пожалуй, говорить ей: „Я держал вас на коленях, когда вы были еще ребенком“».
– А кто этот молодой человек, с которым вы пришли? – спросил он.
– Мой брат, Жан-Ноэль, – ответила она.
«А, теперь я все понимаю…» – подумал Симон. Он вспомнил, что на днях ему говорили, будто юный Шудлер и Инесс Сандоваль… Лашом поискал глазами обоих, но не нашел.
Почти задев Симона и Мари-Анж своими крыльями, мимо них проплыла в танце огромная бабочка.
– Вы никогда не думали, – спросила девушка, – о том, что некоторые бабочки, живущие всего двое суток, рождаются в пору ненастья? Всю их короткую жизнь льет дождь, и они не представляют себе, что мир может быть иным.
Она проговорила это без аффектации, тем же ровным тоном, каким отвечала на его вопросы.
Симон терялся в догадках: что могла означать эта фраза?
– Ваши слова звучат как стихи Инесс Сандоваль, – заметил он.
– Да?.. Очень жаль, – вырвалось у девушки.
– Почему? Разве вы ее не любите?
– Нет, отчего же. – Ответ Мари-Анж прозвучал так же бесстрастно и холодно, как и все, что она говорила.
Картины Босха… Бабочки, рождающиеся в пору ненастья… Эта девушка поразила воображение Лашома, ее непросто было понять… А быть может, она кажется столь непроницаемой лишь в силу своей молодости.
– Не хотите ли выпить бокал шампанского? – предложил он.
Он жаждал расспросить Мари-Анж, узнать, как она живет, чем занимается, помолвлена ли она…
Узнать ему удалось лишь одно: она работает в салоне мод.
4
Тем временем Инесс Сандоваль увлекла Жан-Ноэля Шудлера в переднюю, к вольере. Звуки оркестра и шум голосов звучали здесь приглушенно, смягченные парчовой портьерой. Попугаи устало хлопали веками и жались друг к другу.
В своей зеленой маске Инесс Сандоваль походила на огромную хищную птицу.
– Почему ты пришел так поздно, милый? – спросила она.
– Из-за бабушки. Это конец. Мы даже боялись, что совсем не сможем прийти, – ответил Жан-Ноэль. – Надеюсь, этой ночью она не умрет.
– Ах, мой бедный мальчик, как это ужасно… Ты очень любишь свою бабушку?
– Нет… – вырвалось у юноши.
И оба рассмеялись, покачивая своими картонными масками.
– Я впервые вижу тебя во фраке, мой прелестный юный олень, – сказала Инесс Сандоваль.
Она взяла его за плечи и легонько повернула, чтобы осмотреть со всех сторон.
«Неужели заметно, что фрак сшит не на меня?» – с тревогой думал Жан-Ноэль. У него не было денег, чтобы заказать себе новый фрак у портного. И он пришел на бал во фраке, перешитом из фрака его бывшего отчима Габриэля Де Вооса, который обнаружили почти новым и не тронутым молью в одном из шкафов.
Жан-Ноэль был в том возрасте, когда люди еще не умеют смеяться над денежными затруднениями и уверенность человека в себе находится в прямой зависимости от его внешности и костюма. Юноша чувствовал себя в этом перешитом фраке так неловко, будто взял его напрокат.
«Ну, после смерти бабушки все это немного переменится», – подумал он.
– Ты поистине красив, необыкновенно красив, мой ангел, – прошептала Инесс.
Она приподняла маску и, слегка припадая на ногу, остановилась перед зеркалом, чтобы взглянуть, не стерся ли грим на ее лице.
У нее были большие черные глаза – в них, как в горных озерах, порою пробегали фиолетовые огоньки, густые, очень темные волосы, которые она укладывала так, чтобы они слегка ниспадали на шею, смуглая матовая кожа, ровные мелкие зубы. Но все это уже как-то потускнело.
Таинственные жизненные соки, придающие коже шелковистость и мягкость, а волосам блеск и пышность, уже начинали, видимо, у нее иссякать; на лбу обозначились три тонкие морщинки; эмаль зубов еще не потемнела, но уже потеряла свой ослепительный блеск, а взгляд то горел лихорадочным огнем, то поражал безжизненной вялостью: вспышки молний внезапно уступали место выражению равнодушия и усталости.
Инесс вступила в ту пору жизни, когда физическая привлекательность человека постепенно угасает. Правда, поэтессе было уже сильно за сорок, и многие женщины полагали, что жаловаться ей не на что.
Жан-Ноэлю, который ни на кого больше не смотрел, никого и ничего не замечал, Инесс казалась божеством. Ему только что исполнился двадцать один год. Она была для него не первым любовным приключением, а первой настоящей любовью. Некий ореол, видимый лишь ему одному, точно нимб, окружал в его глазах голову Инесс.
Он знал о ней лишь то, что она сама пожелала ему открыть, – историю ее замужеств и вдовства – и поэтому считал ее женщиной, которая много страдала (это, кстати, было правдой), и она сумела внушить ему, что его любовь послана ей в утешение за прошлые муки.
Жан-Ноэль с радостью терял целые дни ради двух часов, которые она уделяла ему (или требовала, чтобы он уделял ей), – беспорядочная жизнь поэтессы не оставляла им больше времени!
Он знал, что в свое время из-за нее покончил с собой какой-то молодой писатель. А ведь еще она перенесла и смерть двух мужей, и потерю ребенка.
Но Жан-Ноэль знал далеко не все – не знал он, в частности, что за Инесс Сандоваль укрепилась репутация женщины, приносящей несчастье.
Он взял ее маленькую, сухую и смуглую кисть и крепко сжал в своих белых руках.
– Я люблю тебя, Инесс, – чуть слышно произнес он.
– Да, радость моя, ты должен любить меня, любить бесконечно. Я так нуждаюсь в этом, чтобы жить… – ответила она. – А теперь пойдем… Неудобно надолго оставлять гостей одних.
5
Наступил час, когда утомленные гости начали снимать маски. Одни поднимали их на лоб, наподобие древних шлемов, другие обмахивались ими, третьи забавлялись тем, что обменивались масками и гляделись в зеркала. Те, кто заехал «только на минутку», собирались покинуть бал.
Darmowy fragment się skończył.