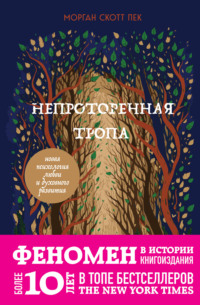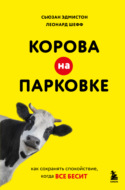Czytaj książkę: «Непроторенная тропа. Новая психология любви и духовного развития», strona 3
Готовность к испытаниям
Что означает быть преданным правде? Прежде всего – беспрерывно и беспощадно подвергать себя самоанализу. Мы познаем мир только через наши с ним взаимоотношения. Следовательно, чтобы познать мир, нужно одновременно исследовать и его, и самого исследователя, то есть себя. Поэтому психиатрам рекомендуют проходить курс собственной психотерапии, или психоанализа, чтобы впоследствии лучше понимать пациентов.
К сожалению, не все следуют этой рекомендации. Многие люди, в том числе и психиатры, готовы со всей строгостью анализировать мир, но забывают об этой строгости в отношении себя. Поэтому многим, даже весьма компетентным специалистам, недостает мудрости.
Жить в мудрости – это созерцать и действовать. До сей поры в американской культуре созерцание было не в почете. В 50-е годы американцы прозвали Эдлая Стивенсона «яйцеголовым» и вынесли вердикт, что хорошего президента из него не выйдет, главным образом из-за того, что он склонен к созерцанию, задумчивости и сомнениям.
Я не раз слышал, как родители со всей серьезностью говорят детям: «Ты слишком много думаешь». Что за бессмыслица! Люди тем и отличаются от животных, что способны думать и анализировать самих себя.
Исследовать внутренний мир всегда сложнее и болезненнее, чем внешний. По этой причине большинство уклоняется от этого. Но, если уж решиться идти за правдой до конца, чем дальше идет человек по пути самоисследования, тем менее ощутимой становится эта боль.
Быть преданным правде означает также быть готовым принять вызов, готовым к испытаниям. Единственный способ убедиться, что наша карта максимально объективна, – позволить другим картографам судить и критиковать ее. Иначе можно оказаться в замкнутой системе – в этакой красивой банке, по аллегории Сильвии Плэт, – где нет свежего воздуха и приходится дышать собственными испарениями, все больше теряя связь с реальностью.
Зачастую мы просто боимся, что кто-то (особенно если это дети, ученики или подчиненные) увидит, что наши карты ошибочны, давно устарели, не соответствуют действительности. Мы боимся потерять авторитет или растеряться на их глазах, зависнуть в положении, когда старый ответ уже неверен, а новый, верный, еще не найден и не сформулирован. И тогда мы часто пресекаем на корню любые посягательства или сомнения в истинности наших карт. Мы говорим детям: «Не спорь со мной, я твой отец и лучше знаю, я это уже пережил».
Однажды начальник штаба армии направил меня расследовать в войсках психологические причины жестокости и последующего укрывательства. Целью расследования было предупредить подобное поведение в будущем. Однако генералитет армии расследования не одобрил из-за невозможности обеспечить секретность. Мне было сказано буквально следующее: «Сам факт такого расследования может подвергнуть нас новой критике. Командующему армией в настоящее время критика не нужна».
Стремление избегать критики присуще любому человеку. Но естественное поведение не обязательно полезное и не нуждающееся в корректировке. Разве естественно чистить зубы и ходить в туалет в специально отведенные для этого места, а не просто под кустом? Мы учимся делать неестественные вещи, и в какой-то момент они становятся «второй натурой», делаются на автомате. Это еще одно отличие нас, людей, от животных: мы способны делать неестественные вещи, выходить за рамки своей природы и тем самым ее преобразовывать. А самодисциплина в этом свете и есть приучение себя к неестественному.
Естественна ли психотерапия? Нет. Человеку нужно мужество, чтобы поделиться с другим своими комплексами, проблемами, влечениями, страхами, чувством вины. Добровольно подвергнуть себя глубочайшей критике, да еще и заплатить за это. Человек на кушетке в кабинете психоаналитика – символ открытости.
Женщина с аккуратной прической приходила ко мне уже не раз, но с какого-то времени, поднимаясь после сеанса с кушетки, стала заново укладывать волосы. Я спросил, почему она делает это сейчас и не делала ранее. Покраснев, пациентка рассказала: после одного из последних сеансов муж заметил, что у нее немного примята прическа на затылке. «Я просто промолчала и сменила тему. Если он узнает, что я лежу тут на кушетке, будет дразнить меня». Так у нас появилась еще одна тема для работы.
Психотерапия эффективна, когда дисциплина, выработанная в кабинете врача, начинает распространяться и за его пределы, во все остальные сферы жизни пациента. Открытость должна стать образом жизни. Лечение нельзя назвать законченным или успешным, пока эта женщина не станет такой же открытой с мужем, как и со мной.
Многие скажут, что на лечение не хватает денег. На самом деле в большинстве случаев не хватает храбрости. Не хватает ее и психиатрам, которые увиливают от персональной терапии, хотя понимают, что им она еще более необходима, чем большинству пациентов.
Есть люди, которые бросают психотерапию чуть ли не после первого сеанса – или продолжают ходить, но активно сопротивляются лечению. Одна из причин: они шли за «облегчением», поддержкой и никак не ожидали, что их будут критиковать. Убедить их в том, что настоящее облегчение придет только через критику и дисциплину, совсем непросто. Про некоторых, кто лечится год или даже больше, психиатры говорят: «По-настоящему в терапию они еще не включались».
Один из способов «разговорить» пациента, вывести его на откровенный разговор – это техника «свободных ассоциаций». Предлагается говорить все, что приходит в голову, сколь бы неважным, глупым, неприятным или бессмысленным это ни казалось. Если одновременно в голову приходят сразу две мысли, высказывать нужно ту, которая неудобна, которую хотелось бы умолчать. Пациенты, освоившие эту технику, добиваются быстрых успехов.
Но некоторые лишь изображают «свободные ассоциации». Они могут подробно рассказывать то, за что их «пожалеют», и ни словом не обмолвятся о том, что их в данный момент больше всего беспокоит, потому что боятся критики. Так, например, женщина может целый час рассказывать о неприятных переживаниях детства, но «забудет» упомянуть, что на днях сняла с семейного счета тысячу долларов, не сказав об этом мужу, а когда он узнал, разразился скандал. В этом случае сеансы психотерапии – пустая трата времени для самого пациента.
Таким образом, третье значение полной преданности правде – совершенно честная жизнь. Честное общение. Когда и слова, и то, как мы их произносим, отражают реальность, такую, какой мы ее видим, и настолько точно, насколько способны ее выразить.
Подобная честность не приходит сама собой. Естественнее пытаться избежать критики и ее последствий. Вот почему мы врем. Ложь – это попытка перехитрить, обойти законное страдание.
С понятиями «обойти», «схитрить» тесно связана проблема «кратчайшего пути». Все ищут способ быстрее и легче прийти к своей цели. В таком случае разумно использовать всякий законный кратчайший путь для личного развития. Слово «законный» здесь ключевое. Человек склонен с одинаковым упорством как игнорировать законные кратчайшие пути, так и выискивать незаконные. Например, готовясь к экзаменам, можно «законно» прочитать краткое содержание книги вместо самой книги. Если этот текст составлен хорошо и материал усвоен, студент получает нужное знание, сэкономив силы и время. Еще больше времени можно сэкономить, если использовать на экзамене шпаргалку. Но это уже «незаконный» кратчайший путь, так как нужное знание не получено.
Подлинная психотерапия – законный кратчайший путь к личному развитию, но в него верят далеко не все. «Я боюсь, что психотерапия окажется чем-то вроде костылей, без которых мне потом будет трудно ходить самой». Применение психотерапии – это такие же костыли, как применение гвоздей и молотка для постройки дома.
В то же время психотерапия может стать и незаконным кратчайшим путем. Типичный случай – когда родители перекладывают свою ответственность за воспитание детей на психотерапевтов.
Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться к психотерапевту, когда собственные ресурсы помочь ребенку (употребляет наркотики, забросил учебу, агрессивен, ничего не хочет) уже исчерпаны. Но когда речь заходит о коренной причине проблем, которая обычно заключается в браке родителей, укладе жизни всей семьи, где фактически нет места для него, для его развития, тогда заявляют: «Давайте не будем касаться нашего брака, нам самим психотерапевт не нужен; займитесь лучше нашим сыном» – и уходят, негодуя, к другому терапевту, который не будет задавать неудобных вопросов. Через какое-то время они, вероятнее всего, будут рассказывать друзьям: «Мы сделали все, что могли, для нашего мальчика, ходили к четырем разным психиатрам – никто не помог. Это чистой воды надувательство и пустая трата денег».
Человек лжет не только другим, но и себе. Из миллионов видов лжи, адресованных самим себе, две самые типичные, мощные и губительные звучат так: «Мы по-настоящему любим наших детей» и «Наши родители по-настоящему любили нас». Для многих это истинная правда, но, когда это не так, на какие только удивительные хитрости не пускаются люди, чтобы избежать осознания правды!
«Игра в правду» – так я часто называю психотерапию, потому что ее задача, среди прочих, помочь пациенту восстать против лжи – одного из корней психической болезни. Лжи, которую мы слушали годами, и лжи, которую производим сами каждый день. Эти корни можно найти и удалить, только если в кабинете психиатра создастся атмосфера предельной честности, причем с обеих сторон. Нельзя ожидать от пациента того, что он справится с болью от столкновения с реальностью, если психиатр сам не терпит этой боли. Он может вести за собой лишь тогда, когда сам идет вперед.
Сокрытие правды
Ложь бывает белая и черная. Черная ложь – это заведомо ложное утверждение. Белая ложь – это утаивание значительной части правды. Причем, несмотря на название, белая может быть точно такой же разрушительной, как и черная.
Правительство, которое с помощью цензуры утаивает от народа существенную информацию, в той же степени недемократично, что и лживое правительство. Пациентка, которая «забыла» упомянуть о том, как, никому не сказав, сняла с семейного банковского счета тысячу долларов (и потратила их на шопинг), задерживает свое лечение точно так же, как если бы она прямо лгала психотерапевту. Поскольку утаивание правды меньше осуждается обществом и его сложнее обнаружить, оно и стало самой распространенной формой лжи.
Часто я слышал такое оправдание белой лжи: «Я не хотел(а) ранить ее (его) чувства». Особенно это распространено среди родителей, которые хранят в страшном секрете от детей, что иногда курят травку. Что накануне ночью дрались, выясняя отношения. Что терпеть не могут собственных родителей за непрошеные советы и недостаточную помощь. Что пьют успокоительное и антидепрессанты и играют в онлайн-казино. Так они якобы защищают любимых детей от ненужных травм.
Но чаще всего подобная «защита» абсолютно бесполезна. Детям все равно известно, что вечером в пятницу папа с мамой покуривают травку на балконе. Что ночью они дрались. Что дедушку и бабушку они просто терпят. Что у мамы сдали нервы, а папа может спустить зарплату за два вечера.
В результате дети вместо защиты получают отстранение. Они делают вывод, что можно делать что угодно, главное – получше это скрывать; получают пример семейных отношений, в которых нет честности, открытости, доверия. А поскольку таких проблем, как наркотики, игромания, нервные расстройства, насилие, «якобы нет» в семье, эти темы чаще всего обсуждаются крайне поверхностно или не обсуждаются вовсе, так что детям приходится дополнять собственные карты информацией из интернета или, что называется, во дворе.
Если у одних родителей желание «защитить» детей мотивируется настоящей, хотя и неправильно ориентированной любовью, то другие просто боятся критики и потери авторитета. Они как бы говорят: «Так, дети, занимайтесь своими детскими делами, а взрослые дела оставьте нам. Мы хотим быть в ваших глазах сильными и любящими хранителями очага. Только так вы будете чувствовать себя защищенными. Для всех нас лучше не влезать в проблемы слишком глубоко».
Однако, при всем моем стремлении к абсолютной честности, я признаю несколько ситуаций, когда утаивание действительно способно защитить. Например, когда в достаточно крепкой семье родители поругались, а потом честно признались детям, что обсуждали возможность развода. Сообщать об этом в стадии, когда до развода еще далеко и, скорее всего, вообще не дойдет, означает взвалить на детские плечи ненужную тяжесть.
Другой пример: психиатру следует скрывать от пациента свои мысли, догадки и выводы на ранней стадии лечения, потому что последний еще не готов их услышать.
Нужно ли утаивать правду или, иными словами, скрывать свое мнение, если вы не совсем согласны с политикой компании, в которой работаете? С одной стороны, человек, постоянно критикующий руководство, скорее всего, долго на своем месте не продержится, его будут воспринимать как неудобного, неуправляемого, как угрозу порядку в организации. Ему не будут доверять во всех тех ситуациях, где приходится говорить от имени организации.
Невозможно не признать факт: если человек хочет профессионально расти, развиваться, он должен стать частичным «олицетворением» организации, а значит, быть осторожным и сдержанным в выражении собственного мнения, стереть четкую границу между собой и организацией.
С другой стороны, если работник рассматривает собственный успех в организации как единственный ориентир для поведения и позволяет себе высказывать только те идеи и мысли, которые не вызывают волн, значит, цель для него оправдывает средства. Он теряет человеческую целостность и определенность, становясь полным олицетворением организации. Руководителю необходимо балансировать между сохранением и потерей целостности, а это очень узкая тропа, успешно по ней проходят лишь немногие.
Подведем итог. Бесспорно, есть ситуации, когда необходимо воздержаться от выражения своих чувств, мнений, идей и даже знаний. Как при этом оставаться преданным правде? Вот несколько правил:
1. Никогда не прибегайте к черной лжи. Проще говоря, не лгите.
2. Всякий раз, прибегая к белой лжи, то есть утаиванию правды, расценивайте это как серьезное моральное решение.
3. Нельзя утаить правду, если вами движут личные интересы, такие как жажда власти, желание нравиться или стремление защитить свою карту от критики.
4. Утаить правду допустимо, только если вы действуете исключительно в интересах человека или людей, от которых эта правда утаивается.
5. Утаивая ее во благо других людей, убедитесь, что хорошо понимаете их интересы. Это возможно только при условии истинной любви к этим людям.
6. Имейте в виду, иногда правда, пусть даже и горькая, способствует духовному развитию человека, а значит – входит в систему его интересов.
7. Определяя способность человека использовать правду для духовного развития, учитывайте: чаще всего мы эту способность недооцениваем и редко – переоцениваем.
Уверен, сейчас вам кажется, что это труднейшая, а может даже – и вовсе не выполнимая задача. Самодисциплина – вообще тяжелая ноша, потому большинство людей довольствуются частичной открытостью и относительной честностью. Так легче сберечь себя и свою карту от мира.
И все же выигрыш от пусть и трудной, но посвященной правде жизни несоизмеримо больше. Постоянно находясь под критическим прицелом, открытые люди непрерывно развиваются. Они завязывают и поддерживают отношения гораздо легче и эффективнее, чем люди замкнутые. У них спокойно и радостно на душе, потому что не надо сочинять ложь и потом держать ее в голове, периодически дополняя новыми деталями. Они не тратят усилий на заметание следов и сооружение маскировок. Это свободные люди. Раз встав на путь самодисциплины, они убедились, что поддерживать ее менее энергозатратно, чем скрытную жизнь.
Чем честнее человек, тем легче ему продолжать быть честным; чем больше солгал, тем больше лгать придется снова и снова. Люди, преданные правде, свободны от страха.
Уравновешивание
Четвертый и последний инструмент из тех, что я обсуждаю в этой главе. Равновесие – это дисциплина, которая дает нам гибкость. Именно гибкость нужна, чтобы быть преданным правде и в то же время прибегать к утаиванию правды при необходимости. Брать на себя положенную ответственность, но уметь отказываться от навязанной. Откладывать удовольствия и думать о будущем, но при этом жить настоящим и действовать спонтанно. Это я и называю уравновешиванием.
Гибкость необходима для успеха в любой сфере жизни. Возьмем для примера эмоцию «гнев». На протяжении миллионов лет эволюции гнев помогал нам выживать. Мы испытываем его каждый раз, когда замечаем, как другое существо вторгается на нашу территорию или каким-либо другим способом пытается нас притеснить. Если бы его не было, мы бы постоянно отступали, в итоге лишаясь всех ресурсов, и были бы истреблены. Но гнев побуждает сражаться с противником, защищая территорию, жизнь, имущество.
Однако в современном, гораздо более сложном в плане взаимоотношений, мире, когда кажется, что кто-то пытается посягать на нас, в большинстве случаев по прошествии некоторого времени и более внимательном изучении инцидента оказывается, что подобного намерения не было.
Или, даже когда посягательство имеет место, по тем или иным соображениям можно прийти к выводу, что не в наших интересах отвечать гневом. То есть появляется необходимость, чтобы высшие центры нашего мозга (суждение) были способны управлять низшими (эмоциями).
Чтобы успешно функционировать в современном обществе, мы должны уметь и подавлять гнев, и выражать его разными способами: иногда шумно и страстно, иногда спокойно и холодно, – а также выбирать для этого наилучший момент. Требуется сложная и гибкая система реагирования. Неудивительно, что мало кто может владеть собой в гневе в молодом и даже среднем возрасте, а многие не научатся никогда.
В той или иной степени все мы страдаем от неадекватности своих систем реагирования. Одна из задач психотерапевта – в том, чтобы помочь сделать систему реакций пациента более гибкой. И эта задача тем сложнее, чем сильнее человек подавлен тревогой, чувством вины или неуверенностью в себе.
Как-то я работал с энергичной пациенткой тридцати двух лет, для которой настоящим открытием оказалось, что некоторых мужчин нельзя пускать на порог, других можно пускать в гостиную, но не далее, и только отдельных разрешается допускать и в спальню. До встреч со мной ее система реагирования работала таким образом: либо она пускала в спальню всех подряд, либо, когда систему «заклинивало», не пускала никого даже во двор. В результате женщина периодически перескакивала из разрушительного промискуитета1 в полную изоляцию и обратно.
С ней же мы посвятили несколько сеансов теме открыток. Она считала себя обязанной на каждое поздравление, подарок или приглашение отвечать длинным, изысканным, грамматически и стилистически безукоризненным письмом. Когда такая обязанность становилась непосильной, она не отвечала вообще и просто отказывалась от подарков и приглашений. И опять была изумлена, когда узнала, что вполне допустимо и даже желательно ответить коротко.
В основе дисциплины уравновешивания лежит умение отказываться. Я прекрасно помню собственный первый урок этого навыка. Мне было восемь лет, и я, только-только научившись кататься на двухколесном велосипеде, радостно изучал пределы своих небольших возможностей.
Было летнее утро. В километре от нашего дома дорога круто спускалась вниз и так же круто поворачивала влево в конце спуска. Стремительное ускорение привело меня в неописуемый восторг, казалось нелепостью нажать на тормоза, и я решил, что мне вполне по силам повернуть, не снижая скорости. Через несколько секунд я, пролетев пару метров по горизонтали, приземлился за оградой в колючих кустах. Исцарапанный, весь в крови, я тащил велосипед назад в горку. Переднее колесо от удара превратилось в лепешку. Если коротко, я не удержал равновесия.
Уравновешивание – это дисциплина, потому что отказываться от чего-либо неприятно. Я не хотел отказываться от восторга скорости ради удержания равновесия на повороте. В итоге поплатился и понял, что потерять равновесие и упасть потом намного болезненнее, чем отказаться от восторга быстрой езды сейчас. Только не думайте, что после того случая я всегда жал на тормоз. Как бы не так. Каждый не раз повторяет этот урок. Пытаясь справиться со всеми поворотами на дороге жизни, мы постоянно вынуждены отказываться от каких-то частиц самих себя. Или не ездить вовсе.
Как ни странно, большинство людей выбирают последнее – не продолжать путешествие по жизни, остановиться где-нибудь в спокойном местечке – только ради того, чтобы не испытывать боли отречения, не терять самих себя. В этом нет ничего удивительного, ведь отречение – весьма болезненное переживание. И, конечно, речь идет не столько о тех незначительных переживаниях, о которых я говорил выше, – от скорости, от возможности дать выход своему гневу. Гораздо сложнее отречься от личных особенностей – давно устоявшихся привычек поведения, жизненной философии, образа жизни в целом.
Как-то раз я решил провести вечер со своей четырнадцатилетней дочерью, что, к моему сожалению, бывало не часто. Уже несколько недель она упрашивала меня сыграть с ней в шахматы, и вот теперь я предложил ей партию. Она охотно согласилась, и мы засели за игру. Дочь была сильным соперником, сражение шло на равных. Около девяти она напомнила, что ей завтра в школу, и попросила ходить быстрее. Я знал, что дочка поднимается в шесть часов утра и всегда ложится в одно и то же время, ведь я сам приучил ее к жесткой дисциплине в отношении распорядка дня. Но в тот вечер подумал, что иногда можно и отступить от жестких привычек, ведь нам нечасто удается вот так провести вместе время. И сказал:
– Сделай для меня исключение, пожалуйста. Что тебе стоит один разок лечь чуть позже? Ведь мы так хорошо играем!
Мы продолжали игру, но она ерзала на стуле. Через пятнадцать минут дочь взмолилась:
– Ну пожалуйста, папа, ходи быстрее!
– Бог мой, да что же это такое, – заворчал я. – Шахматы – серьезная игра. Каждый шаг надо взвесить и обдумать. Если ты играешь не всерьез, зачем вообще начинать?
Так мы играли еще минут десять, она нервничала все сильнее. И внезапно разрыдалась, вскочила и побежала к себе наверх, крикнув сквозь слезы, что сдает эту дурацкую партию.
Я вновь ощутил себя восьмилетним парнишкой, лежащим среди колючих зарослей у дороги рядом с искореженным велосипедом. Очевидно, нужно было притормозить. У меня были самые благие намерения – провести с дочерью счастливые часы. Полтора часа спустя она убежала от меня в слезах. Я испортил вечер, потому что победа стала важнее спокойствия дочери. Я был очень расстроен. Как же можно до такой степени потерять равновесие? Почему не удалось хотя бы частично отказаться от этого желания непременно одержать победу?
Даже маленькая уступка казалась немыслимой. Когда я был ребенком, мое желание побеждать служило мне безупречно. Мне было приятно выигрывать у друзей, видеть в глазах отца гордость и одобрение. Но теперь я сам стал отцом, и мой азарт, бойцовские качества и серьезность работали на отчуждение моих детей от меня. С тех пор я отказался от некоторой части желания всегда побеждать. Да, я стал чаще проигрывать детям, зато выиграл как отец.