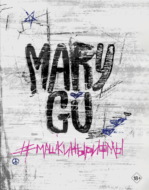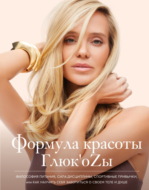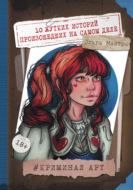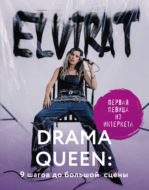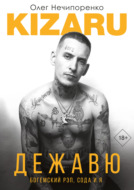Czytaj książkę: «Карнавал Безумия. Хроники саморазрушения в стиле панк»
Нам часто говорят, что бедные благодарны за милосердие.
Некоторые из них безусловно – да,
но лучшие среди бедных – нет.
Они неблагодарны, недовольны, непослушны и мятежны.
И они совершенно правы.
Оскар Уайльд, «Душа человека при социализме» (1891)
© Миша Бастер, текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Вступление
Основная проблема изучения молодежных субкультур и, в частности, панка – неоднозначность и непонимание уникальных условий, в которых такие явления зарождались и развивались. Исторически сложилось так, что панк-сообщество – это в первую очередь музыка, но в рамках меломанского культа развивались также изобразительно-оформительское искусство, перформативные жанры и, конечно, мода и стиль. Моду можно назвать панковским манифестом как таковым – субкультурным кодом, опиравшимся как на первичный англо-американский эпатаж, так и на локальные проявления. Панк-движение, образовавшееся на стыке разных культур и вобравшее в себя множество разных деталей, стало контркультурной позой и шиком.
В 1970-х годах шло активное освоение северных и дальневосточных территорий СССР, строились железные дороги и города, поэтому административную систему беспокоил отток молодежи из ВЛКСМ1: ряды строителей коммунизма таяли, альтернативные советскому государству и «неформальные» сообщества росли. Так что в 1982 году для мониторинга неформальных молодежных организаций был создан специальный 13-й отдел 5-го управления КГБ, который активно использовал в своих отчетах термины «панк» и «поклонники панка». Началась кампания, в ходе которой патрулировались «злачные места», кинотеатры и центральные улицы крупных городов. В 1984 году появился список запрещенных групп. Пресса и органы надзора присваивали молодежным тусовкам ярлыки «фашистов», а «гопники», люмпен-пролетариат, называли панков «петухами» за крашеные волосы и ирокезы.
Несмотря на это, в воздухе – и не только в андеграундной среде – витали антикоммунистические настроения. Раздражение вызывала не столько господствующая идеология, которая принудительно навязывалась со школы, сколько то, как идеи общества светлого будущего и равных возможностей реализовывались в советской действительности. Сама эта действительность казалась вечной: даже в середине 1980-х никто и подумать не мог о возможном распаде СССР.
Так после активного мониторинга и двухлетнего притеснения с участием милиции, комсомольских патрулей и бригад крепких парней-люберов, наблюдателям от системы стало ясно, что обьектами панковской ненависти было советское мещанство, социальная несправедливость и бюрократия, а не главенствующая идеология. И тогда чудесным образом панк по команде сверху моментально превратился из объекта демонизации в чуть ли не самый модный тренд советского андеграунда. Образ панка-неформала стал усиленно эксплуатироваться в перестроечной прессе и кино. Взять хотя бы документальный киномимесис 1988 года «Перекресток рока», которым облучали советских граждан, все еще не понимавших, что в стране уже произошли грандиозные перемены. «Панк – это не страшно, но весело». Но в околоконцертной среде того периода ходило параллельное, весьма саркастичное мнение о том, что всем панкам в стране наконец разрешили называться панками, пополнять «рок-комсомол» и оплачивать взносы на содержание концертных площадок. Совсем скоро этот ироничный тезис был подтвержден сначала ослаблением в 1989-м статьи 209 УК СССР (тунеядство), а затем, в 1991 году, и ее упразднением. Кроме того, с 28 июля 1988 года разрешили проводить неофициальные митинги и демонстрации, а поговорка «больше трех не собираться» окончательно стала частью позднесоветского фольклора.
Хиппи, любившим «аскать» (от англ. ask – «спрашивать», «просить», – стрелять мелочь) на улицах, по той же 209-й статье грозило наказание за бродяжничество и попрошайничество. В перестроечные времена, когда количество таких злостных нарушителей общественного порядка резко увеличилось, к аббревиатуре БОМЖ («без определенного места жительства») добавилась новая – БОРЗ («без определенного рода занятий»), и жаргонизм «борзый» заиграл новыми красками.
Пик гонений по этой статье пришелся на 1987–1988 годы, когда ряды субкультурщиков резко пополнились, а активные выезды спортивных болельщиков начали сопровождаться драками и вандализмом.
Представители панк-сообщества с их диковинными прическами, суицидальными шрамами (на сленге – «попилами») и антисоветскими протестными татуировками легче других могли отправиться в спецлечебницы на принудительное обследование. Такие мероприятия часто организовывались непосредственно из милиции или приемной комиссии военкомата. В особых случаях к этим обвинениям добавлялось отягчающее обстоятельство «организация и распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй».
Прямое отношение к музыкальным субкультурам 1970–1980-х имела довольно экзотическая статья 182.1 УК РСФСР, введенная в 1926 году: «Изготовление, распространение, рекламирование порнографических сочинений, печатных изданий и иных предметов, а также торговля ими и хранение с целью продажи или распространения». Из этого вытекает еще одна особенность формирования и существования маргинальных сообществ в СССР. Любая коммерческая деятельность вне госсектора (кооперативное движение и артели сошли на нет еще при Хрущеве) рассматривалась как получение нетрудовых доходов, что каралось сроком от 3 до 5 лет. Так что представители субкультур, чья экономика основывалась на контрабанде и перепродаже западной музыки и предметов моды, всегда были желанными гостями в кабинетах следователей МВД.
Вот в таких суровых условиях, между нижними стратами советского общества и откровенно криминальными сообществами, и формировалась жесткая и агрессивная субкультура, опутанная сетью соблазнов и ограничений. Молодежь, обреченная отвечать за себя, за слова, за одежду и поступки. Общность, смыслом которой стал выход из под контроля, праздник непослушания, который часто превращался в публичное саморазрушение. Для многих участников панк-движения оно затянулось на годы и привело к плачевным последствиям. Впрочем, их не избежало целое поколение молодых людей, провернутых жерновами эпохи перемен. А в советском зазеркалье мерцали ее самые яркие вспышки и отражения. Многие производные панк-рока воспринимались как отдельные жанры, но все же присутствовало понимание, что западное панк-движение бурно развивается и стремится к прогрессу, вбирая в себя все встреченное на пути. И, возможно, это и есть его генеральный метод: рвать, перекраивать и сшивать в другом порядке.
Уже поэтому советские панки примеряли на себя этот ярлык с крайней степенью иронии. В большинстве своем им пользовались представители системы под воздействием моральной паники, примерно так же, как и в Британии, где панков панками назвали журналисты.
Отталкиваясь от ироничного тезиса, что «СССР – это в принципе страна панков» (в виде деградировавшего, лишенного привилегий пролетариата), в приоритете этой «субкультуры стеба» был жесткий пранк институций, икон и скреп советского общества. Все опиралось исключительно на противодействие советской действительности, а ставка шла на агрессивный творческий эпатаж, шокирующий внешний вид и тягу к публичному саморазрушению и хулиганству. Так и ответственность за эти выходки удваивалась, если ты попадал под объект сложившейся к середине 1980-х моральной паники.
Внешний вид в этих случаях играл особую роль: одежда и даже короткие прически с бритыми висками стиляг вызывали повышенный интерес патрулей и милиции. Объяснялось это тем, что бритые подозревались в самовольном увольнении из армии или дезертирстве. Из внешних деталей, помимо естественных «племенных» дресс-кодов, благодаря которым представители субкультур размежевались между собой, формировались и «опасные визуальные коды». Теперь к этим негативным кодам добавились новые краски и оттенки – «фашизм» и «сатанизм», настолько же сильные, как во времена приступов гонений на стиляг или хиппи.
Образ enfant terrible отрабатывался публичным «идиотничанием» по максимуму, но уровень иронии при этом поддерживался примерно таким, чтобы агрессивное вторжение в жизнь советских граждан лишь оставляло след легкого шока и веселья. Советское население достаточно быстро привыкло к панковским выходкам, и все моральные паники, нагоняемые ВЛКСМ и советской прессой, сменились на недоумение и эйфорию от этого далекого от бытового и даже здорового эпатажа. Пренебрежение чистоплотностью, помоечные перформансы и прочие выходки «ради искусства» и шока обывателя были частью стиля, но не ментальности. Вокруг было достаточно опустившихся от алкоголизма и безнадежности людей, которые тихо и мирно доживали свой срок в рамках построения коммунистического общества, изредка впадая в агрессию и белую горячку. Они также были антагонистами панков, занимавшихся публичным саморазрушением с разной степенью артистизма. Собственно глумление над этими алкогольными скрепами, которые органы и общество могли понять и простить, стало частью «ненормальности» и несдержанности панков (как и имитация расстройств психики). Цинизм и самоирония вплоть до самоуничижения разрушали все привычные «пацанские» нормы: мачизм, повышенную серьезность и гипертрофированное чувство справедливости. Для публики с «криминальными» ценнос‐ тями оскорбление и глумление над «пацанским» сленгом, а также циничный сарказм над маскулинностью оказались просто непереносимыми.
Панк-идеи «будущего нет» как будто стали развитием идей и тезисов ленинградского некрореализма – течения, культивировавшего смерть и идиотничание поколения битников.
К некротематике в скором времени добавилась экспрессия «дикого» искусства: темы зверства, суицида, попыток вмешательства безумных ученых и санитаров в жизнь обычных граждан, которые закономерно заканчивались смертью и жизнерадостной расчлененкой. Перекладывать все это на местную почву, переиначивать и превращать в панковские гимны, полные насмешек и презрения, вдруг оказалось безумно интересно. Под влиянием этой информации в первые годы перестройки появились возможности, связанные с рок-клубами. Тогда и началось формирование некоего подобия советского локального мейнстрима. Возникла иллюзия «общих интересов» с массами окрыленных перестроечными лозунгами политиков. О проблемах разрешили говорить и даже дали возможность протестовать. Так СМИ заботливо поместили на геройский пьедестал образ молодого бунтаря-рокера, ведущего массы из застойной дремы в новое светлое будущее. И этот образ оказался к месту в канве официальной горбачевской политики, взывающей к преодолению того застоя и самокритике.
Несомненно, панк-образы привлекали кинематографистов и СМИ. В 1984 году в сериале «ТАСС уполномочен заявить», и мимолетно в фильме «Европейская история», эстонские панки изобразили заграничных, причем как неотъемлемую часть пейзажа Запада. Вслед за началом перестройки в плеяду фильмов о трудных подростках, начавшуюся еще в 1970-х, попал фильм «Взломщик», «Легко ли быть молодым», «Зачем вы тут собираетесь» и «Авария – дочь мента».
Так панк эстетика в СССР в течение пятилетки из изгоя превратилась в моду, а о приключениях участников этого движения читайте дальше в формате «устной истории».
Руслан Зиггель


Р. З.: Лет с 11–12 я стал посещать книжный базар на Островского. Это был отдельный мир, отдельное комьюнити людей, скрашивающих свой досуг чтением. А, как известно, Ленинград – город достаточно читающий, можно сказать, литературный. Но там как раз не было библиофилов, поэтому их называли «книжники». Люди занимались доставанием и сбытом книг, и с этим была связана куча историй. Книги принимались любые, минус двадцать процентов. И на базе этих двадцати процентов сформировалась целая тусовка. Книги имели свою ценность, а для подростков, изымающих эти книги с различных полок, два, к примеру, рубля были немалыми деньгами. По нашим тогдашним подсчетам, на 20 копеек можно было прожить день. Естественно, бесплатно катаясь на транспорте и без увеселений. И многие стремились к обособлению и самостоятельности, имея в виду такие нехитрые схемы пополнения бюджета.
(записано в 2007 году)
М. Б.: У нас были подобные коммуникации в Домах книги и «Букинисте», куда постоянно притекали различные группы спивающихся маргиналов, у которых обмен книжных знаний на жидкое топливо проходил под кодовым названием «букинист». Тем более что мантра «Книга – лучший подарок» действовала безотказно убедительно в советский период (смеются).
Тем более что в систему книжно-макулатурного оборота в советской природе были вовлечены все граждане, начиная с пионерского возраста, в соревновательном порыве усердно стаскивающие с квартир пенсионеров в школы сотни килограмм бумажного мусора, среди которого порой обнаруживались книги приличного качества. Даже те самые, из серий которых цветными однотонными блоками выкладывались узоры в книжных шкафах. Иметь которые был обязан любой гражданин, считавший себя образованным.
Р. З.: Да, именно так. Собрания сочинений для неформалов и граждан имели разную ценность. Для маргинала это было почти 15 рублей и две недели безбедного существования. Кстати, про начитанность и образованность в неформальной среде. То, что меня больше всего поразило в тусующем поколении рубежа 1980-х, при всем замечательном советском образовании, построенном по прусской системе, так это дикая безграмотность. Я имею в виду, в первую очередь, необразованность, что хотелось бы подчеркнуть для сонмища подростков, думающих о том, что все неформалы-маргиналы в те времена поголовно были интеллектуалами. Это сейчас мы наблюдаем какое-то обозное добирание информационного багажа, и на базе его происходит литературный ажурный ребрендинг ситуации. А тогда был такой тип людей, вокруг которых образовались центробежные силы и события. У них было достаточно хорошее воспитание и образование, но таких были даже не десятки, а попросту единицы. До 16 лет советские неформалы, на мой взгляд, мало чего читали, мало чего смотрели и в какой-то момент, когда они сталкиваясь сталкивались со «взрослой жизнью» и какой-то несправедливостью, в их сознании происходил сбой в восприятии окружающей действительности. В результате чего кто-то уходил в работу или в ПТУ, кто-то в алкоголь, наркотики или криминал, а кто-то формировал пресловутые неформальные компании, чем-то напоминавшие семьи беспризорников.
При этом часть подростков, попадая в неформальную среду, пулей оттуда вылетала. Они были не приспособлены даже к этому. Но те, кто оставался, брали на себя функцию потребления меломанской и модной информации. А распространение и коммутирование ложились на плечи наиболее продвинутой части неформальной среды. При этом точки зрения у различных групп были разные, и озвучить их мог только человек с определенным талантом или демагог (смеются).
Как пример может подойти и пресловутый «Сайгон». Была тусовка абсолютных разночинцев, но некоторые персоналии сильно выделялись на общем фоне. И все старожилы как-то пытались использовать ситуацию для своих целей. Был там такой персонаж Колесо, уголовно-фактурного типа, который мыл посуду, убирался. Эдакий прохиндей, который был в центре и в курсе всех событий, чем-то постоянно занимался, даже чего-то писал. Основная его задача, конечно, была криминальная, поставка всякой дури и девушек, но сам он был авторитетен и фактурен настолько, что молодняк искренно верил, что покупает у него траву. Хотя он на моих глазах заколачивал в «беломорину» табак. Причем сложившаяся статусная иерархия посетителей выражалась и визуально. В отличие от людей попроще, выпивающих коньячок, на две ступеньки выше тусовался народ, выпивающий кофе (смеется).
Преимущественно сайгоновская тусовка состояла из хиппи, которые по нескольку часов практически недвижимо выстаивали возле своих чашечек кофе. Панкам такое исполнять было сложно, поэтому они подолгу там не задерживались (смеются).
Их как раз можно было встретить в пельменной на Марата, где, помимо всего, можно было и выпить. Напротив «Сайгона» находился магазин «Зеркала», причем «алкомаршрут» в этом месте смыкался. С Литейного можно было попасть в винно-водочный отдел, а с Невского – в бакалею. И магазины на углу были сообщающимися, а неподалеку находился «Гастрит», где продавалась еда, благодаря которой заведение получило именно такое название. В общем, все сходилось на этом пятачке. А поскольку мелочи к тому времени в карманах трудящихся было немало, то просто настрелять можно было немалые суммы. Не выпрашивать, как это делают сейчас бомжи или «аскающие» хиппи, а просто настрелять у отчасти знакомых лиц. Помню, в магазине на Елисеевском продавался коньяк «Камюс», который мы с товарищем решили приобрести для романтического приключения. Коньяк стоил 42 рубля, и для окончательного поражения женской впечатлительности основная сумма у нас уже была. И вот с 9 утра настреляли остатки прямо возле входа в заведение, и 84 рубля были торжественно вывалены в виде мелочи на прилавок. Продавщица даже поначалу отказалась эту гору принимать, но нужные слова были найдены, и спектакль состоялся.
Но к чему все это? Наличие концентрированного количества прохиндеев и тунеядцев в одном месте в сжатом виде выдавало подросткам жизненный опыт и возможности, так что детишки стремительно взрослели. А через музыку шло внешнее оформление. Какого плана музыка потреблялась, такой, как сейчас говорят, дресс-код и полагался.
А у меня в 1979 году начались годы активного студенчества, битничества и новой информации. При этом стоит, наверное, отметить, что подросток, заточенный под поиск новой информации, к периоду студенчества вырастал в диссидента. Я не имею в виду политику. А именно то внутреннее чувство недоверия к государственному фасаду, порожденное выявленными несоответствиями запостулированного и обнаруженного в реалиях. Недоверие, а возможно, и внутренние страхи, стали визитной карточкой 1970-х (смеются).
Другой вопрос – что он при этом выбирал. Он мог стать несоглашенцем, или, наоборот, активистом-конформистом. А выразить это можно было, только пойдя против течения. В первую очередь высвобождая свободное время. Потому что система того периода была нацелена на то, чтобы лишить человека свободного времени по максимуму, а все профессии, не связанные с физическим трудом, были опутаны союзами, комиссиями, негласными правилами и тотально бюрократизированы. Свободное время предполагалось в пожилом возрасте на дачных грядках с лопатой в руках, когда человек уже ни на что не способен влиять. Эдакий рязановский типаж работающего обезличенного обывателя. Родился целый срез людей, работающих сутки через трое на непрестижных профессиях. И поколение людей, отвечающих на вопросы уклончиво, невнятно, неопределенно, образно и ни о чем. Что в немалой степени отразилось на текстовой составляющей рок-эстрады (смеются).
Реалии того периода были таковы, что если ты на улице спрашивал открыто: «А как ты думаешь или как видишь определенную проблему?» – то люди тушевались и замыкались, подозревая в вопрошающем стукача. Вопросы-то подобные задавались только в двух местах: на тусовках и в милиции, куда забирали маргиналов. Тем более, что многие люди, от которых зависели неформальные события, жили намного лучше относительно советского обывателя.
Здесь стоит развенчать некоторые иллюзии относительно революционности. Революции никогда не зарождаются в трущобах – это иллюзия. Даже бунта не возникнет, а если возникнет, то во главе событий будут стоять люди более состоятельные.
Само открытие рок-клуба на рубеже 1980-х дало достаточный толчок для музыкальной и околомузыкальной среды, которая тут же нарядилась в тоги авангардизма и стала что-то делать, периодически рассыпаясь и собираясь в какие-то компании.
Вокруг рок-клуба появились фотографы, которые пришли снимать это клубление и искренне поддерживали это начинание: Наташа Васильева, Дима Конрад, Саша Бойко, те люди, которые на тот момент профессионально занимались фотографиями в домашних условиях. Их печатали вручную, а потом раздавали в околоклубовских компаниях. Наташа делала выставки с фото рок-музыкантов еще на заре рок-клуба.
При этом, начав со стиляжничания и твистов, все требовало развития. Карьерно как-то развивать городскую эстетику могли немногие. Здесь уже играли роль и образованность, и накопленный опыт. Уличные маргиналы, опирающиеся на свой личный опыт и безграмотность, в определенный момент достигшие какой-то своей высшей точки тусовочного развития, далее развиваться не могли. В этом плане более перспективными оказались люди с предпринимательскими навыками, именуемые в нашем городе мажорами. Они так же активно интересовались всем современным, но способности и возможности у них были несколько иными. И не удивительно, что немалое количество этих людей конвертировали свои знания в капитал и стали состоятельными людьми.
Остальные же массы поклонников неформальной моды утоляли свой информационный голод, и рок в СССР во многом был отправной точкой для всего остального.
М. Б.: При этом, выйдя из соцреального забытья, тут же попадали в рок-н-ролльное, отягощенное различными видами саморазрушения. Хотя многим из немногих эта встряска помогла встать на новые жизненные рельсы, ну да не суть.
Р. З.: Да, а остальные, не будучи творческими личностями, попадали в зависимость от нарождающейся рок-индустрии и в итоге оказывались на обочине событий, когда волна схлынула. Художники же от рока не зависели, хотя и были вовлечены в околомузыкальные события и активно помогали развитию процесса. О кино и анимации на самом начальном этапе никто не помышлял, но вскоре состоялось и это. Формирование же молодежных групп 1970-х шло вокруг людей, которые в то же время как пели про «город золотой», этот же «город» для себя и строили (смеется).
Хипповско-битнические образования имели свою иерархию, и в рамках этих взаимоотношений формировалась рок-культурка, которая обрастала толпами поклонников и тусовочными местами.
И, конечно же, множество людей панически сторонились труда. Так пришла идея с журналом «Труд», когда разные люди начали себя творчески проявлять в системной связке «Сайгон» – «Рок-клуб». Люди стали подтягиваться друг к другу, но не было какого-то общего проекта для объединения. Тогда что могло быть, помимо внешнего вида и меломании? Самиздат и группы, вокруг которых что-то внятное могло бы происходить. И в 1984 году наступил момент, когда уличные тусовки начали как-то рассыпаться, и нужно было дать какую-то объединительную тему, в первую очередь для мужской части тусовщиков. Девушки, они как-то по совсем особым принципам стусовывались. Вот так и возникла группа и журнал. Причем именно этот год стал очередным витком оголтелой самодеятельности с достаточно серьезным продолжением. И не только в Питере. Видимо, у молодых людей накопилось столько безответных вопросов, что жажда получить на них ответы или озвучить свое видение зашкалила барьер сдерживания.
В компаниях же шло обсуждение и генерировались какие-то идеи. Но только люди с оперативной реакцией и способные быстро усваивать информацию могли воплотить эти идеи в жизнь. Тот же Антон2, будучи заметной фигурой в тусовочном мире, общался с различными группами и был всегда достаточно информирован. Именно вокруг него сформировался «Тедди бойз» клуб, участники которого достаточно ярко простиляжничали пару лет. И мы с товарищами стали развиваться в области индустриальной стилистики. Конечно, идеи рождались в общении, но кто-то должен был внятно формулировать. И таких людей было мало. Зато было много тех, кто перемещался попросту в сомнамбулическом состоянии, одурманенный либо пропагандой, либо какими-то препаратами. Причем пьянство не было регулярным и перемежалось какими-то перманентными забавными поисками партнеров по сексу, чем, например, знаменит ленинградский Невский и «Катькин сад» 1980-х. Такая вольная туристическая атмосфера.
В принципе, так было всегда, но на тот период нашлось достаточно понимающих людей, осознавших, что все, что можно сделать, можно сделать самостоятельно. И из таких самостоятельных людей складывалась не только творческая прослойка. Большинство состоявшихся людей нынешнего периода – это те люди, которые вышли на старт своей личной истории тогда. При первом же выяснении, что оценки и мироощущение совпадают, люди коммутировались, и дальнейшее общение велось в рамках взаимоизучения как среды, так и участников событий. Как говорил Эммануил Кант, способность интеллекта – это способность мыслить абстрактно. Для меня особым родом разочарования в некоторых людях было, когда обнаруживалось, что за фасадом стилевых знаний, жажды удовольствий и куража ничего и не обнаруживалось. Интересней были компании, в которых что-то бурлило, был смысл и производился продукт.
Сначала приходило осознание, потом внешний вид, общение. И люди в стремлении выдать какой-то продукт, самостоятельно шлифовали свои способности и таланты. До этого все происходило в рамках институций и каких-нибудь хобби. Причем институции, естественно, не понимая, как и неформалы, что происходит вокруг, ставили возможные препоны для подобных инициатив. Ценз, литовки, саботаж – все это не ново и постепенно возвращается сейчас. Когда сложился такой кружок вокруг самиздата «Труд», появилась идея сделать одноименную группу для озвучивания реалий. Причем никто не планировал какое-то концертирование, просто играть какой-то инструментал, как «Джунгли», не было ни опыта, ни желания. Нужны были тексты, и возникла идея компиляций газетных заметок и не менее компилированной музычки.
Стоит отметить, что в это время активно использовалось звукоизвлечение и звукоснимание. Тут и изобретение «утюгона», приспособления для звукоизвлечения из утюгов, которое на самом деле придумал не Тимур, а Антон Тедди, просто все это шло в русле «нолевиков». Был еще инструмент «капельница», задействованный в «Поп-механиках», да и «Новые композиторы» уже в перестроечный период бегали по городу и снимали звуки со всего подряд, а потом это все микшировалось. Звукосниматели подносились ко всему, что издавало звуки или кто-то их сознательно извлекал. Лазили по всяким цистернам и шумели.
М. Б.: Можно сказать, заря советского индастриала в это время уже взошла. «Братья по разуму» уже вовсю писали альбомы, Юра Орлов активно экспериментировал, да и панк как таковой уже во-всю скрежетал. «ДК», как и Алекс, в этом же году разродились как бы панковскими альбомами с включением закольцовок из соцарта.
Р. З.: Опять же Алекс, талантливый энергичный человек, выдававший интересный музыкальный продукт. Но им никто не занимался. Это был нерентабельный товар для тогдашних аудиопроизводителей, потому что мало того, что радикальный для того периода, так еще и настоящий. А дельцам нужна была эстрада. Это сейчас панковские клоны идут на ура, а тогда подобных проявлений сторонились многие. Тропило3 в 1980-х общался с Алексом, но продолжения не получилось, хотя под конец XX века его тоже пытались вписать в эстрадную волну. Человек был свободолюбивый и неуправляемый в хорошем смысле. Но в ситуацию не вписался. У нас же всегда было тяготение к городской культуре с элементами индустриального сюра. Взяли для текстов газетные вырезки и положили на шумовой почти фон. Такое индустриальное пересмешничание. И вот когда это произошло, и мы с замикшированными заметками из советской прессы приперлись в «Рок-клуб», произошла памятная встреча с «рок-неформалом» товарищем Рекшаном, который занимал полукомсомольскую должность литовщика текстов. Товарища перемкнуло на первой композиции из 13-ти, которая называлась «Неофашисты активизируются». Там шла целая волна выявления пороков зарубежной жизни, и песня состояла из текста заметки по поводу мюнхенских неофашистов, под который был подложен якобы стук пивных кружек (смеется).
Остальные «музыкальные заметки» сквозь «кипит наш разум возмущенный» не проскочили вовсе, но тут же мы были обвинены в фашизме и плагиате, хотя до сих пор меня мучают сомнения, что Владимир хотя бы сейчас уяснил, что в стране, ворующей иностранные музыкальные рифы и печатающей советские пластинки зарубежных исполнителей, авторское право было советское, – то есть «все вокруг колхозное, все вокруг мое» (смеются).
Думаю я так, потому как даже в своих назидательных опусах он отметил этот эпизод, лишний раз расписавшись в собственной непроходимости и каком-то патологическом самоуглублении в рамках руководящей линии партии. А подобный сорт людей, в чьи задачи входило держать нос по ветру, не понимают, что будили и будят того зверя, которого сами же ждут и желают увидеть. Тог‐ да было модно писать про фашистов, как сейчас про скинхедов, вот и выковырял себе изюминку для графоманства…
А про адекватную ответственность за последствия подобных статей, думается, речи заводить и не надо. Если вкратце, все это «добровольное стукачество» вылилось во внимание более чем настороженного госаппарата и обернулось жестким прессингом как на тех же музыкантов, так и на уличных неформалов. Музыкантам запретное позерство в это период было выгодным, а субкультуры… Субкультуры были уже другими, не хипповскими, что наши рок-руководители попросту прощелкали. Ну а кроме этого эпизода, каким фашизмом Рекшана потешили?
Какой фашизм был в песне про Лещенко, который намозолил уши своими песнями про победу, или в песне про Индиру Ганди, которую убили спустя 2 месяца после записи альбома, тут уж пускай медики разбираются. Был сделан музыкально озвученный срез соцдействительности, но эти люди, заселившие рок-клуб в 1983–1985 годах, этого попросту не понимали. Им нужна была паства и поклонники, потребляющие полулегальный аудиотовар, все, что в этот формат не укладывалось или вызывало какой-то резонанс, они попросту отсекали. А группа вообще не собиралась выступать. Это был «ноль объект», задачей которого была фиксация ситуации, поэтому принципиально подавались заявки, которые тут же отвергались, ходили слухи о том, что когда-нибудь да выступят. Но этого не происходило, потому что и не планировалось (смеются). Стоит отметить, что бюрократическая система в рок-клубе была не всегда таковой. В самом начале там творилась анархия, и все было достаточно весело. Ближе к перестройке началось подобное загнивание. Проявились унылые хиппи, появились билеты, которыми отчаянно спекулировали. Ввели хозрасчет, и все накрылось медным тазом. Но меня это тогда как-то слабо интересовало. А потом, когда волна рок-эстрады схлынула и стали пропускать радикалов, все вернулось на круги своя.