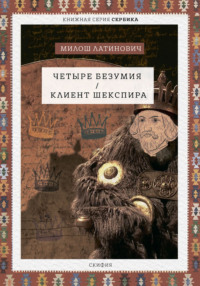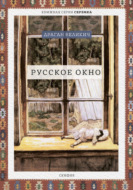Czytaj książkę: «Четыре безумия. Клиент Шекспира»

Сербика
Miloš Latinović
ČETIRI LUDILA
ŠEKSPIROV KLIJENT
Banatski kulturni centar
2009

Перевод книги сделан при помощи Министерства культуры и информации Республики Сербия

© Латинович М., 2009
© Латинович М., 2017
© Соколов В., перевод, 2018
© Издательство «Скифия», 2018
© Издательско-Торговый Дом «Скифия», оформление, 2018
Четыре безумия
Король Лир не начнет своего пути к безумию без того брутального жеста, которым он изгоняет Корделию и осуждает Эдгара. Именно поэтому трагедия разворачивается под знаком сумасшествия. Души преданы пляске демонов. В итоге – не меньше четырех безумцев (один по ремеслу, другой по своей воле, еще двое из-за мучений): четыре необузданных тела, четыре невыразимых лика одного и того же удела.
Альбер Камю
Особым образом вершилась та работа:
Чтобы в одном лице и в жизни до конца
Вместилась вся людская красота,
И чтобы свет, и мрак слилися навсегда,
И ангельская сласть, и пламя ада,
Жемчужный свет ликующих небес,
Песнь соловья, шипение дракона,
Что в жаркий полдень леденит нам кровь,
И мерзкий дух зловонного дыханья —
Все здесь влилось в один поток.
Случилось чудо… Для нас Шекспира создал Бог.
Лаза Костич
Мир, которым правят страсти
Чудо Ганса Вурста начиналось в то мгновение, когда ярмарочный скоморох начинал орать: «Слушай сюда, народ!» И тогда все собравшиеся на площади люди догадывались, что сейчас волшебные слова и увлекательные истории уведут их в далекие Индии, где многие из зевак уже побывали с ним, но все знали и ожидали именно того, что повторное путешествие «туды» будет невероятным, безумным и совсем другим. Ранее не пережитым.
День был прекрасен. Ранняя весна в Альпах. Зеленые луга. Низкое солнце и огромные белые облака.
– Как начать рассказ? – задумался Йоца Савич.
– Если не знаешь, как начать, мой родимый, то начинай с конца, – шепнул ему Иоганн Вольфганг Гете. Облако над Оберсдорфом обрело его лик. Бескрайнее голубое полотно весеннего неба украсили многочисленные кипы хлопка, или же эти необычные, бесформенные украшения были похожи, как помнил Йован, на не осевшие еще взбитые сливки, которые мама выкладывала деревянной ложкой на престол круглого темного бисквита.
Природа – видимый дух.
Дух – невидимая природа.
Фридрих фон Шеллинг все еще был популярен у современников и присутствовал в их жизни роскошным дефиле многочисленных цитат. Романтизм был все еще жив и популярен.
Год 1889.
Месяц апрель.
– Чье имя, какое лицо, какой характер столкновения характеризует наш мир, в котором серая ревность и жестокие страсти преобладают? Вот какая история необходима мне для начала, мой дорогой друг, – продолжил вслух Савич разговор с великим мастером слова, который, начиная с веймарских дней, часто являлся в жизни сербского актера и режиссера Йоцы Савича.
Он неспешно спускался в зеленую долину с вершины Филхорна. Шел по узкой утоптанной альпийской тропе, ведущей к селу, со стороны которого доносилась музыка. Празднество все еще продолжалось. Комедиант Ганс Вурст все еще блистал. Он стоял на телеге, прислонившись к огромной пивной бочке, с единственным реквизитом – колбаской и куском хлеба в руке, улыбчивый и гордый, окруженный многочисленной восхищенной публикой. Артист и мечтатель Гельмут Генрих Ламм по традиции выступал перед местной обердорфской пивной. И этой весной он появился здесь, отважно ступив на импровизированные подмостки, как всегда, после окончания торжественного шествия. Производя невероятный шум, он привлекал внимание пришлых туристов и местных жителей хорошо известным повествованием Ганса Вурста о его невероятном путешествии в далекие Индии.
Собравшейся публике рассказ скомороха был знаком до мельчайших деталей, но каждый раз он исполнял эту выдуманную безумную эпопею иначе, по-новому, убедительнее. Увлекательнее. Это говорила его ловкость, в этом скрывалось его мастерство, это была золотая пыль магии, которую он внезапно и театрально, даже ритуально, бросал ввысь, в лицо солнцу, к облакам, на черные шляпы и роскошные кроны деревьев, ослепляя публику. Савич знал: «Мятущиеся и неуверенные люди ищут ответы, которые приведут их к радости, покою, самопознанию, спасению – но также они хотят, чтобы эти ответы можно было легко узнать, не прилагая особых усилий, или совсем без оных, и легко получить желаемый результат».
Именно это делало Ганса Вурста популярным. Поэтому плебс обожал его. И народ искренне любил. Все с нетерпением ожидали его выступлений. Именно владея редким мастерством комика, Йоца Колбаска, как прозвали его сербы, боролся за успех у капризной и бесцеремонной публики и зарабатывал на горбушку черного хлеба и кувшин винца. Виртуозное повествование – многочисленные повторы и неожиданные каламбуры – обычные приемы удерживали его на плаву.
Артисты, озабоченные театром, от всей души презирали его, издевались над примитивной популярностью. Потому как всякая слава преходяща, но актерская – самая кратковременная. Гистрион царствует недолго.
– Может, именно это – новое истолкование старой истории – и есть искусство, – вслух произнес Савич.
Солнце нашло несколько неправильных промежутков между громадами облаков. Золотые пули попали Савичу в лицо. Их неожиданный удар на миг ослепил его, затуманил взгляд. Йован Савич быстро отвернулся в сторону. К лесу, в котором пел дрозд, и где он давно, в то лето, когда впервые приехал с Луизой в Оберсдорф, нашел гладкий белый валун, на котором росла высокая сосна. Он полюбил сидеть на этом каменном лесном престоле. Расстилал небольшое пестрое одеяло или просто подкладывал свой джемпер, газетные листы или несколько пригоршней сухих сосновых иголок, садился и молча вслушивался в ритм леса: трепет листьев, хлопанье крыльев невидимых глазу птиц, лисьи шаги, запах сосновой смолы и журчанье ручейка, говорок невидимой воды, струящейся меж камней в высокой траве, упорно углубляющей русло и продолжающей путь к своей неминуемой тихой смерти в пересохшей, жаждущей земле пустоши или в безграничных пространствах иной воды. Этот покой напоминал ему о детстве и нередких минутах, проведенных в березовой роще неподалеку от Вранева, в местах, что местные жители называют Либе. Поздней весной роща наполнялась запахами теплых дождей, а в январе, после святок, становилась торжественно тихой, ужасно одинокой, укрытой белым одеялом, на котором отчетливо виднелись следы зайцев и серн. Он случайно обнаружил ее. Шестилетним мальчишкой он удалился от дома – очарованный золотым волшебством банатского лета, ничем не скованной свободой голубого неба, увлеченный невероятным теплом тонкой пыли под босыми ногами, соловьиной песней, прыжками серой белочки – и заблудился в роще. Страха не было, просто он обозлился на себя за то, что не спрятался в высокой траве или за большим, вывернутым из земли пнем или за поваленным деревом, и в итоге его довольно быстро нашли. Очевидцы рассказывали, что его бабка Анджелка трижды ударила суковатой палкой по воде в колодезном корыте и сразу сказала, в каком направлении следует отправиться на его поиски. Она его и нашла, и прежде чем вывести из березового леса, произнесла короткий и неразборчивый заговор, после чего трижды дунула на соль, что была в правой огрубевшей ладони, чтобы отогнать демонов от его лица. Позже, во время каникул, когда он приезжал, правда, редко, в родные места из Вены, он обязательно через поля шел к березовой роще. В ней он впервые познал любовь, следя за игрой трав и росы, почувствовал печаль, глядя на смерть только что вылупившихся птенцов, и увидел странный зеленый свет, предшествующий появлению ведьм в «Макбете». И тогда он не ощутил страха. А только печаль. Непонятную и бескрайнюю.
«Надо было бы исчезнуть, отказаться от всего, но для этого следует обладать силой».
– И это стало бы предательством, – услышал он голос Луизы. Она не малодушничала в жизни, а тем более в искусстве.
«Да, это было бы предательством. Самого себя и тех, чья вера в тебя, в твои идеи и дела обязывает. Революция невозможна без жертв, но тогда непонятно, зачем нам нужны такие перемены, если кого-то обезглавят, уничтожат семью, сожгут дом… – подумал Савич. – Ребенком я узнал красоту людей, природы, искусства, юношей я наслаждался ею, а теперь, состарившись, осознаю, что вовсе не она самое главное в жизни. Красота более не властвует. Нет ее. Убита людьми».
– Часто между людьми случаются раздоры, которые каждый раз происходят вследствие разных, зачастую противоположных мнений и чувств, не дающих возможности примириться. Если одна из сторон вырывается вперед, овладевает умами множества людей и властвует в такой степени, что противоположная сторона вынуждена отступить и на некоторое время утихнуть, смириться под давлением победителей, тогда мы подобное состояние называем духом времени, который царит некоторый период, – ответил ему Гете.
Немецкий поэт исключительно высоко ценил «добрый дух» Стратфорда. Кстати, «Геца фон Берлихингена» он написал, соблюдая правило драматургии, требующее частой перемены места действия, под сильным влиянием Шекспира. Но Гете намного выше ценил поэтический дар Шекспира, потому что его «диалогические истории» он считал особенно неподходящими для «нового времени» и театра роскоши и красоты, царившего в Германии.
– Театр Шекспира – триумф слова! – вмешался старый и всегда сдержанный в дискуссии Генрих Лаубе.
– Его пьесы – славные и загадочные дороги мечты, господа, – неожиданно решительно и напористо вмешался режиссер Йоца Савич, защищая свое мнение и мастерство Уильяма Шекспира.
Наставничество подразумевает удобный плащ, под которым можно укрыться, однако при попытке высунуть из-под этого плаща ноги можно претерпеть сильные страдания. Он равнялся на Гете в организации работы и следовании ценностям, он стал в Веймаре его наследником и потому понимал, насколько сложно и ответственно следовать великому ментору. А Генрих Лаубе, суровый формалист, строгий представитель «Wort-regie», интендант Бургтеатра, встал перед ними как скала, о которую разбивались мощные волны фантазий людей искусства.
– Несовершенство английского театра подтвердили его хорошие знатоки. В нем нет ни следа той естественности, к которой привыкли мы, благодаря совершенствованию механизмов сцены, изображению перспективы на декорациях и разнообразию костюмов. Поэтому мы вряд ли сможем вернуться к детским годам театра: к деревянным трибунам, с которых мало что можно было рассмотреть, где публика, более напоминающая неуемную толпу, довольствовалась застиранной зеленой тряпкой, изображавшей королевские покои, к трубачу, обязательно трубившему в определенные моменты. Хорошо, что этих твоих чудес нет в Веймаре, – поведал ему Гете, после чего исчез с командой перисто-кучевых облаков, которые сломя голову неслись над (Эберсдорфом через еще заснеженные вершины гор.
Он остался в одиночестве.
Одиночество – необозримое опасное пространство вроде пустыни. Бескрайняя пустынная поляна, которую следует перейти. Пересекая ее, человек начинает спотыкаться. Цепляется за кусты, запинается о кротовые холмики. И вдруг неожиданно проваливается в заросшую травой холодную лужу. Падает. Ударяется лбом о камень, коленкой о сухую упавшую с дерева ветку. Ползет. Поднимается, грязный, в синяках. А идти надо. Иначе сожрет гниль. Недвижного украсят серебристобелые гроздья голубиного помета. Ветер будет свистать в его расшатавшихся зубах.
Одиночество – копание в собственных мыслях как в куче мусора, попытка составить разбросанные детали, перекладывание разрозненных кусков с места на место. Адская комбинаторика. Одиночество уводит от действительности. Воздвигает стены. Творит истории, из которых трудно выпутаться, а их содержание невозможно изменить извне. А жизнь человека – «коротковолновое движение частиц». Что-то надо делать. Обязательно. Жизнь бессмысленна, и потому не стоит проводить ее в одиночестве и вроде графа Каррары в осажденной венецианцами Падуе носиться с криками по залам своего пустого дворца и призывать дьявола, требуя от него смерти. Надо предпринять что-нибудь практичное. Сделать дело: родить ребенка, написать книгу или поставить пьесу.
Платиновое око молодого месяца заглянуло в неправильное окно, образованное ветками деревьев. Вскоре скончался еще один день. Исчез.
– Макбет или Лир, вот в чем вопрос. К какому из двух грандиозных безумий склониться? Что за беда питает нас сегодня? Чьей власти перст воткнулся в око нам? Той, зеркало которой – честь Лира, или же той, лицо которой – террор и власть Макбета? – обратился Савич к темным теням сосен, зловеще окружившим террасу его пансиона.
Он смотрел, как ночь укрывает высокие остроконечные крыши домов. Видел, как здания исчезают под тонким, но непрозрачным плащом, словно вещи, забытые на опустевшем пляже – игрушки и полотенца, камешки и ракушки – залитые неудержимой волной прилива. Но дома-то остаются здесь?! Дома помнят. Берегут некую спиритическую субстанцию, оставленную теми, кто жил в них – один день или короткую летнюю ночь, а может, и целую вечность – тех, кто любил и умирал в тихих комнатах.
Странный покой вошел в сельские переулки, торжественно и театрально, как гордо и уверенно входит хозяин в прокуренную пивную. Все замерло. И ветер. И запахи полевых цветов исчезли.
Он почувствовал, как озябли щеки, руки, плечи. В горах ночь тяжелая и холодная, даже летом. В первые дни мая у темноты осенний синеватый оттенок. «Король Лир. Это космическая трагедия. Эта пьеса завершает трагический цикл, даже если Макбет, что весьма вероятно, написан позже. Поставлен позже. Но Макбет прост, в нем победа пробуждает амбиции. В этой пьесе самая интригующая – его lady. Леди Макбет. И потому должен быть Лир. После Лира, после холодной ночи в пустынном поле всех нас ждет безумие».
– Будет Лир, – завершил Савич.
Начался дождь.
Безумие приходит позже
(Из дневника)
Кто этот король Лир?
Какой Лир – наш?
Тот, из книги Сэмюэла Харснета «Заявления о вопиющих папистских мошенничествах», или тот, из драмы анонимного автора о короле Лире? Рассказ о короле Лире был известен и до Шекспира. В «Истории британских королей», написанной около 1337 года, приведена версия того, что случилось с древним королем по имени Лир, правившим в VIII или VII веке до Рождества Христова. Этот рассказ присутствует и в «Хрониках» Холиншеда, и у Спенсера в «Королеве фей», где впервые появляется имя Корделии и сведения о том, что девушка повесилась, в романе Филиппа Сидни «Аркадия», где приведен «рассказ о короле Пафлагонии, которого его сын Плексиртус (незаконнорожденный) лишил власти и ослепил, а другой сын Леонатус, некогда обиженный отцом, стал поводырем слепого и нищего короля», откуда он мог почерпнуть сюжет с Глостером. Но главным источником, скорее всего, стала анонимная драма под названием «Истинная история короля Лира», которая завершается его возвращением на утраченный престол.
Нам нужен Лир, король, властелин, которого, мощного и сильного, смертельно ранит стрела суровой истины. Истины о любви и власти, которую гордо произносит его младшая дочь – любимая Корделия, дорогая скромница, от которой король такого заявления никак не ожидал, тем более настолько открытого, перед всеми, перед ее алчными сестрами, перед зятьями короля и на глазах у дворцовой свиты. Какой властелин, будь он тиран или нет, готов услышать правду о себе или о каком-то своем решении или идее? Вот такой король Лир должен быть у нас, высокомерный аристократ, которого неистовое бешенство и слепое упрямство несет как горный поток. Не безумие! Это не безумие.
Безумие появится позже. В финале.
Таков король Лир, оскорбленный в душе, нелепо тщеславный, каковыми и были правители до Христа, такими были правители во времена Шекспира, таковы и сегодня власть предержащие: народные вожди, любимые генералы или избранные демократическим путем трибуны. Ранимые, как дети, обидчивые, оскорбляющиеся по пустякам, но готовые по собственному капризу уничтожить все, даже собственную семью. Ради того, чтобы хоть на несколько лишних мгновений, на один день или пару недель остаться у власти.
Таков король Лир, которого написал Шекспир.
Пусть вас едут ваши познания, мой принц
– Я не могу тебе помочь, мой Иоганн. После стольких лет. Столько всего. А я так привыкла к твоему присутствию. К твоим идеям. К твоей работе, дисциплинированности и терпению. Ужасно чувствовать, что ты абсолютно беспомощна, это хуже, чем чувствовать, что ты сгораешь изнутри – шептала Луиза.
Она сидела у большого окна в удобном кресле и смотрела, как после неожиданной вчерашней непогоды облетающие листья каштанов и платанов устилают пестрым ковром лужайку перед домом в Оберсдорфе.
Савич стоял рядом с ней, опершись рукой о высокую спинку. В другой руке он держал керамическую чашку с металлической крышкой, похожую на пивную кружку. Он пил кофе с молоком.
– Весна. Когда-то я радовался осени, началу театрального сезона, невероятным краскам, молодому вину, бурному Октоберфесту, а теперь радуюсь лету. Хорошей погоде. Солнечным дням. Мечтаю об Италии. Понимаешь, Иоганн? О Неаполе. Генуе. Венеции. О пляже Лидо ди Езоло. Море. Бескрайнее море. Бирюзовое. Бирюзовое как жизнь. Болезнь меняет человека. Изобличает его лицо и волю, – вдохновенно заговорила Луиза Шталь.
– Завтра возвращаемся в Мюнхен. Я обязан начать пробы, а также продумать другие важные детали предстоящей постановки, – сказал Савич. Потом поставил свою чашку на мраморную столешницу и встал перед ней, стройный и решительный, совсем как на сцене. – Пробы начнутся уже в понедельник. В три пополудни.
Меньше чем через три дня. Ужасно, как я мог согласиться в такие невозможно короткие сроки поставить пьесу? Боже, так мало времени! Пять недель. Я так нервничаю. Совсем не готов. Я слаб, моя Луиза, слаб.
– Я сегодня утром смотрела с террасы, как ты выходишь из дома. Ты был бодр и весел. Ты взбегал по крутому склону совсем как юноша, готовый завоевать весь мир, – сказала жена. – Ты был таким же, как тогда, когда я познакомилась с тобой. Полюбила. Решительного и уверенного в своих замыслах.
– Люблю, Луиза, гулять летом по горным склонам. Для меня, дитяти равнин, это настоящий вызов. Помнишь наши долгие прогулки в Веймаре? – оправдывался муж.
– Нет нужды, дорогой, менять тему разговора. Я все понимаю, все знаю. Знаю, ты готов к великой работе, дорогой. Как всегда. Я читала твои записи. Заметки на полях текста Шекспира. Это будет триумф твоего театра. Ты мой Прометей, дарящий огонь, тот, что серьезно заявляет: «Все, что предстоит снести, мне хорошо известно. Неожиданной не будет боли».
Савич не ответил.
Он долго всматривался в ее прекрасные голубые глаза. Они казались усталыми, словно принадлежали гораздо более старой женщине. Ее талант загубила неизлечимая болезнь, вызванная постоянными интригами в театре, глупыми сравнениями с лучшими или более молодыми актрисами, унижениями, вызванными его положением. Она была женой талантливого и решительного человека, полного идей, страстного, влияние которого в театральном мире не подвергалось сомнению. Нарушить его целостность и гениальность, поколебать его покой, остановить его в реализации замыслов, иссушить источник его идей и уничтожить планы – только так зло могло заставить страдать его жену.
Луиза была предназначена в жертву.
Ее ацилута все еще теплилась, но ее будущее готовилось к поэтике космоса.
К поэзии. Поэзии Данте.
Плачьте, влюбленные, ибо плачет любовь…
Пришла пора дать ей лекарство.
– Как быстро пролетела жизнь, – тихо произнес Савич, оставшись в одиночестве. – Растаяла, как клочок тумана, опустившийся в долину. Я все еще помню день знакомства с Луизой. Она была молодой, страстно желавшей жить, преданной профессии и любви. В самом деле, болезнь может сотворить с человеком все. Все в этом мире стремится к смерти и уничтожению. А Бог молчит.
Вдалеке послышался резкий звук рога. Привычный сигнал сбора. Зов братства. Сезон охоты на лис в Оберсдорфе еще не закрылся. В этот необычный миг Йоца Савич вспомнил отца и его друзей, которые ранними зимними рассветами в Новом Бечее отправлялись на охоту. Возвращались вечером, веселые, согретые ракией, вином, жареной солониной и проперченными колбасками, вдохновленные хвастовством, романтическими воспоминаниями, разукрашенные, словно сваты, зелеными и темными еловыми иголками, репьями, сухой травой, бляшками засохшей грязи, фазаньими перьями и заячьими хвостиками.
– Охота как прелюдия какой-то будущей войны. Никогда я не мог понять этой жестокой игры с неравным противником, с назначенной жертвой и очевидным исходом, равно как и не питал я симпатии к страстям взрослых, серьезных людей, знающих и определяющих правила, знакомых с мраком бездны поражения и тяготами унижения, – прошептал режиссер, входя в комнату, где все так же неподвижно сидела на своем «престоле печали» Луиза.
– Ты поговорил с Иоганном? – спросила она.
Вопрос прервал течение мысли Савича.
Луиза знала, что ее муж, признанный актер и режиссер, часто обращается к мудрости Гете, но их «разговоры» не были вымыслом надменного удачливого наследника, но мистическим обращением Савича к великому писателю за вдохновляющим советом. Слова «Johann und Johann» стали ее лозунгом, придуманной игрой, с помощью которой она подбадривала, а иной раз и «подкалывала» любимого мужа, мечтателя и художника.
– Да. Старый добрый Гете…
– Что сказал тебе мудрый старик?
– Благословил меня, при условии, что я не стану осуществлять свою безумную задумку и ненужный эксперимент в его Веймаре. Я не отважусь, дорогая, тревожить его тень, – ответил он, приняв игру неожиданно весело, будто это неожиданное перемещение в мир духов принесло ему облегчение и помогло выйти из лабиринта скучной повседневности.
– Мюнхен идеален для экспериментов. Его жители избалованы и довольно богаты. Шикарности иногда не достает простоты, – вновь отозвался Гете.
Савич обернулся на голос писателя.
В комнату вползала темнота.