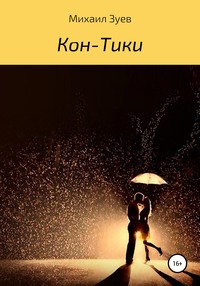Czytaj książkę: «Кон-Тики»
Тебя ведут милосердные и мудрые Руки Господни сквозь ужас и тьму, и конец уже виден твоей беде.
Ирбис1
Я любил это время, – четыре пополудни, когда не день и не вечер, когда еще так упруго, – и вдруг: первая усталость; и пока солнце, а уже под горку. И мы с Цаплей плечом к плечу опрокинуты напряженными спинами на лавандой отдающий плед прокрустова ложа, где всегда много или мало, и никогда так, чтобы. И паутинка трещинок на потолке, и башня-истукан в немытом окне нависает над нашими друг другом утомленными, последней декады молодости телами, словно всё-всё наперед знает и зачем-то (кто просит?!) сказать хочет: ничего до вас не было, но всё теперь – будет.
***
Странное непонятное и не испытанное никогда прежде чувство всякий раз входило в меня на последней стометровке тоннеля перед кольцевой станцией «Проспект Мира». Ненасытная жаждавшая движения застоявшаяся толпа выносила меня из гильотины дверного вагонного проема. Я взбегал по лестнице перехода, каждую секунду торопясь и каждое мгновение сдерживаясь. Если поезд на радиальной уже ждал меня у платформы, я играл в странную игру: дождется он меня или закроет двери перед носом. Загадывал, одновременно ничего не загадывая. Потому что боялся не угадать.
Если же поезда не было, шел вперед, туда, где остановка самого первого вагона. В поезде никогда не садился, пусть даже вагон был совсем пуст. Конечно же, я знал, что мне нужно в последний, но все равно: шел в первый, чтобы потом, когда промелькнет за мутным стеклом людского аквариума «Рижская», не спеша подойти к двери и выйти: не так, прыжками и в спешке, как было принято в обтекавшей меня уже чужой жизни, – но плавно, без торопливости. Знал: так возвращаются в порт приписки морские волки, – туда, где ждут, и ничего и никогда не случится на свете, чтобы перестали ждать.
Из преисподней «Щербаковской» возносился трапом вибрирующего эскалатора, пытливо изучаемый бледными лампами дневного света, в лицо бросающими вопросы, – «ты куда?», «зачем?», «уверен?», – в раздражении кривя губы, не удостаивая ответом; поднимался в гул, шорох шин и пряный выхлопной аромат проспекта Мира, чтобы: крепче замотать шарф, застегнуть пальто, затянуться первой, после долгой дороги самой вкусной дымной затяжкой, заскочить в автомат, хрюкающим холодным диском набрать номер, выдохнуть короткое как счастье – «иду!» – в пахнущую эбонитом тяжелую трубку, и тут же нырнуть в переход, – туда, на другую сторону всего сущего: где гавань, где причал, где конец пути, где исполинскими бакенами три кирпичных куба. И в одном, среднем, под самой гудронной крышей, горят для меня три окна.
Так заканчивалась пятница, бесшовно смыкаясь с входящей в мир субботой полотном нескончаемой обжигающей зимней ночи, до краев наполненной терпким венгерским вермутом со льдом – «Ха! Да ты только прикинь, Стешик, «Мартини» в «Березке» за валюту, а тут все то же самое, в винном на той стороне, и никто не брал, а я одна такая была эстетка!», – и ванной с душистой пеной, и медленно убывающей, то и дело тухнущей, кубинской сигарой из магазина «Табак» на Комсомольском, но прежде всего – тобой.
Тобой, моя нежданная, невероятная, неповторимая Цапля.
***
– Там телефон… Стеш, трубку сними. Который ча-а… – зевает, – час?
– Девять. Лень… Меня же здесь нет. Мне некому сюда звонить.
– Степан! Сте-е-ша! Не занудничай! Сними!
– Гх-м… Э-э-э… Сейчас встану. Ал-лё! А-а, дарова. Даю… Цапля, тебя.
– Кто?!..
– Дерюгина.
Сразу все метр двадцать два босых цаплиных ног шлепают в мою сторону по холодному полу. Меня обдает теплом. Отдаю трубку. В два прыжка оказываюсь снова на диване, ввинчиваюсь обратно под теплое одеяло. Исподтишка любуюсь: Цапля у двери, чуть сутулясь, левой держа трубку, что-то воркует с Дерюгиной, правой – хулиганка! – почесывает неимоверной красоты задницу, при одном виде которой в неверном еще утреннем свете свежего января с меня слетают последние остатки крыши.
Приподнимаясь на локте:
– Трубку положь! Положь труб-бку! Иди сюда! Ко мне – шагом мар-р-рш! – бешено вращаю глазами, словно довлатовский «абанамат». Кладет. Смеется. Идет. Утро снова оборачивается ночью.
***
– Чего ты так с Дерюгиной возишься? Она еще раньше позвонить не могла?!
– Дурак что ли?! Она моя подруга!
– Давно?
– С первого класса.
– Не знал.
– Теперь будешь знать. Ты ведь тоже – мой друг. Или нет?..
Все пошло-поехало в середине декабря. У Вольфсона был день рождения. Тридцать шесть. Старший товарищ, тас-сзать. Начали традиционно после вечернего обхода, в ординаторской, потом перекатились к нему в берлогу в Тропарево. Вроде как много и не пили, но было весело. Как-то незаметно стали появляться барышни – я их не запоминал. Последней пришла Дерюгина, оказавшаяся бывшей Вольфа. Она-то и привела с собой Цаплю.
Час ночи или около. Метро закрыто. Пошли толпой, ловили мотор. Поймали «двадцать четверку», универсал. Нас – пятеро. Водила раскладывать третий ряд отказался, сказал, спинка сломана. Пришлось мне и Цапле лезть поверх багажной полки. Там жестко и скользко. Чтобы не мотало, обнялись. Кто ж тогда мог знать…
– Стеша, я тощая?
– Ты не тощая. Ты изящная.
У нее пунктик. Хотя… – а что бы я на ее месте?! Сто девяносто. Сто девяносто долбанных сантиметров роста, и какая-то зависимость: «я тощая?». Да не тощая ты. Ты просто длинная. И красивая. Как никто.
– Стеша, пусти.
– Я не держу.
– Врешь.
Конечно, вру. Не держу. Держусь.
– Я вчера хвосты купила.
– Чего-чего?
– Хвосты. Бычьи хвосты.
– Зачем?
– В мясном, рядом с типографией, выбросили.
– Зачем?
– Что зачем?
– Цапля, зачем ты купила бычьи хвосты?
– Мяса все равно в магазинах нет. А из хвостов можно суп сварить. Испанский.
– Ты умеешь?
– Нет.
– А кто?
– Дерюгина умеет. Придет сейчас. Звонила, пока ты в душе был.
– Цапль, зачем нам суп из хвостов? Я три банки тушенки принес!
– Вот сам ее и ешь, свинью свою!
– Там не свинья, там корова!
– А у меня – быки! Точка!..
***
Я любил это время, – четыре пополудни субботы, когда не день и не вечер; когда я не дежурю. Когда нам можно ленивым прайдом просто валяться, насытившись, – уже не друг на друге, а рядом, и тихо говорить.
– Что нового, Стеша?
– На работе?
– Ага.
– Каждый день все самое новое. Новейшее. Новые отравления, новые инфаркты, новые суициды. Будет лето – прибавятся утопления.
– Все клоуничаешь.
– Не без этого. Гураму скоро на пенсию.
– Кто вместо?
– Вольфсон, знамо дело.
– Молодым везде у нас дорога, знамо дело… А почему не ты?
– У меня для завотделением еще молоко на губах не обсохло.
– Стеш, а ты уверен, что молоко? – и ржет тихо в подушку, отвернувшись, угловатые лопатки ходят вверх-вниз под тонким шелком халатика.
Ты не тощая. Ты длинная. Длиннее меня на семнадцать сэмэ. И охальница, каких мало. А я рядом с тобой летаю. Ты знаешь.
– А меня на доску почета повесили!
– Чё, прям взяли и повесили?
– Ага. За успехи в труде и примерное поведение! Да-да-да! И надпись написали…
– У попа была собака?..
– Не-е-е. Бухгалтер Юлия Львовна Чаплина! Без инициалов! Полностью!
– Юлия… Львовна… Чаплина… Цапля, старое погоняло отменяется! Теперь будешь – ю-эль-ча… – Юльчатай!
– Мне «Цапля» больше нравилось. А ты… Эх ты, Стёпа-недотёпа.
– Ладно, не дуйся.
– А я и не дуюсь. Что на дурачков обижаться… В окно посмотри.
– Смотрю. Темнеющее небо, снеговые тучи. Шпиль «Останкина». И?
– Стеш, а вдруг там, над шпилем, Данилов снова на туче летает?
– Точно, Цапелька. А внизу Наташа2 в троллейбус садится. Думаешь?
– Не думаю. Знаю, Стеша. Я их чувствую.
– А я – тебя.
Всё рано или поздно кончается. Холодной изморозью ощетинившейся ночью с воскресенья на понедельник я вбежал в метро почти перед закрытием. Главное, чтобы впустили, выпустят потом в любом случае. Подземный спрут готовился к ночной жизни, доступной взорам лишь избранных. В тоннеле на кольцевой зажглись яркие, до костей пробивающие прожектора. Ночь стала днем. Все относительно. Абсолютен лишь я: опять бездомный. Я, бездомный, едущий вроде бы домой, – туда, где для меня давно дома нет.
***
Ассистировал Вольфсону. Непонятно отчего, дело сразу задалось. Разрезы ложились ровно, кровило мало, в ране – полный порядок. Вольфсон не хамил, шелк с кетгутом не рвались. Всегда серьезный и немногословный, Аркадий на этот раз не был суров; периодически что-то напевал себе под нос. Замогильным голосом травил анекдоты, заставлявшие юный румянец операционной сестрички Наденьки рдеть даже под маской. Через полтора часа – как-то мы по-стахановски уложились – кивнул:
– Закругляйся, Стёп-Ваныч. «Шейте, доктор, мгновенно кожу». Вывози, сдавай. Я тебя в ординаторской подожду.
В ординаторской – конец дневной смены: гай-гуй, дневные не ушли, ночные только заступают, впереди обход. Аркадий пошушукался с Гурамом Вахтанговичем, махнул мне – пойдем.
– Гурам нас отпустил с обхода. Свободны. Нехрен нам там делать. Мы с тобой сегодня долг родине отвесили сполна. Обрыдли уже эти походы-переходы-расшаркивания по вечерам. Переливания из пустого в порожнее. Вер-р-ра! – проходившая мимо старшая сестра отделения обернулась. – Верунчик! Дай ключ от «хозяйской». Нам со Стёпой посекретничать надо.
В «хозяйской» у окна приютился маленький фанерный столик. Около него два видавших виды стула. Все остальное пространство – стеллажи до потолка, заваленные медикаментами, бельем, коробками, инструментами, посудой и всякой другой медицинской утварью, такой, что невооруженным глазом и не заметить, но без нее работа отделения немедленно встанет.
– Будешь? – риторически спросил Аркадий, выуживая из подозрительно оттопыренного кармана несвежего халата стеклянную коньячную фляжку. Я так же ритуально кивнул в ответ. Из другого кармана вольфсоновского халата на свет появился пяток хороших шоколадных конфет.
– Нравится? – поинтересовался Вольфсон, опуская опустевший стакан тонкого стекла на белый стол.
– Мягкий, – сказал я, выдыхая в свой и наблюдая, как пар от дыхания осаживается на стеклянной стенке сосуда.
– Точно, – поддакнул Аркадий и задумался. Я тактично молчал.
– Слушай, Степан. Давай так, без обиняков. Гурам через две недели – «старикам везде у нас почет». Кто вместо, знаешь?
– Ты, – спокойно сказал я.
– Молодец, догадливый, – в голосе Вольфсона скользнула легкая ирония. Я лишь улыбнулся в ответ.
Вольфсон достал сигаретную пачку, чиркнул возле моего носа зажигалкой, прикурил свою. Тренируя аккомодацию, я медленно переводил взгляд с пыхтящего алым кончика сигареты на пейзаж за окном, и обратно. За оконным стеклом было пусто, холодно и тоскливо.
– Все правильно, Стёп-Ваныч, все правильно. Я теперь новый заведующий. Секрет Полишинеля…
Спокойно улыбнувшись, я взглянул Вольфсону в глаза, затягиваясь его халявной «мальборятиной». В моем хозяйстве денег на такие изыски предусмотрено не было.
– Только вот, чего никто не знает, – продолжил Аркадий, сделал паузу… – ненадолго это.
– Почему, Аркадий Борисович?
– Потому что я – уезжаю.
– Далеко?
– На воссоединение с исторической родиной.
– Понятно. Значит, насовсем.
– Ты умен и догадлив, кабальеро.
– Когда?
– А прямо в июле, перед фестивалем молодежи и студентов. Они все – на крыльях любви к коммунизму и светлому будущему человечества – сюда, а я – в ряды международных сионистов – в прямо противоположном направлении пересечения государственной границы.
– Не боишься? – спросил я.
– Где? Здесь или там?
– Там, Аркадий.
– Ах, там… Там-то мне бояться нечего. Это здесь я инвалид по пятому пункту, а чуть что – так и вовсе врач-вредитель. Прецеденты были. В курсе?
Я кивнул. Аркадий наплеснул по второй.
– Короче, Склихасофский. Отделение нуждается в заведующем. Прямо с июля.
Я молчал.
– Кроме тебя, ставить некого. Остальной контингент – либо хворый, либо подлец, либо алкаш, либо все вместе в разных сочетаниях.
Я молчал.
– Что воды в рот набрал?
– Зря вы, Аркадь Борисычь, хороший армянский-то водой называете…
– Зря – не зря… Я вопрос задал.
– А это был вопрос?
– Стёпа, заканчивай бодягу разводить. С начмедом я уже говорил. Не возражает. С главнюком тоже. Ты молодой, умный, старательный. На хорошем счету в больнице. Подходишь по всем статьям. Опять же, по пятому пункту не хвораешь. Ну?.. – Вольфсон внезапно запнулся, хлопнул себя по лбу. – По комсомольской линии взысканий не имеешь?
– Да окстись ты, Аркадий. Какой линии?! Мне тридцать скоро! Я уже два года как выбывший по возрасту.
– Эх, не удалось тебе стать Павликом Морозовым! – заржал Вольфсон. – Ну?
– Партия сказала «надо», комсомол ответил – есть! – скорчив дурацкую рожу, выпалил я.
– Рад, что в тебе не ошибся. Теперь слушай сюда. Программа сабантуя у нас такая. Со следующей недели будешь со мной вставать в дежурства вторым ответственным по больнице. Это месяца два, так нормально будет. Параллельно сдадим тебя на первую категорию. Комиссия в горздраве – там все свои, палок в колеса ставить не будут. Апрель – поставлю тебя своим заместителем, проведем приказом. В мае – на месяц в институт усовершенствования на цикл. Май короткий, сильно не перенапряжешься. На дачу будешь ездить нормально.
– У меня нет дачи, – сказал я.
– У меня тоже, – поддакнул Вольфсон, – уже продали. И вот, к концу ию… – он сделал паузу, загибая пальцы, – …ня – ты новый заведующий. Чего не знаешь – всему научишься. Стимул будет. С подачи администрации консультантами-дежурантами, когда надо, тебя усилят. Так что – не дрейфь. Ну, лады? – протянул мне руку Вольфсон.
– Лады, Аркадий Борисович.
***
Пятничным вечером я добрался до проспекта Мира часов в восемь. Дверь открыла Дерюгина. Ее изрядно штормило. В узком квартирном коридоре было темно. Из-за приоткрытой двери туалета виден клин света и слышался громкий шум набираемой в бачок воды. Вскоре шум оборвался с неповторимым звуком, с каким уличный автомат завершает налив в стакан газводы за копейку.
– А Цапля где?
Загадочная Дерюгина молча выдала размашисто-неопределенный жест правой рукой в сторону гостиной и, шатаясь, почапала вслед за собственным жестом. Я снял пальто, закинул длинный шарф на полку вешалки, разулся и отправился следом за ней.
В углу гостиной светил трехламповый торшер. В живых в нем осталась одна-единственная лампочка, да и та периодически помигивала – видать, патрон совсем плох. На телеэкране Абдулла и басмачи безуспешно пытались разобраться с Суховым. В пляшущем неверном свете я увидел Цаплю, распростертую по дивану. Рядом на полу неуклюже примостилась Дерюгина – пыталась прикурить, но все время промахивалась язычком зажигалочного пламени мимо сигареты. После третьей негодной попытки я отобрал у нее зажигалку, выдрал из губ сигарету, прикурил и вставил горящую сигарету ей обратно в рот.
– О-о… сп-п-пасиба, Стё-п-па!..
Я нагнулся над содержимым дивана. Купающаяся в трансценденте Цапля одарила самую глубину моей души незамутненным, насколько это было возможно, взглядом, обняла за шею, прошептала: