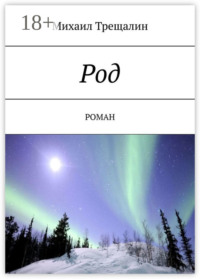Czytaj książkę: «Род. Роман»
© Михаил Трещалин, 2020
ISBN 978-5-4498-2372-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
О книге. Книга написана с использованием исторических документов и повествует о жизни некоторых членов семьи Бруни. Имена и фамилии не всех героев романа подлинные. Это сделано из этических соображений, поскольку потомки героев книги живы в настоящее время. Описанные события были на самом деле. Действительно, в Ухте открыт памятник Пушкину – точная копия памятника работы Н. А. Бруни, только отлитый из бронзы. Это издание книги третье и переработанное. Появились дополнительные сведенья о военных действиях, в которых участвовал Николай Бруни, и они вошли во второе и третье издание. Исправлены некоторые неточности, имевшие место быть в первом и втором издании.
Об авторе. Михаил Дмитриевич Трещалин родился в 1948 году, инженер, живёт в г. Бологое Тверской области России. Пишет как прозу, так и стихи.
Памяти моего многострадального деда
Николая Александровича Бруни
посвящается.
«Авраам родил Исаака;
Исаак родил Иакова;
Иаков родил Иуду и
братьев его»;
Новый завет Господа
нашего Иисуса Христа.
Гл. 1.2 от Матфея.
Ранняя весна. Начало Новобасманной улицы. Погода стояла хмурая. Низкие, рваные, серо-сизые тучи быстро неслись с севера, извергая на Москву то последние заряды мокрого снега, то осыпая крыши домов, бульвары и мостовые реденьким холодным дождем.
Комната на втором этаже старинного особняка теперь являлась частью общей неудобной квартиры и была такой узкой, что вся нехитрая мебель хозяйки: стол, кровать, платяной и книжный шкафы можно было поставить лишь вдоль одной стены, отчего комната становилась еще уже и казалась темным, очень длинным коридором с дверью в одном конце и окном в другом. Однообразие не заставленной мебелью стены скрашивали два портрета: один – очень красивой молодой женщины, другой – священника в митре и рясе, да черный диск огромного репродуктора. Репродуктор молчал, сжав беззубый рот и высунув в правом уголке маленький язычок регулятора громкости, и насторожил ушки-гаечки, которыми он крепился к подставке, подвешенной на стене. Комната светилась чистотой и бедностью.
Дверь открылась, и вошла хозяйка жилища с жестяным чайником в руках. Из носика валил пар.
– Ну вот, милый мой дружочек, сейчас будем чай пить, – сказала она молодому, скромно одетому мужчине, причем слово «дружочек» она произнесла резко грассируя, а «чай пить» получилось единое слово, – а то у меня весь рот запечатался.
Она достала с полки, висевшей над столом, сахар, тонко нарезанный хлеб, сыр и две старинных, мезенского фарфора чашки с блюдцами, не принадлежащими к чашкам.
Хозяйка – очень старая, высокая, худая и совершенно седая, но с красивыми, пышными и длинными волосами женщина – Татьяна Алексеевна Орешникова, по мужу Полиевктова, когда-то владела всем особняком. А потом, в двадцатые годы, по мере уменьшения большой семьи, представители Советской власти отбирали у нее комнату за комнатой, и вот она осталась в комнате для горничной.
Неумолимое время и пережитые трудности сделали свое черное дело: из необыкновенно красивой женщины, смотревшей с портрета на стене, она превратилась в старуху.
Ее гость – тридцатилетний мужчина Дмитрий Трофимов, муж ее внучки Аллочки, был в Москве проездом. Он возвращался из армии, куда был призван на переподготовку, и вечером уезжал в Малоярославец – маленький городок в 120 километрах от Москвы по Киевской железной дороге.
– Ну вот, милый мой дружочек, сейчас будем чай пить, – Татьяна Алексеевна разлила чай по чашкам.
Из репродуктора послышалось негромкое шуршание, а потом медленные и страшные позывные: музыка первого куплета песни «Широка страна моя родная». Через минуту позывные повторились, и диктор Левитан объявил: «Внимание, внимание! Через несколько минут будет передано экстренное сообщение». Так повторилось несколько раз, и натянувшиеся нервы всех жителей огромной Советской страны, сжавшиеся в единый удушающий ком, разом оборвались – Левитан сообщил страшное, роковое: «Умер Иосиф Виссарионович Сталин».
Татьяна Алексеевна опустилась на стоявший подле стола стул и заплакала: «Как же мы теперь без Него?.. Что же будет?».
Страшно, очень страшно – это чувство захватило души всех советских людей.
– Как же мы будем жить дальше? Как же дальше? Как же? Как же…
Глава I
1
После холодной и многоснежной зимы 1876 года наступила дружная весенняя распутица. С крутых, обрывистых холмов на Ивановский луг неслись шумные потоки вешней воды. Они собирались в большие, бурлящие ручьи и наполняли вышедшую из берегов речку Лужу. Такого половодья сторожилы маленького уездного городка Малоярославца не помнили со времен затопления 1812 года.
В ту тяжелую для России годину, когда полчища Наполеона, разорив и придав огню страны Западной Европы, вытоптали наши нивы, сожгли Смоленск, сожгли безмерно дорогую всем русским стольную Москву. И не найдя, что пить и есть там, оставили ее в надежде на тучных черноземах Малороссии найти тепло и сытое зимовье. Несгибаемые простые русские люди на всем пути движения стотысячной французской армии оказывали непонятное европейцам сопротивление, жертвовали всем, что имели, ради уничтожения врага. Однако мобильная и хорошо еще экипированная армия Наполеона довольно быстро продвигалась к намеченной цели, занимая села и небольшие города.
И вот после очередного подъема Боровской дороги, авангардные части французов в отблесках клонящегося к вечеру осеннего дня увидели золоченые маковки и кресты семнадцати городских церквей и Черноострогского монастыря, утопающих в осенних садах на вершинах холмов. Между войском и городом было не более десяти верст – расстояние, которое армия могла пройти за три часа. Об этом немедленно доложили императору.
– Привал и ночлег будем устраивать в Малоярославце, – посмотрев на карту, заключил Наполеон.
Возможно, его расчеты были бы реализованы, но жители города разрушили плотину на реке Луже близ села Карижа. Горстка русских людей, рискуя лишиться головы, остановила врага на двое суток, дав возможность армии фельдмаршала Кутузова занять город и подготовить достойную встречу врагу.
Весенний паводок 1876 года был так высок, что вода подошла к самой Миллионной горе, где находилось городское кладбище, а на противоположной стороне реки лес в нижней части Буйной горы и дорога на Боровск полностью скрылись под волнами бурлящих водоворотами вод. Городские улицы от талого снега и раскисшей глины стали совершенно непроходимыми.
Вот в эту самую пору молодые супруги Вирейские, Алексей Федорович и Лиза, получив кое-какие средства от своих родителей, пешком из Коломны пришли в городок с целью купить здесь небольшой домик и начать задуманное ими дело.
Алексей Федорович, коренастый, широкоплечий мещанин, до женитьбы работал подмастерьем в мастерской своего отца – портного. Он давно мечтал отделиться от родителей и открыть собственную мастерскую по пошиву мужской верхней одежды. Он тщательно готовился к этому: изучал состояние портновского дела в разных городах Калужской губернии, разузнал, что в Малоярославце вообще нет хорошего портного, и люди заказывают платье по большей части в Москве или Подольске.
Вирейский довольно скоро нашел крошечную избушку в три окна, уныло смотревшие на Верхнесолдатскую улицу, с хорошим просторным хлевом и сараем, пристроенными к избе с задней стороны и огромным, в двадцать пять десятин, земельным участком. Супруги купили ее, а в скором времени появилась вывеска:
ПОШИВ ВЕРХНЕГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ
Вначале Алексей работал вдвоем с женой, но спустя некоторое время родился первый ребенок, и им пришлось нанять подмастерье.
Год за годом семья увеличивалась, а популярность портного росла. Заказов день ото дня становилось все больше и больше. Пришлось нанимать новых работников. Вот уже шьют четверо, и в маленькой, темной избе стало тесно.
К этому времени Алексей Федорович собрал довольно средств и начал строительство нового большого дома.
Постепенно Алексей Федорович из веселого, жизнерадостного человека превратился в измученного непомерным трудом прижимистого и самоуверенного хозяина. Его характер стал крут. Не приведи господи попасть под его горячую руку. Всех подчиненных и домашних он держал в строгости, хотя по-прежнему любил жену.
Обычно в день, когда Лиза рожала, а она рожала почти каждый год, Алексей Федорович давал выходной работникам. Он шел к своему двоюродному брату Петру Атарику на Нижнюю Солдатскую улицу. Братья садились в горнице под окном, на стол выставляли четверть водки и неспешно трапезничали.
Лиза рожала в маленькой комнате за русской печью. Какая-нибудь из старших дочерей бежала к Атарикам, входила в горницу и прямо с порога сообщала: «Батюшка, маменька девочку родила».
«А, едрить твою подкурятина, когда ж малого родить?!», – в сердцах орал Алексей и швырял об пол первое, что подвернулось под руку.
Милая, румянощекая Лиза также продолжала рожать детей, кормить их грудью и тащить на своих плечах хозяйство. Ужасная теснота избушки еще больше усугубляла трудное положение семьи. Это понимал Алексей Федорович, нужен был новый дом.
И вот, наконец, дом построен. Он был очень большим и разделялся капитальными бревенчатыми перегородками на три части, в каждой из которых была своя печь: две изразцовые «голландки» и огромная русская, с подпечком и лежанкой. Между новым домом и старой избой, отгородив двор от чужих глаз, поднялись огромные трехметровые ворота с узкой калиткой, к которой была прилажена щеколда с большим кованым кольцом. Ворота всегда были крепко-накрепко заперты на толстенный засов. За избой вырос новый скотный двор и навес, перекрывавший все пространство между постройками. Сам двор вымостили половинками дубовых бревен. В общем, не дом, а настоящая крепость. За двором простирался большой сад, уходящий до самого оврага. Сад зарос владимирскими вишнями, яблонями и грушами.
К моменту, когда был построен новый дом, Лиза уже родила двенадцать детей. Правда, они много болели и часто умирали. Выживали только самые крепкие.
После освящения вслед за кошкой в жилище вошли Алексей Федорович, Лиза и пятеро детей: старший сын Николай и четверо девочек. Одна из них – Дуня, была больна туберкулезом, а младшая Маня родилась с сильной дисплазией, что в то время без участия врачей гарантировало ей хромоту на всю жизнь, но отца это вовсе не беспокоило. Гораздо больше он думал о том, как оборудует большую швейную мастерскую на восемь подмастерьев, причем трое из них работали лишь за харчи. Это были его сын и старшие дочери: Прасковья и Анисья.
В общем, нужно сказать, что дело мещанина Алексея Федоровича Вирейского – будет процветать и дальше.
Образование детей, которое считал необходимым дать отец, составлялось из четырех классов церковно-приходской школы, а затем в 10—12 летнем возрасте детей отдавали в ученье, где дети осваивали профессию портного со знанием, которого требовало хорошо поставленное отцовское дело.
Марию, как и всех старших детей, в одиннадцатилетнем возрасте отправили в Москву, в ученье портнихи Мурзалевской. Там она первые полгода только раздувала утюги и получала затрещины от мастериц. Потом ей доверили пришивать пуговицы. Этим она занималась еще два года. Правда, потом она довольно быстро освоила всю премудрость швейного мастерства и к восемнадцати годам стала хорошей портнихой.
Однако врожденная хромота, чрезвычайная строгость отца, постоянное унижение со стороны хозяйки сделали свое черное дело. Мария выросла злой и алчной, хотя и очень набожной.
Ей уже пора было возвращаться в родительский дом, чтобы начать работать там, но скоропостижно умер отец, и, воспользовавшись неожиданной свободой, она осталась работать у Мурзалевской и стала получать хорошее жалование.
Ее сестры вышли к тому времени замуж или просто так уехали на поиски счастья. В доме остались лишь мать да Дуня.
Шел 1905 беспокойный год. Москва бурлила революционными событиями. На Пресне стреляли. Стреляли казаки, стреляли рабочие, засевшие на баррикадах. Да и на Большой Дорогомиловской улице также было неспокойно. Бастовали рабочие Брянской железной дороги. Они присоединились к общей стачке железнодорожников Москвы. На площади Брянского вокзала патрулировали рабочие пикеты с красными повязками на рукавах и вооруженные ружьями. Они не пускали на вокзал штрейкбрехеров. Часто дружные колонны вооруженных рабочих проходили по улицам. Здесь и там вспыхивали летучие митинги.
Обыватели – мелкие московские лавочники, купчишки, мещане, в силу своей природной трусости, по большей части отсиживались в своих заведениях. Те из них, на окнах которых были ставни, закрывали их, а у кого ставней не было, задергивали плотнее шторы, надеясь отгородиться ото всего происходящего, как-нибудь пересидеть неспокойные времена. Они, конечно, чувствуя недоброе, стали мягче, снисходительнее относиться к подмастерьям, приказчикам и прочим своим работникам, стараясь по возможности изолировать их от волнений.
Доходы у этих мелких буржуа значительно сократились. Понятно: кому в голову придет ходить по трактирам, магазинам, заказывать одежду и обувь, когда на улицах стреляют.
Как-то в воскресенье в мастерской у мадам Мурзалевской произошло следующее: по Большой Дорогомиловской улице, куда выходили окна ее мастерской, двигалась колонна рабочих с семьями. Они несли лозунги и красные флаги, пели революционные песни. Мастерицы и подмастерья бросили шить и дружной стайкой собрались у окна. Трудно сказать, какими мыслями руководствовались при этом забитые, малограмотные женщины и девушки. Вряд ли это было вызвано солидарностью с рабочей колонной. Скорее всего, их влекло простое любопытство. Маша Вирейская, чтобы лучше рассмотреть и расслышать, взгромоздилась на подоконник и высунула голову в форточку. В этот момент в мастерскую вошла хозяйка.
– Это еще что за безобразие! – нервным, злым голосом закричала она, – сейчас же за работу!
Мастерицы быстро заняли свои места, а Маша замешкалась из-за того, что голова у нее застряла в форточке. Хозяйка подскочила к окну и с криком: «Я тебе покажу, бунтовщица, я тебе покажу», – принялась щипать ее за ляжки. Маша дергалась от боли и никак не могла вытащить голову из форточки, а хозяйка щипала и щипала ее. Марии каким-то чудом удалось освободиться, она прыгнула, свалив с ног хозяйку. За это Мурзалевская вычла из ее жалования пять рублей, выбив «революционный запал» из Машиной головы на всю оставшуюся жизнь.
В дальнейшем Маша Вирейская к событиям первой русской революции была непричастна.
Время шло, революционный подъем пятого года сменился тяжелой для рабочего класса реакцией. Ежедневно арестовывали все новых и новых людей, переполняя тюрьмы. Но это не слишком касалось обывателей. Разве что жаль было Маше голубоглазого, круглолицего юношу Семена – сына железнодорожника Марка Осиповича Шаповалова, которого арестовали прямо у нее на глазах, при этом очень сильно избили. Маша знала его еще мальчишкой, гонявшим голубей во дворе дома, где она жила все эти московские годы, но вскоре забыла о нем.
Несмотря на Машину хромоту, хозяйка довольно часто посылала ее сдавать работу, так как было принято готовую вещь примерять у заказчика в квартире и, если это требовалось, делать незначительную подгонку прямо тут же. Ходить пешком Маше было трудно, и хозяйка выдавала ей двугривенный на конку. Маша все равно шла пешком, а деньги экономила не потому, что очень нуждалась, а скорее по привычке, вбитой ей с детства, беречь копейку.
Однажды Мария несла готовый заказ куда-то в конец Новобасманной улицы. Переходя Садовую улицу у Красных ворот, она замешкалась и попала под лошадь. Маша сильно ушиблась и никак не могла встать. Из садика напротив, рискуя быть сбитой конкой, выбежала девочка лет восьми-девяти – худенькая, голубоглазая, пшеничноволосая, и подбежала к Маше.
– Тетенька, вы ушиблись, давайте я вам помогу, – тоненько закричала она, помогла Маше встать, перевела ее через улицу и усадила на скамейку в садике. – Может, вам доктора позвать? – спросила она.
– Нет, нет, мне уже лучше, – испуганно проговорила Маша, – как звать-то вас прикажете, молиться-то мне за кого?
– Меня зовут Аня Полиевктова, а молиться за меня не нужно, я ведь здорова. Это вы, тетенька, ушиблись, – Аня достала из кармана маленькую гуттаперчевую куколку-голыша. – Вот, возьмите на память, пожалуйста, будьте здоровы, – и она быстро побежала через садик и скрылась в парадном красивого особняка. Маша посидела еще немного и, сильно хромая, пошла на конку. «Благодарю тебя, господи, кажется, жива осталась», – проговорила она.
2
Стояло теплое московское лето 1913 года. Во дворах плавным нескончаемым танцем кружил тополиный пух. На Большой Садовой улице грохотали трамваи, по булыжной мостовой цокали копытами лошади, запряженные то в телегу, то в коляску. По тротуарам беспрерывной массой двигались, спешили куда-то, суетились люди.
Сад-Эрмитаж оглушал прохожих медной музыкой духового оркестра. Воскресный день клонился к вечеру. Маша по случаю именин – а ей исполнилось 22 года, достала из лубочной шкатулки трешницу и решила пышно кутнуть. Она вместе с мастерицей Клашей, тоже работавшей у мадам Мурзалевской, отправились вначале в крошечную кондитерскую на углу Садовой и Малой Бронной. Там они купили фунт шоколадного лома, баранок, чая и, посидев немного, пошли в сад-Эрмитаж покачаться на качелях. Маша незадолго до этого сшила на заказ ортопедические туфельки, да такие симпатичные на вид, а, главное, удобные в ходьбе и почти скрывающие ее хромоту.
Девушкам было весело, они качались на качелях и хохотали. Вверх – приближается к ним синее, с облачками, подрумяненными закатом, небо, вниз – несется на них сочная зелень сада, столики под зонтиками из полосатого тика, плетеные дачные кресла, занятые нарядными, улыбающимися людьми. Хорошо! Весело! Будто бы и нет, в самом деле, будничных забот.
– Ой, Машка, хватит, что-то голова закружилась, – смеясь, взмолилась Клаша.
– Ну, так прыгай, я еще покачаюсь.
– А мне разрешите с вами покачаться? – очень тактично спросил черноглазый брюнет с тонкими усиками, одетый в суконную черную тройку и хромовые сапоги, когда Клаша соскочила с качелей.
– Милости просим, – с кокетством пригласила Маша.
Они долго качались, пока Клаша сидела на скамейке под липами. Потом ее пригласил танцевать какой-то кавалер, и Маша потеряла ее из виду.
– Найдется, никуда не денется, – подумала она, но Клаша куда-то пропала в тот вечер.
Потом Маша с Тимошей, так звали молодого человека, сидели за столиком, и Тимофей угощал ее мороженым крем-брюле, несказанно вкусным. Он несколько раз приглашал Машу танцевать, но она все отказывалась. Он-то не знал, что Маша хромая и никогда не танцевала. Уже совсем стемнело, когда они отправились на Дорогомиловскую. Шли пешком, и Маша очень устала.
– Милочка вы моя, да вы, никак, ногу стерли?
– Нет, я с детства хромаю, – зло ответила Маша и заплакала.
– Ну что вы милая, не плачьте, вот горе-то какое, – Тимофей поднял Машу и понес. – Извозчик! На Дорогомиловскую, да осторожно, не тряси, видишь, барышне плохо.
Они быстро доехали до дома.
– Тимоша, вы меня жалеете. Не нужно меня жалеть. Я привыкла. А вы добрый, а то как увидят, что я хромаю, так оставят тотчас свои ухаживания, – говорила Маша, поднимаясь вместе с ним по узкой лестнице на второй этаж в свою девичью келью.
Потом были свидания, встречи, гуляния по Москве, в общем, как и полагается в подобных случаях. Тимофей полюбил Машу, а она отвечала ему молчаливой благодарностью. Он не бросил ее из-за хромоты. Напротив, окружил ее лаской и заботой.
Осенью в церкви святых Петра и Павла на Яузе они обвенчались. Пышной свадьбы не было. Да и не нужна она была им вовсе. Маша и Тимофей были счастливы. Днем – работа. Он – приказчиком в лавочке, Маша – в мастерской, зато вечер и ночь вместе. Они живут в Машиной комнате. Тесновато, но есть маленькое семейное счастье.
Тяжело Маше работать большим, пахнущим угаром утюгом, где-то под сердцем толкается ножками маленькое существо. Они так ждут ребенка.
Худенький мальчишка с взъерошенными волосами бежал по Дорогомиловской и звонким голосом кричал, размахивая пачкой газет: «Война, война! Последние новости! Россия вступила в войну с Германией!».
Москва несколько дней судачила об этом событии, как о чем-то развлекательном. Потом началась неспешная на первых порах мобилизация рабочих, мелких служащих, мещан. Ушел на фронт и Тимофей.
Примерно через месяц Маша получила с фронта нежное, полное любви письмо. Оно было единственным. Тимофей в это время уже погиб. Похоронное извещение пришло месяца через два. Тогда Маша носила ребенка около восьми месяцев. Известие о смерти мужа почти убило ее, она не доносила и родила мертвую девочку.
Ее безмерное горе вдруг сменилось необузданной злобой. Ей порой казалось, что Тимофей не погиб, а придумал это нарочно, чтобы бросить ее, хромую. Постепенно эта мысль так укрепилась в ней, что она перестала верить в его гибель. Первоначальное отчаяние, затем злость, перешедшая в настоящую ярость, превратилась в ненависть ко всему мужскому роду.
В этом состоянии она начала гулять без разбору со всеми, кто хотел этого. Жизнь понесла ее. Сожители менялись чаще, чем перчатки: то, не выдержав ее дикой безудержной злобы, то она бросала их и уходила сама из-за малейшей причины. Были в результате этого и дети. Она, покормив их грудью несколько недель, находила семью где-нибудь в подмосковной деревне, где могли взять малыша, и избавлялась от него.
Потом, уже дряхлой старухой, она со злобой говорила, осуждая какую-нибудь неудачливую женщину, обманутую и брошенную: «Мои дети все крещеные, все погребенные», – и при этом осеняла себя крестным знаменем.
Годы летели, летели мимо, как-то не задевая ее никакими событиями, происходившими в это время в стране…