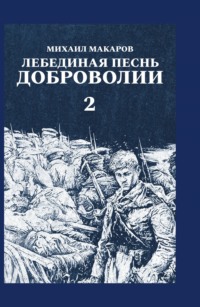Czytaj książkę: «Лебединая песнь Доброволии. Том 2»
© М. Ю. Макаров, 2025
© Оформление ООО «КнигИздат», 2025
Часть третья
Финальные аккорды
1
20–21 января 1920 года
Село Батайск
Кавалерия генерала Барбовича стояла на обводе Батайска, по центру бригады – Сводно-гвардейский полк. Отсюда по кратчайшим векторам сподручно парировать попытки красных прорвать фронт на любом из его участков.
Регулярно форсируя замёрзший Дон, противник без устали наносил удары в разных направлениях. То атаковал Кулешовку, стремясь выбить из неё дроздовцев, то устремлялся дальше, на Азов, то кидался вправо, на станицу Ольгинскую, занятую донцами.
В каждом случае Сводно-гвардейский поднимался по тревоге, рысью выходил на исходную позицию, разворачивался в лаву (стройную, но, надо признать, довольно жиденькую) и после команд «Шашки вон! Пики на бедро!» галопом летел в атаку.
Практически всегда советские не принимали боя, пятились. С ликующими, от мороза румяными молодыми лицами, с песнями, любимой из которых была «Кудесник», гвардейцы победно возвращались на свой бивуак. Дружное «ура», троекратно выкрикиваемое ими «за царя, за Русь, за нашу веру» сделалось привычным и перестало резать слух тем добровольцам, что радели за республику. Вообще политические разночтения здесь, на краю гибельной пропасти, теряли смысл. Пришло осознание, что единственным непримиримым врагом являются большевики. Со всеми остальными силами, включая вздорных кубанских самостийников, можно и нужно было заключать союзы.
Носившуюся с одного угрожаемого участка на другой бригаду Барбовича соратники нарекли «пожарной командой», чем кавалеристы очень гордились. При этом гвардейцы были убеждены, что львиная доля заслуг принадлежит им, а не номерным полкам, собранным с бору по сосенке.
Гладко получалось не всегда. Раз гвардейская конница преследовала утекавших к переправам красных и нарвалась на фланговый пулемётный огонь с тачанок. Урон был понесён большущий. Эскадрон лейб-кирасир только убитыми потерял шестерых и столько же ранеными. Сразу четверть личного состава выбыла из строя!
Вместо того чтобы дать кирасирам прийти в себя, их перебросили на восточную окраину села, где позиции были особенно уязвимы из-за близости реки и нагой равнины, тянувшейся в сторону Ольгинской.
Каждодневно один взвод с офицером приходилось высылать на заброшенный хутор, венчавший правый фланг эскадрона, другой взвод следовало постоянно держать в полной боеготовности. Вдруг лобовая атака?
А ещё нужно было не забывать о зимней ковке лошадей, не напрасно же тыловики расстарались, выдали, наконец, подковы и ухнали1с шипами. Долгожданного снаряжения хватило, впрочем, лишь на ковку передних ног.
Одно к одному, некстати разболелся комэск Олешкович-Ясень. Температура подпрыгнула за отметку 40, в лёгких – бульканье, надсадные хрипы. Штаб-ротмистр лежал на печи, шинелью укрытый и кабардинской буркой, и всё равно его знобило. Всё пытался заснуть в надежде на чудесное избавление сном от хвори, ан не спалось, сознание мешкотно плыло по извивам дремотной реки, как за коряги цепляясь за внешние раздражители…
– Евге-ений Николаевич! Евгений Николаевич! – очередной проблеск разума вызвал настойчивый зов по имени-отчеству.
– Что? – штаб-ротмистр разлепил один глаз, надолго замолк, потом добавил с укором. – Что вам, Ника?
«Узнал… и как зовут помню… хорош-шо», – коркой обмётанные губы съёжились в подобии улыбки.
Ника, корнет Максимов, тренькая шпорами, привстал на цыпочки, преданно заглядывал в пылающее лицо командира.
– Тут, Евгений Николаевич, через Дон к нам перебежала одна. Мой разъезд её подобрал. Да, она сейчас сама объяснит. Покажись, наяда2, господину ротмистру.
В грязно-оранжевый конус света, что отбрасывала висящая на крюку, вбитом в потолочную балку, керосиновая лампа с помятым жестяным абажуром, вступила растрёпанная женщина в английской шинельке. Броская примета – высокие горделиво очерченные скулы. Угловатое личико сметаны белее, оттого особенно контрастными кажутся коричневые конопушки на переносье. Круглы, желты и настороженны глаза, абсолютно совиные – таращатся под вздёрнутыми дужками бровей, мигать не умеют.
– Ты кто? – бревном лежавший Олешкович-Ясень вспомнил, что он главный, главному полагается снимать допрос.
– Я из чеки́ сбежала! – ответный возглас предъявлялся в качестве пропуска, ничего, что невпопад.
– Отку-уда?
– Отту́дова, с правого берега! – круговой взмах руки указал направление, одновременно распахивая незастёгнутую шинель.
Гуттаперчевыми розовыми мячиками выпрыгнули груди, выставились напоказ наливные ляжки-окорока, припечатанные к низу живота выпуклым треугольником курчавой вороной волосни.
Отчего-то скуластенькая женщина не спешила прикрыть срам. Бесстыдница эмоционально «разговаривала» руками, сыпала словесным горохом, тональность держа визгливую, базарную.
«Я брежу, – догадался офицер. – И мне мерещатся голые бабы… ная-ады…»
– Потом… всё потом, – натянул на голову презент эскадронного вахмистра Дробязко – бурку, нещадно вонявшую кислой шерстью.
В душной и тёмной берлоге Олешковичу-Ясеню повезло быстро уползти в спасительную ирреальность. Сон ему достался сюжетный. В нём гвардеец был мобилизован в Красную армию, где получил назначение на должность командира эскадрона. Ознакомившись с приказом, он переполошился: «Ка-ак?! На колу мочало – начинай сначала?! Я ведь из проклятой этой РККА сбежал в Польшу. Как же так?!» Вопросы не остались риторическими. Комиссар, подслушавший мысли подшефного (странно, но эта мистическая способность штаб-ротмистра ни капельки не удивила), терпеливо начал ему втолковывать: «Ты неграмотно сбежал, товарищ военспец. Тебе следовало при растущей луне пятки салом намазывать, в полнолуние же побег невозможен, потому как полная луна фокусирует отражение дезертира посредством специальной голографической линзы и возвращает вспять».
Затем в тревожную сонную белиберду проникла похоть. Нырнула под покров бурки, пышущее жаром тулово её оказалось бескостным, сплошной филей. Засосала губы тягучим поцелуем. С проворностью заправского факира (но ведь в цирке Чинизелли всё неправда, там всё подстроено!) расстегнула ремень, избавила от бриджей и кальсон. И тотчас принялась тереться изнанкой лона о голое бедро распластанного на печной лежанке кирасира. Обострившийся слух различил плотоядно-слюнявое чавканье междуножья, похожее на то, что издают мокрые губы лошади, когда та в нетерпении забирает с ладони кусок рафинада…
Ну, а потом самка, материализовавшаяся из ниоткуда, нанизалась на уд3(опять-таки поразительно ловко!). Покрыла собою во весь рост, но обузою не сделалась. Овладела им, как покорным рабом госпожа, единственную функцию оставив, не покидать её слизистого естества, которое горячечная фантазия подопытного наипошлейшим образом ассоциировала с нижним ртом…
Впрочем, из тесной райской пещерки «раб» сподобился выскользнуть, но мимолётно, не успев испытать разочарования. Доля секунды потребовалась наезднице, дабы выверенным движением восстановить «status quo»4и довести интимную процедуру до пика наслаждения. Когда фейерверк иссяк, Олешковича-Ясеня окутала благодатная утомлённость, пришло ощущение, что сделано нечто весьма важное и нужное. Умиротворение предварило уход в сон, на сей раз в настоящий, глубоководный, лишённый любых видений. Тьма, тишина…
Пробудился штаб-ротмистр с ясной головой и волчьим аппетитом. Умывшись, побрившись тщательно, отзавтракав, принялся разгребать груду дел, накопившуюся в эскадронном хозяйстве за время его недомогания.
К своему удивлению он обнаружил, что сон про наяду, пресловутую нимфу рек и озёр, не сновидение вовсе, но явь. Что действительно через Дон к ним накануне перебежала молодая женщина, совершенно без одежд и вдобавок босая. Уму непостижимо, как она умудрилась не превратиться в ледышку по дороге, и тем не менее факт был налицо.
Беглянка утверждала, будто спаслась от расстрела, к которому была приговорена за помощь белогвардейской сестре милосердия.
– Героическая особа, господин ротмистр! – восхищался Ника Максимов, сияя, как самовар, начищенный к праздничному столу.
Что ж, поводов для радости корнет с утра имел предостаточно – мало того, что он помог вызволению красавицы из когтей красного дракона, так ещё старший офицер вернулся в строй, сняв с юношеских плеч субалтерна груз ответственности за эскадрон.
Величали отважную перебежчицу Степанидой Афанасьевной Криворучко.
– Да вы, ваши благородья, кличьте меня Стешей. Так-то мне привычней, – улыбка включила игривую ямочку на щеке, смягчая угловатость тяжеловатых скул, унаследованных, вероятно, от пращуров-степняков.
Девушка повторила историю своих злоключений штаб-ротмистру. Бойкий рассказ изобиловал подробностями, которые трудно придумать.
Стеша назвала точный адрес квартиры на Таганрогском проспекте, где пять лет жила в прислугах. Господа её носили фамилию Васильевы. Сергей Иванович, глава семейства, служил инженером на судоверфи. Его супружница, как у благородных людей заведено, наёмным трудом белых рук не марала, днями напролёт создавала уют в родовом гнёздышке, да на фортепьянах играла. У Васильевых две дочки – Варвара и Евдокия. В Добрармии состояла старшая, причём ударницей Варя была самой идейной, из тех, что на рукаве носили красно-чёрный угол и первыми пошли за генералом Корниловым в поход супротив безбожной коммунии.
Не успев отступить за Дон с белыми, Варя схоронилась в квартире родителей. Отсидеться надеялась, ан, на её беду нашлась на соседском деле подлая душонка, донесла в совдеп. Неминучая смерть грозила доброволице, кабы не Степанида Криворучко, хозяевам преданная до гробовой доски, а голодранцев-большевиков люто ненавидящая. В крайнюю минуточку исхитрилась Стеша чёрным ходом вывести Варвару Сергеевну из-под самого носа сыскачей и перепрятать в доме знакомого священника.
За свой поступок горничная поплатилась арестом. Главный чекист предложил ей сожительство, сулил райскую жизнь во дворце. Предложение заделаться содкомом Стеша с гневом отвергла и влепила комиссару хлёсткую «подщёчину». Тогда тот, мерзко ухмыляясь, отдал её на поругание китайцам. Косоглазые палачи, раздев пленницу донага, швырнули в «холодную». Покорно дожидаться поругания Стеша не стала, ночью проделала лаз в соломенной кровле и утекла из темницы, в чём была. А была – в чём мать родила.
– Подумала, лучше замёрзну я в степи, а имя своё честное не запятнаю! – янтарные блюдца глаз переполняла влага, грозившая брызнуть через край.
Лейб-кирасиры поспешили успокоить молодицу. По чрезмерности эпитетов повествование напоминало былинный эпос, враги в нём творили ужаснейшие злодеяния, герои же совершали чудесные подвиги, для простых смертных невозможные.
Червячок сомнения ворохнулся в душе Олешковича-Ясеня, однако эмоции победили разум. Был офицер слишком молод, двадцать два года не тот возраст, когда к человеку приходит мудрость.
– Ваше благородие, не гоните меня, оставьте при себе. Отслужу вам верою и правдою! – взмолилась Стеша, бухаясь на колени. – Не пожалеете, ей-богу. Я на всё согласная.
Комэску показалось, что женщина заговорщически ему подмигивает, словно намекает на сокровенное, известное лишь им двоим. Инсинуации штаб-ротмистр проигнорировал с каменным лицом, однако румянец, воспламенивший его гладкие смуглые щёки, выдавал волнение.
– Будешь мыть посуду и помогать в офицерском собрании, – с заминкой распорядился Олешкович-Ясень, хмуря соболиные брови.
Офицерское собрание действовало в Сводно-гвардейском полку со дня его возрождения. Не в масштабе, конечно, предусмотренном Положением от 1884 года, однако и не в форме импровизации, былой блеск компенсировался подчёркнуто скромным достоинством. Традиции императорской гвардии следовало поддерживать всемерно, невзирая на лихолетье, разброд умов и кочевой образ жизни.
Олешкович-Ясень был классическим представителем российской военной аристократии. Потомственный дворянин, сын чиновника особых поручений Министерства финансов, действительного статского советника5, по окончании привилегированного Александровского кадетского корпуса он поступил в учебное заведение ещё более элитное – Пажеский корпус.
Грянувшая мировая война послужила причиной ускоренного выпуска юнкеров их курса в неказистом чине прапорщика. Неказистом, потому как согласно известной поговорке, курица – не птица, прапорщик – не офицер. Пилюлю разочарования Евгений скрашивал мыслью, что вышел не абы куда, а в отборную часть тяжёлой кавалерии Русской императорской армии – лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк, старшинство которого исчислялось с 1702 года, со времён правления Петра Великого!
Война, подставившая подножку на старте, даровала шанс построить стремительную карьеру. Русская гвардия, молодая и старая, не отсиживалась, неся рутинную караульную службу, в столице. Как стая львов, дрались гвардейцы на самых опасных направлениях.
Не были исключением и «жёлтые» кирасиры6. В июле пятнадцатого войска Северо-Западного фронта под мощным натиском врага в условиях жесточайшего снарядного голода оставляли Галицию, Литву и Польшу, тщетно пытаясь замедлить отступление посредством боёв местного значения.
Командир эскадрона, флигель-адъютант7штаб-ротмистр Петровский, перед тем как приказать Олешковичу-Ясеню возглавить атаку на сильно укреплённую позицию неприятеля, спросил: «Хотите «георгия», прапорщик?» Ответ поступил незамедлительный и честный: «Хочу!» Речь о высокой награде Петровский завёл из соображений дополнительной мотивации на выполнение приказа, казавшегося невыполнимым. Это было излишним, юный офицер пошёл бы на смертельный риск не в погоне за славой и орденами, а только из чувства бесконечной преданности трону.
События, произошедшие у местечка Коварск Ковенской губернии8, в представлении о награждении были описаны следующим образом: «…увлекая своим примером нижних чинов, прапорщик Олешкович-Ясень перескочил проволочные заграждения, первым ворвался в неприятельский окоп. Этот геройский поступок увлёк весь эскадрон, враг был выбит, и нами были захвачены пленные».
Любой наградной документ предполагает гиперболизацию подвига. Не был исключением и процитированный.
Вместе с тем, откровенного лукавства он не содержал. В расположение немцев прапорщик ворвался первым из господ офицеров, опередившие его нижние чины в расчёт не принимались. И германцы действительно оставили траншею, правда, уже на следующий день отбитую позицию пришлось возвратить из-за фланговой угрозы. Речь о пленных во множественном числе также велась обоснованно, ведь, по правилам арифметики двое это уже несколько, и нет никакой вины героев-кавалеристов в том, что один из взятых немцев достался им тяжелораненым и испустил дух на бруствере окопа.
Живым Олешкович-Ясень остался чудом, вражеские пули изрешетили его тело в четырёх местах.
В исключительно тяжёлом состоянии эвакуирован был прапорщик в Царское Село, где принят в Дворцовый лазарет. Ежедневно больницу навещали Государыня императрица и великие княжны Ольга и Татьяна, причём отнюдь не в роли праздных сердобольных посетительниц. Высочайшие особы помогали в перевязке раненых воинов, всячески старались облегчить их страдания.
Квалифицированное лечение, заботливый уход вкупе с молодым и сильным организмом позволили Олешковичу-Ясеню к октябрю встать на ноги и начать самостоятельно передвигаться с помощью пары костылей.
Вскоре ему было разрешено посещать знакомых, с оговоркой – в пределах Царского Села. Время сразу пошло живее.
Один из званых обедов затянулся, и прапорщик в нарушение распорядка вернулся в лазарет очень поздно, часы как раз били полночь. Чтобы никого не потревожить, он разделся в ванной комнате и на цыпочках, не зажигая огня, прокрался в свою палату и в полной темноте тихохонько лёг в кровать. Под головой зашуршала бумага, что-то острое укололо затылок. Что за ерунда?
Силясь понять, в чём дело, Олешкович-Ясень рукой стал шарить по подушке. Нащупал маленькую твёрдую вещицу крестообразной формы, торопливо щёлкнул выключателем ночника, и в его скудном свете разглядел английской булавкой приколотую к наволочке поздравительную телеграмму и беленький эмалевый орден св. Георгия четвёртой степени.
Не веря происходящему, офицер читал телеграмму. «Объявить по армии… приказ… номер… дата… о награждении…» Строчки плыли в глазах, двоились, сердце било в набат. В этот момент ярко вспыхнула люстра под потолком, и в палату с шумом ввалилась толпа улыбающихся раненых. На соседних койках с криками «виват» подскочили уланы Вознесенского полка, оказывается, спящими они, хитрецы, притворялись. Все выстроились шпалерой напротив виновника торжества, комично беря «на караул» костылями и палками. Во втором ряду кто-то негромко затянул «Боже, Царя храни», вроде как в штуку, но когда гимн подхватили остальные, лица у всех стали торжественными.
Олешкович-Ясень расплакался от счастья, как ребёнок. Наутро он принял личные поздравления государыни и великих княжон. Георгиевских кавалеров в большом лазарете десятка не насчитывалось, восемнадцатилетний лейб-кирасир был среди них самым молодым. Он надолго оказался в центре внимания, его окружили всеобщим почётом. Объективности ради стоит заметить, что нашлись и завистники.
После этого знаменательного события здоровье кавалериста начало восстанавливаться ударными темпами. Ему разрешили съездить к семье в Петроград.
А в ноябре Олешкович-Ясень получил новую телеграмму-молнию, теперь из штаба Гвардейского корпуса. Ему предписывалось отбыть в царскую Ставку и там принести государю поздравление от гвардейской кавалерии в день Георгиевского праздника, отмечавшийся 26 ноября. От радости юноша взлетел на седьмое небо, ан оказалось – преждевременно он ликует.
Против поездки восстал лечащий врач, ибо одна из ран никак не закрывалась. Прапорщик призвал в ходатаи весь персонал отделения, слёзно умолял императрицу повлиять на упрямца-хирурга. В итоге общими усилиями сопротивление было сломлено. Началась канитель с оформлением литеры, командировки, предписания, и только двадцать пятого числа измотанный «войной» с медициною Олешкович-Ясень ночным поездом выехал в Могилёв.
Когда извозчик домчал его к губернаторскому особняку, государь уже начал на плацу обход строя, в котором по команде «смирно» замерло девяносто офицеров и батальон георгиевских кавалеров. Во время церемониального марша Олешкович-Ясень скромно стоял поодаль, опираясь на трость.
Затем был праздничный завтрак. Царь пожелал всем здоровья, много говорили о грядущей победе, провозглашались тосты за доблестных союзников, чьи чопорные представители присутствовали за столом.
После завтрака офицеры выстроились в шеренгу по порядку корпусов. Прапорщик оказался третьим с правого фланга. Обход строя Государь начал с дальнего конца, где стояли иррегулярные9. Сопровождающий императора флигель-адъютант по очереди представлял делегатов. Для каждого Николай Александрович находил ласковое слово, каждому достался личный вопрос. Неспешная процедура затягивалась, и «жёлтый» кирасир начал беспокоиться, хватит ли у него сил выстоять. Чёртова рана под коленом, растревоженная долгим путешествием, уже не ныла и не саднила, дёргала жгучей болью. Сохранять на лице бесстрастную маску становилось всё труднее.
Наконец очередь Олешковича-Ясеня подошла. Флигель-адъютант, подглядывая в шпаргалку, начал представление, но был остановлен упредительным жестом царя.
– Я его знаю, – тепло произнёс Николай Александрович, – помню по прошлогодним дворцовым приёмам. Бывший фельдфебель Пажеского корпуса?
– Так точно, ваше императорское величество! – отчеканил прапорщик, поражённый феноменальной памяти самодержца.
Государь пожал ему руку. Справляясь о здоровье, оговорился, что знает от «девочек» (так он назвал великих княжон) об улучшающемся состоянии здоровья лейб-кирасира. Следующий вопрос оказался каверзным.
– Довольны ли вы получить «георгия» по постановлению Думы? Ваш командир эскадрона ротмистр Петровский во время дежурства доложил мне о вашем подвиге и настоятельно просил о награждении. Я тогда ему ответил, что если Дума откажет в награждении, я дам вам «георгия» своей властью. Удовлетворены ли вы награждением?
Прапорщик стушевался, не ведая абсолютно, как и что отвечать. Озвучивать пацифистскую мысль: «Коли остался в живых, грех требовать большего» – недостойно воина. Евгения так и подмывало выпалить – он будет счастлив умереть в бою за обожаемого монарха, особенно после принятого тем судьбоносного решения встать во главе действующей армии…
Ни словечка не вымолвил пятнисто раскрасневшийся Олешкович-Ясень, не сумел преодолеть зажима. Крутившиеся в голове фразы казались плоскими и пафосными одновременно.
Николай Александрович на ответе настаивать не стал. Поблагодарив за службу, ласково простился с лейб-кирасиром и заговорил с его соседом, представителем гвардейской пехоты.
Обход завершился, царь вышел на середину строя.
– Господа офицеры, – сказал он с очень домашней интонацией, – дабы ознаменовать сегодняшний торжественный день, произвожу каждого из вас в следующий чин.
Ликующее «ур-р-ра-а» бросило в дрожь стёкла огромных арочных окон актового зала.
Олешкович-Ясень поперхнулся победным криком, в глазах померкло, испарина, ледяная испарина пробила виски. Он качнулся былинкой, выронил трость и наверняка рухнул бы на паркет, не поддержи его за плечи великий князь Дмитрий Павлович, стоявший рядом.
Захромавшего прапорщика довели до обитого алым шёлковым штофом кокетливого диванчика у стены, усадили. По приказанию великого князя лакей стремглав примчал большую рюмку коньяку.
Далее в программе праздника значился кинематографический сеанс, после которого – ужин и посещение оперы. Вечер сулил перспективы весьма заманчивые, но у Олешковича-Ясеня хватило ума не рисковать, несмотря на то что сорокаградусный шустовский10коньячок взбодрил его. Кирасир попросил вызвать извозчика, самостоятельно добрался до вокзала и с первым курьерским поездом двинул в обратный путь.
В купе он, не раздеваясь, лишь расстегнув тугие крючки шинели, обессилено опустился на полку. В левом сапоге хлюпало – противно, липко и тепло, то продолжала кровить открывшаяся рана. Надлежало сделать перевязку, в багаже новоиспечённого корнета и бинт имелся, и гигроскопическая вата, сил вот только не оставалось на то, чтобы разуться и стащить щегольские бриджи, по всей видимости, загубленные напрочь.
Окунаясь в зыбкую недужливую дремоту, ОлешковичЯсень говорил себе, что сегодняшнее поздравление государя императора наряду с награждением орденом св. Георгия в октябре, останутся счастливейшими событиями его жизни, невзирая на то, каких высот суждено ему достичь судьбой. Умиротворённая улыбка смягчила напряжённые губы юноши…
К мятежному октябрю семнадцатого, добившему Россию, исподтишка раненную в феврале, Олешкович-Ясень уже носил погоны штаб-ротмистра. Исполнял обязанности полкового адъютанта. Завидная карьера для неполных двадцати лет!
В начале 1918 года он чудеснейшим образом увернулся от смерти в Киеве, избежал расстрела. Взамен был мобилизован в РККА, короткая служба у красных до сих пор мучила его ночными кошмарами. Потом был побег в Польшу, настолько фантастически дерзкий, что вполне мог послужить сюжетом для приключенческого романа Луи Буссенара11. Из Варшавы Евгений через Украину приехал на Дон. Поступая в Добровольческую армию, заявил о намерении продолжать службу исключительно в гвардейской части. Поставленной цели, несмотря на бюрократические рогатки, добился.
К скороспелым белогвардейским соединениям, так называемым «цветным», где всякий гад был на свой лад, Олешкович-Ясень относился с глубоким скепсисом. Убеждения имел, естественно, монархические. Политику непредрешенчества, культивируемую безнадёжным простолюдином генералом Деникиным, в гвардейском кругу критиковал с употреблением площадной брани. К сожалению, когорта избранных, достойных по происхождению и уму возглавить здоровые силы, те, что способны спасти Родину от хама, на поверку оказалась до обидного малочисленной.