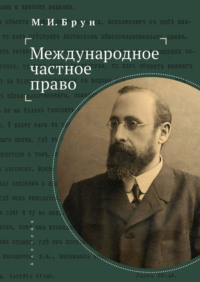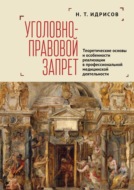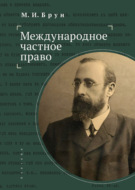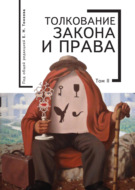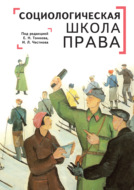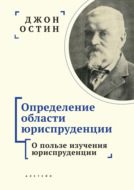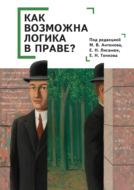Czytaj książkę: «Международное частное право»
© А. А. Костин, предисловие, 2025
© О. А. Гладченко, составление текста, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025
* * *

Роль, место и значение работ М.И. Бруна в современной России
Читатель, пролистывающий страницы этой книги в книжной лавке или просматривающий ее описание с экрана своего персонального компьютера или мобильного устройства может задаться вопросом: зачем ему нужно тратить свои средства на книгу, которая была издана 114 лет назад (1910 г.). Какую пользу он может извлечь из курса лекций, который касается состояния доктрины и законодательства в области международного частного права начала XX в. Для ответа на данный закономерный вопрос обратимся к истории международного частного права на рубеже XIX–XX вв.
В рассматриваемую историческую эпоху международное частное право переживает коренной перелом. Под влиянием разнонаправленного подхода Ф.К. фон Савиньи происходит отказ от теории статутов, которая возникла еще в Средневековье. Одновременно с этим в ряде стран происходит процесс кодификации норм международного частного права, включая: Общий гражданский кодекс Австрии 1811 г. (Allgemeines Bürgerliches Gezetsbuch); Гражданский кодекс Королевства Италии 1865 г.; Вводный закон к Германскому гражданскому уложению 1896 г (Einführunggesetz)1.
Равным образом, в сфере международных от ношений происходит заключение ряда международных договоров по вопросам международного частного права и международного гражданского процесса включая: 1) Конвенция о судебной юрисдикции между Швейцарией и Францией от 15 июня 1869 г.; 2) Конвенция между Францией и Бельгией о судебной юрисдикции, о компетенции и исполнении судебных решений от 8 июля 1899 г.; 3) иные международные договоры.
Также следует подчеркнуть, что с 1893 г. начинает свою деятельность Гаагская конференция по международному частному праву, которая нашла свою отражение как в заключительных актах по результатам сессии каждой заседания конференции, а также в международных договорах, включая Конвенцию по вопросам гражданского процесса от 14 ноября 1896 г.; Конвенцию об урегулировании коллизий законов в области заключения брака 1902 г.; Конвенцию по вопросам гражданского процесса от 17 июля 1905 г.
В свою очередь в доктрине идет XIX–XX полемика на предмет того, следует ли международное частное право рассматривать как составляющую международного (публичного) права (такую точку зрения высказывал, в частности, немецкий юрист Эрнст Цительман) или как составляющую частного права соответствующего государства.
В данном случае М.И. Брун встает на позицию «цивилистического» взгляда на международное частное право. Как отмечается рассматриваемым автором: «Попытка обосновать юридическую обязательность применения иностранных законов требованиями Международного Права должна считаться неудачной». Однако, по мнению М.И. Бруна, никакое Международное Право не предписывает в каких случаях применять иностранные законы и какие именно.
В этой связи М.И. Бруном отмечалось, что применение иностранного частного права основывается на правильном понятом интересе соответствующего государства. Как отмечалось рассматриваемым автором: «здоровое правосознание и понимание интересов собственной страны приводят к тому, что в каждом из культурных государств в известных случаях к обсуждению прав и обязательств частных лиц, все равно – иностранцев или собственных подданных, – применяются иностранные законы преимущественно перед своими. В каких именно случаях частные права и обязательства обсуждаются по иностранному закону или, несмотря на свое иностранное происхождение, обсуждаются по туземным законам – на это дает ответ Международное Частное Право».
Наряду с изложением основных начал международного частного права в работе анализируются отдельные институты международного частного права. В этой связи существенный интерес представляет анализ коллизионной привязки lex rei sitae, согласно которой возникновение, осуществление, а также иные аспекты вещных прав определяются по согласно законодательству государства местонахождения вещи. Данная коллизионная привязка заменила собой архаичную привязку mobilia sequuntur personam – согласно которой права на движимую вещь определяются законодательством государства постоянного местонахождения собственника (владельца) вещи.
В этой связи М.И. Бруном приводится следующий пример: «Вообразите, что в России, живет немец, обладатель движимой вещи, и что к вещным правам на движимость применяется личный статут этого немца. По германскому законодательству для перехода права собственности на движимости нужна передача; на основании многих сенатских решений можно считать, что в России для такого перехода достаточно простого договора. Немец продал свою движимость, но еще не передал ее; однако каким-нибудь способом она все же попала в руки русского и затем пошла ходить по рукам. Вдруг, через год или два, немец требует ее возврата от десятого, быть может, владельца на том основании, что он вещи не передавал. Ясно, какая анархия была бы результатом применения личного статута».
В сфере договорного права М.И. Брун последовательно отстаивает идею о том, что «стороны автономны только в тех пределах, в каких это постановляет компетентный для их договора закон, и задача Международного Частного Права не в том, чтобы углубляться в намерения сторон и пополнять их недомолвки, – это дело судьи, разрешающего конкретный спор, – а в том, чтобы, как и во всех других сферах коллизии законов, находить ту привязку, которая делает закон известной территории компетентным по преимуществу».
Равным образом, применительно к обязательствам из причинения вреда (деликтам) М.И. Брун прозорливо обращает внимание на объективные сложности, которые зачастую возникают при определения места причинения вреда (коллизионная привязка – lex loci declicti commissi). «Такая коллизионная норма была бы, впрочем, и трудно применима, и несправедлива, потому что часто очень трудно определить, что есть место, где сказался результат так как прежде всего нужно знать, которое из бесчисленных последствий, которые может иметь всякое деяние, есть тот результат который дает право требовать возмещения убытка; и затем место, где сказался этот результат часто дело случая; например, купцу причиняется ущерб заведомо ложным сообщением о кредитоспособности лица; место, где до него дошло лживое известие, может быть совершенно случайно, например, если корреспонденция следует за ним во время его деловой поездки».
Наибольший интерес для современного читателя представляют собой положения работы, касающиеся действия иностранных судебных решений, а также последствий иностранной процедуры банкротства, в силу того, что данные вопросы получили лишь ограниченное освещение в современной доктрине.
В частности, М.И. Брун анализирует различные аспекты действия иностранного судебного решения, включая как res judicata, так и исполнение иностранных судебных решений («Другими словами: признается ли законная сила иностранных судебных решений и приводятся ли эти решения в исполнение?»).
Рассматриваемый вопрос анализируется автором через призму государственного суверенитета в том аспекте, что суверенитет рассматривается как монополия государства на применение мер принуждения.
С одной стороны, М.И. Бруном рассматривается теория, согласно которой верховенство государства в сфере осуществления правосудия затрагивается исполнением иностранного судебного решения, но не признанием его законной силы. С другой стороны, в работе приводится и иная теория, согласно которой суверенитет государства затрагивается как исполнением иностранного судебного решения и наделением его законной силой. При этом, автор приходит к выводу относительно того, что: «Решить, которое из этих двух мнений правильно, можно только с точки зрения какого-нибудь определённого положительного законодательства. Когда в нем нет писанной нормы, положение остается безнадежным, как во Франции, где писатели делятся на два лагеря».
Равным образом, целая лекция М.И. Бруна посвящена исследованию правовых последствий иностранного банкротства. В частности, автором рассматриваются такие концепции как универсальность и территориальность конкурсного производства. По итогам проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что: «при отсутствии в положительном праве какой-нибудь, прямой нормы, признающей универсальность заграничного конкурса, – мы сейчас увидим, что в некоторых законодательствах встречаются и такие нормы – необходимо держаться взгляда, что каждый конкурс имеет только территориальную силу и потому, при существовании конкурса заграницей, в стране, где у должника есть имущество, может быть учрежден самостоятельный конкурс».
В качестве заключительного замечания отметим, что лекции М.И. Бруна представляют собой наиболее полный курс международного частного права опубликованный до 1917 г. Данный курс основан на обширном анализе иностранной и отечественной доктрины. Вне всякого сомнения, обращение к данной работе будет способствовать пониманию тех фундаментальных положений, которые лежат в основе современного российского регулирования международного частного права.
Настоящая работа приводится по тексту рукописи, находящихся в фондах Российской Государственной Библиотеки.
Костин Александр Алексеевич – старший научный сотрудник / доцент Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации; доцент кафедры МЧиГП международно-правового факультета МГИМО (У) МИД РФ; основатель юридической практики K – Legal (экспертные заключения для иностранных и российских судов).
Лекция 1-я
Мы приступаем к изучению науки, которую в сороковых годах девятнадцатого века начали называть: Международное Частное Право. Общее мнение таково, что название это неправильно и неточно, громоздко и некрасиво. Своим содержанием наука эта представляет ряд тяжелых испытаний для тех, кто ею занимается. Немецкий писатель XVII века говорил, что ученым становится жарко от ее головоломных вопросов. Французский ученый наших дней жалуется, что порою, наука эта напоминает ему лесную чащу без дорог. Другой наш современник, профессор этой науки в Парижском университете, говорит, что занятие ею развивает в преподавателях душевное смирение и милосердие к слушателям. Наука эта старая, ее разрабатывают с XIII в. Но и 60 лет тому назад Савиньи писал, что она находится еще только в периоде образования; и мы теперь должны сказать, что она все еще строится… некрасивое название… трудное содержание. Между тем, она не только не отвращает от себя, но те самые, кто так на нее жалуются, заявляют о своей пламенной любви к ней. По тому самому, что наука эта изобилует недоуменными вопросами; по тому самому, что процесс искания истины более ценен, чем достигнутая ступень познания, которое ведь всегда только относительно; но и потому, что конечная цель этой науки – признание и защита субъективных прав на всем земном шаре, независимо от случайных местных условий притязания на них; что светоч этой науки – человечество, стоящее выше национальных делений – по этим причинам она влечет и привязывает к себе всех, кто с нею познакомился. Я открываю курс в надежде на ваше полное интереса и любви отношение к науке, с которою вы будете знакомиться.
Вы уже прослушали курс международного права. То, что вы теперь будете слушать, совсем не то, о чем шла речь в том курсе. Там вам говорили об отношениях между суверенными государствами; там вы знакомились с теми нормами, которые определяют взаимные права и обязанности государств. В Международном Частном Праве речь идет об отношениях между частными лицами по поводу их частных, т. е. личных, семейственных и имущественных прав и обязанностей. Вы знакомы уже также с гражданским и торговым правом, которые вместе образуют понятие частного права. Вы знаете, что то – совокупности тех норм, которые управляют личными, семейственными, имущественными – гражданскими и торговыми отношениями частных лиц. Но вы не услышите от меня повторения того, что вам говорили профессора гражданского и торгового права. Международное Частное Право не есть международное право, но и не есть частное право; это нечто совершенно отдельное от этих двух совокупностей правил. Однако, откуда такое странное название, что мысль с недоумением перебрасывается то к международному праву, то к гражданскому и торговому праву? Если я вам теперь скажу, что Международное Частное Право имеет дело с правоотношениями между лицами, принадлежащими к разным государствам, или с правоотношениями, которые завязались между лицами за границей, и которые приходится развязывать в их отечестве или еще в другом государстве, то вы усмотрите уже некоторое соседство международного частного права с теми дисциплинами, от которых я только что его отграничил. Скажу больше – в литературе вы найдете представителей такого взгляда, что Международное Частное Право есть совокупность частных отношений, образующихся в среде человечества, что его цель подчинить праву отношения между индивидами в мировом обществе; так его определяет оригинальный и остроумный амстердамский профессор Житта. Но я решительно должен вас предостеречь от такого понимания, потому что с ним связано представление о космополитическом, всемирном гражданском праве, нормы которого годятся для отношения между людьми, независимо от того, к какому государству они принадлежат. Нет. На наших глазах действительно растет всемирное гражданское право: путем договоров между отдельными государствами уже возникли общие нормы авторского, патентного, железнодорожного права; возможно, что мы накануне кодификации вексельного права. Но о создании всемирного гражданского кодекса теперь уже мало кто мечтает, потому что то, что составляет главное содержание гражданского права, настолько связано с историей, с общественными взглядами, с нравами, что отделить его от местных корней невозможно. Но даже в тех скромных пределах, в которых всемирное гражданское право возможно, оно не имеет ничего общего с Международным Частным Правом; если бы оно когда-либо осуществилось, это была бы смерть для нашей науки. Международное Частное Право живет и будет жить, доколе живы отдельные гражданские правопорядки, и поскольку эти правопорядки между собою различаются; если бы между гражданскими законами отдельных стран не было различия, то никогда бы не возникало бы и повода обращаться к свету Международного Частного Права, подобно тому, как если бы весь мир заговорил на эсперанто, исчезла бы наука сравнительного языкознания. Однако это уподобление обязывает меня опять оговориться: не подумайте, что Международное Частное Право – то же, что сравнительное правоведение; я предостерегаю вас от этого смешения, потому что постоянно придется сравнивать законы разных стран. Но сравнительное правоведение есть наука, которая питается сходством, наша же наука живет различиями; сравнительное право ведение – наука чистая, она готовит материал для обобщений социолога, для будущего законодателя, но она не соприкасается с конкретными, частными интересами; наша же наука – прикладная, она имеет дело с практическими, злободневными частными интересами отдельных лиц. Когда мы будем сравнивать разные законы между собою, то наша задача будет не в том заключаться, чтобы убедить себя, что между ними нет разногласия, что безразлично, из какого законодательства ни взять отыскиваемую нами норму; нет, мы не будем закрывать глаза на различия и будем искать, которому из двух сравниваемых нами законов, взятых из разных источников, должно быть отдано предпочтение для регулирования частных интересов.
Итак, Международное Частное Право не есть международное право, ни частное право в смысле гражданского или торгового права; это не всемирное гражданское право и не сравнительное правоведение. Что же это такое? Чтобы это понять, вы должны живо представить себе круг явлений, ради которых существует Международное Частное Право. Ежегодно сотни тысяч людей одиноких и семейных, взрослые и малолетние, нищие и имущие, эмигрируют из одних стран в другие и там остаются навсегда. Еще большее количество людей в каждую данную минуту временно пребывают в чужих странах. Те и другие совершают там самые разнообразные юридические действия и завязывают правоотношения с другими лицами; приобретают имущества, нанимаются на работы, становятся супругами, родителями, оставляют завещания об имуществе, оставшемся на родине, или умирают без завещания. Еще больше число тех юридических сделок, которые совершаются ежедневно между жителями разных стран заочно, по переписке, в связи с мировым товарным и денежным обращением. В чужой стране при совершении иностранцем юридического действия может возникнуть вопрос об его дееспособности, потому что возраст для совершеннолетия, быть может там установлен не в 21, как на родине иностранца, а в 24 года. Или по возвращении его на родину здесь может возникнуть вопрос о законности тех актов, которые им совершены за границей, потому что форма их не та, какая установлена здесь. Или суду приходится разбирать спор, возникший из договора, заключенного по переписке за границей. Всякий раз, когда местному жителю приходится вступать в юридическое соглашение с иностранцем и проверять его дееспособность к подписанию, например, купчей крепости или векселя, или когда местному суду приходится разбирать спор, в котором какой-либо из фактических элементов стоит в связи с заграницей, всякий раз в этих случаях перед частным или должностным лицом встают вопросы, вправе ли иностранец совершить предполагаемое юридическое действие, законно ли то правоотношение, которое он установил у себя на родине к лицу или вещи: например, действительно ли он законный супруг или отец, или действительно ли он законный собственник имущества, которое хочет продать, законно ли совершен нашим соотечественником во время его пребывания за границей договор, на основании которого в суде предъявлено требование? Законно? Т. е. согласно с законом, но с каким? С тем ли законом, который мы – местный житель, купец, представитель банка, нотариус или судья – находим напечатанным в том гражданском уложении или торговом уставе, которые изданы для нашей страны законодательною властью? Или с тем законом, который издан на родине эмигранта, иностранца, в стране, где нашим соотечественником или иностранцем заключен обсуждаемый нами договор, где приобретено спорное имущество и т. д.? По какому из двух законов – своему или иностранному – надлежит решить вопрос: существует ли то субъективное право, на которое перед нами ссылаются? Конечно, от этого подчас очень мудреного вопроса можно было бы отделаться соображением, что, по народной поговорке, «в чужой монастырь со своим уставом не ходят», и сказать: «у нас есть свои законы и никаких других иностранных законов мы не признаем; если те правоотношения, не суть вовсе с точки зрения наших законов правоотношения, то тем хуже для тех, кто, совершая юридические действия, не справился с нашими законами». Однако действительность показывает, что нет такого современного государства, где бы сам законодатель поощрял такой узко-националистический взгляд, потому что проведение его на практике имело бы последствия, перед которыми остановилась бы если не совесть, то собственное благоразумие исполнителей. Как люди жили в своей стране, установили правоотношения в полном согласии с законами этой страны; они обладатели семейственных или имущественных прав; затем вследствие тех или иных обстоятельств эти люди очутились в другой стране, о законах которой они не имели основания и думать раньше. Вдруг весь законный строй их частной жизни становится внезаконным, т. е. не стоящим защиты со стороны гражданского суда. Например, сын вдруг становится незаконным сыном своего отца, потому что брак его родителей совершен не по нашей форме, следовательно, этот сын не имеет право на наследство? Нет, с таким последствием простой перемены местопребывания правоотношения современное правосознание не мирится. Да и прежде всего правильно понятый общественный интерес напоминает, что нельзя разорить иностранцев без того, чтобы это не отозвалось болезненно на собственных подданных – настолько интересы в деловых отношениях переплетаются; и затем, если мы сегодня разорим иностранцев, то завтра иностранное государство так же просто разорит наших соотечественников и тогда вообще конец мирному международному гражданскому и торговому обороту. Кроме того, как может гражданский суд отказываться от проверки прав по иностранным законам, когда роль суда состоит не в том, чтобы создавать новые права, а только выяснять, существуют ли эти права? Словом, здоровое правосознание и понимание интересов собственной страны приводят к тому, что в каждом из культурных государств в известных случаях к обсуждению прав и обязательств частных лиц, все равно – иностранцев или собственных подданных, – применяются иностранные законы преимущественно перед своими. В каких именно случаях частные права и обязательства обсуждаются по иностранному закону или, несмотря на свое иностранное происхождение, обсуждаются по туземным законам – на это дает ответ Международное Частное Право.
Я сказал вам уже, что название «Международное Частное Право» неудовлетворительно. Раньше науку называли учением о коллизии статутов или о конфликте законов; и теперь это название не совсем вышло из употребления; и теперь самый выдающийся английский ученый в этой области, имя которого вам должно быть известно – Дайси, держится термина «Конфликты законов». Те, кто придумали название «Международное Частное Право», хотели подчеркнуть, что это право, т. е. совокупность норм, обязательных для государственной власти, а не капризное ее усмотрение.
По существу, как вы сейчас увидите, название «Коллизии законов» ближе передавало содержание предмета, но термин «Международное Частное Право» вошел в обиход и его можно держаться, если только никогда не забывать, в чем неточность этого названия. Оно родит в умах представление, будто дело идет об отношениях между лицами, принадлежащими к разным государствам. В действительности в целом ряде государств существуют области, в которых исторически возникшее гражданское законодательство продолжает действовать, в то время как в других частях государства действует совсем другое законодательство. Так, в пределах России три Прибалтийских губернии, десять губерний бывшего царства Польского и Бессарабия имеют свои отдельные гражданские законы, отличные от тех законов, по которым живет остальная Россия: завещание, составленное в Курляндии, приводится в исполнение, например, в Москве, где для формы завещаний существуют иные законы; уроженец Польши умирает в Петербурге, оставив имущество в Варшаве, где порядок наследования иной, чем у нас. Такая же встреча двух разных по содержанию норм материального права бывает до сих пор в Германии, несмотря на кодификацию гражданского права с 1900 г., потому что остались в силе некоторые специальные постановления отмененных партикулярных законодательств; и в Испании, где кодекс 1889 г. не вытеснил всех провинциальных законов; и в Великобритании, где между английским и шотландским правом сохранились некоторые отличия. Еще чаще такие же коллизии бывают между законами сложных государств, где каждая часть сохранила и свой законодательный орган: гражданские законы России и Финляндии, Австрии и Венгрии, швейцарских кантонов и Швейцарской федерации и т. д., – все они могут коллидировать на почве частных интересов. Правила, которыми определяется, какой из конкурирующих законов – русский или остзейский, австрийский или венгерский, кантональный или федеральный, и т. д., имеет решающий голос в этом случае, – эти правила те самые, какие действуют, когда сталкиваются законы совершенно отдельных государств. Вся разница в том, что коллизия между разноместными законами стран, имеющих одного законодателя, может быть разрешена его законом, тогда как для разрешения коллизии в других случаях такого властного источника нет. Но правила для решения коллизий остаются те же, как и при коллизии законов разных государств. Памятуя это, можно держаться и неудачного, но укоренившегося названия «Международное Частное Право» для совокупности правил, определяющих, который из двух или нескольких разноместных законов должен быть применен при обсуждении правоотношения, которое каким-либо из своих фактических элементов связано с другим государством или с областью другого правопорядка. Международное Частное Право есть совокупность правил или норм, указывающих выход из коллизии разноместных гражданских законов, – короче – совокупность коллизионных норм.
Но почему же предмет наших будущих занятий составляет науку? Это я теперь поясню. Международного Частного Права в виде сборника правил, одинаково применяющихся у всех культурных народов, не существует; законодательной власти, которая могла бы предписать всем народам одинаковые правила для решения конфликтов между законами, нет; договорное соглашение государств между собою об объединении этих правил еще далеко не достигнуто; поэтому в каждой стране должны существовать особые коллизионные нормы как часть внутреннего законодательства страны. В смысле совокупности правил существует не одно Международное Частное Право, а столько их, сколько отдельных государств или правопорядков; есть русское Международное Частное Право, французское, остзейское и т. д. Но наука Международного Частного Права по своим задачам и методам только одна; потому и цель, которую преследуют ученые в своих занятиях Международным Частным Правом, одна: достигнуть того, чтобы каждое правоотношение, возникшее на почве известного правопорядка, признавалось всюду за то, что оно есть, – за правоотношение – чтобы, например, если вы приобрели какую-нибудь вещь или приняли денежное обязательство в какой-нибудь стране в согласии с ее законами, вы считались бы собственником этой вещи, кредитором по этому обязательству всюду, куда бы судьба не занесла ваше правоотношение. Целью всех научных стремлений является гармоническое согласование разноместных норм материального права, – чтобы нормы одного правопорядка склонялись перед такими же нормами другого правопорядка, когда дело идет о законно приобретенном субъективном праве. Эта цель была бы легко достижима, если бы от ученых зависело переделать отдельные правопорядки так, чтобы они не дорожили никакими из своих законов в особенности, если бы отдельные правопорядки любезно соглашались на перетасовку разноместных законов в зависимости от потребностей каждого случая. Но этого нет и быть не может, потому что каждый правопорядок имеет веские основания для того, чтобы иметь у себя такую-то, а не иную норму материального права. Как при такой естественной дисгармонии достигнуть того, чтобы во всех странах обладатель субъективного права встречал одинаковое признание этого своего права, если это вообще достижимо, – вот основная проблема науки Международного Частного Права. Теперь вы можете понять, в чем заключаются задачи науки и насколько они трудны. Наука имеет перед собою ряд отдельных правопорядков, из которых у каждого свои определенные коллизионные нормы. В виде писаных законов эти нормы, однако, большею частью крайне скудны; всюду судебная практика вынуждена их добывать путем толкования и выводов из смысла и духа законов и путем распространения законов по аналогии на новые случаи; но и затем остаются пробелы, где у суда нет уже никакой руководящей нити; и здесь спасти его от шатания мысли, от произвольных и противоречивых решений может только следование какому-нибудь общему принципу; выработка такого принципа составляет первую задачу науки. Затем до суда доходит обыкновенно только минимальная доля случаев из тех, когда частным лицам нужно распутать свои недоразумения, когда они желают разобраться по совести и справедливости, но не знают, что правильно в данном случае, – какому правопорядку подчинено их отношение; и здесь на помощь должна приходить наука со своими принципами. Выше и труднее всех других задач подготовка единого для всех государств Международного Частного Права; это единое Международное Частное Право может быть достигнуто или тем, что в каждом государстве путем внутреннего законодательства будут выработаны однообразные нормы; или же тем, что государства договорятся между собою путем конвенций о введении таких однообразных норм, но и для этого нужно, чтобы наука выработала определенные принципы, которые всеми признавались бы за обязательные. К сожалению, надо сказать, что до сих пор усилия науки в этом направлении успехом не увенчались. Нет ни одной теории, которая была бы всеми признана за такую истину, чтобы на ней могли строиться все судебные решения внутри всех государств и все коллизионные нормы остающегося в идеале единого Международного Частного Права. Мало того, последние десятилетия раскрыли перед глазами ученых трудности, которые иные готовы считать непреодолимыми. Когда науку разрабатывали статутарии, т. е. до конца XVIII в., и позже, когда писал Савиньи и еще позже, когда созидалась новая итальянская школа, т. е. до 80-х гг. XIX в., имели в виду только коллизии законов материального права; спорили о том, решать ли по закону страны, где лицо постоянно живет, или по закону страны, где лежит имущество, но не знали коллизии между коллизионными нормами. Но по мере того, как на материке Европы делало успехи определение личного статута (т. е. того законодательства, по которому определяется состояние и дееспособность иностранца), по принципу подданства, в то время как некоторые страны продолжали держаться принципа, что этот личный статут определяется по закону постоянного местожительства, – по мере этого вырастала новая трудность в виде разногласия между коллизионными нормами: нормою подданства и нормою домициля. Всего каких-нибудь 20 лет тому назад судебная практика ухитрилась преподнести теоретикам новую загадку в виде учения об обратной отсылке в коллизионных нормах. Затем Франц Кан в Германии и Бартен во Франции показали существование скрытых коллизий законов и коллизий в юридических квалификациях, – коллизий, устраняющих самую возможность гармонического согласования коллизионных норм в некоторых, к счастью, немногих, случаях. Обо всем этом я сообщу вам обстоятельно позже, и тогда вы меня лучше поймете, но уже сказанного достаточно, чтобы показать вам, как велики и как вместе с тем трудны задачи науки Международного Частного Права. Теперь я остановлю ваше внимание на другом.