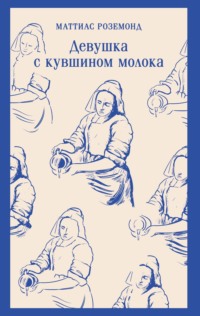Czytaj książkę: «Девушка с кувшином молока», strona 3
5. Катарина
Это, случаем, не господин Ван Рейвен там идет? Вижу его, пока стою в очереди у рыбного прилавка. Точно, он. Что же делать? Сначала купить рыбу или замолвить словечко за Яна? Либо рыбку съесть, либо на мель сесть…
Решаюсь на второе. Выскальзываю из очереди и нагоняю его у моста Вармусбрюг.
– Господин Ван Рейвен, надо же, какое совпадение! Как удачно, что я вас встретила. Можно с вами переговорить?
Он опускает трость на тротуар и изучает меня взглядом.
– Мне доводилась честь ранее быть вам представленным?
– Конечно, я супруга Яна! Яна Вермеера, художника! И дочь Марии Тинс.
– Ах да, конечно! Прошу меня извинить. Пожалуйста, не рассказывайте об этом недоразумении моей супруге, она вечно меня попрекает забывчивостью. Недавно я позабыл о дне рождения нашей дочери, а теперь вот и вас не узнал… Когда же я вас видел в последний раз?
Без сомнения, на картине Яна, однако не будем сейчас об этом.
– Знаете, я хотела у вас спросить… Мой муж сейчас… Как бы сказать?..
– Я понял! У вашего мужа сейчас полно неприятностей, которые, боюсь, он сам на себя и навлек.
Быстро оглядываюсь по сторонам, не подслушивает ли кто. Никому нет до нас дела, все поскорее спешат укрыться от надвигающейся бури.
– Он слегка вспыльчивый, и сейчас ему нужно…
– Поставить мозги на место. Надеюсь, вы сможете ему в этом помочь! – назидательно говорит господин Ван Рейвен.
– Я стараюсь как могу.
Он поглядывает на небо. Дольше тянуть нет смысла, надо переходить к делу.
– Помимо этого, ему бы не мешало и кое-какую работу получить. Побольше заказов! Иначе я и не знаю, как мы дальше будем.
Ветер усиливается. Мой собеседник придерживает шляпу за поля.
– Даже не знаю, чем я могу вам помочь. Я с ним уже разговаривал, просил, чтобы зашел ко мне, как только закончит новый портрет. Когда же это было? По-моему, в мае. Я знал, конечно, что он медленно работает, но чтобы до такой степени…
– Портрет почти готов, только Ян все еще не может с ним расстаться, все доделывает… Думаю, вы понимаете, о чем я.
– Приличный на этот раз?
– Да, он писал с меня, там я сижу у стола.
– Вот как? Любопытно будет посмотреть. – Впервые за весь разговор на его лице появляется легкая улыбка. – Поторопите его, пожалуйста. И пусть держит меня в курсе.
Господин Ван Рейвен приподнимает шляпу.
– Передавайте привет вашей матушке. Замечательная женщина, всегда это говорил!
Вымокнуть он явно не желает, поэтому спешит прочь в поисках убежища.
По улице Вайнстраат летят обломанные ветки. Дома, стоящие по другую сторону, отражаются в темной воде канала. Круги на поверхности воды говорят о том, что с неба срываются первые капли дождя.
Мне нужно подумать. Пройдусь еще кружок, прежде чем вернуться на рыбный рынок, все равно намокну. Как же так, почему Ян до сих пор не обратился к господину Ван Рейвену за работой? Может, стоило заговорить об авансе? Я забыла передать привет его супруге… В бесплодных размышлениях и беспокойствах я сильна. Меня, например, занимает такой вопрос: то ли я холодный человек, но милый с виду, как я сама считаю, то ли я – теплый человек, но с виду холодноватый, как думают другие. Моя мать, например, говорит, что я слишком строго о себе сужу.
Ах, как же людям меня понять, если я сама себя не понимаю? Другие охотно выходят наружу в солнечный день, а я отсиживаюсь дома. Если же на улице пустынно, как сейчас, мне гораздо спокойнее – меньше косых взглядов.
Плетусь по каменной мостовой, вглядываясь в блестящие камни. Возможно, сейчас я показала свою решительность, но на самом деле у меня вечно сомневающаяся натура. В те недели, пока Ян работал над групповым портретом, я полностью его поддерживала. Знала я о его планах? И да, и нет. Пикантные сцены хорошо продаются, так он утверждал. Замысел у него был колоссальный. Я была полностью на его стороне, даже когда поняла, что он поместил на портрет самого себя в роли наблюдателя. Ян столько рассуждал о том, что за тобой наблюдают, пока наблюдаешь ты сам, – вроде бы хотел донести до людей мысль, что им нужно критичнее смотреть на самих себя.
А что же с продажной девицей? Я, без сомнения, узнала в ней свои черты. Ян поначалу отнекивался, а потом повернул все так, будто тем самым сделал сцену гораздо интереснее. Переубедить его у меня не вышло. В конце концов я сдалась и позволила ему писать, как хочет. Я избегала заходить в его студию, делала вид, словно картины не существовало. Глупость, конечно. По сути, я просто спрятала голову в песок.
Дождь усиливается, так что я укрываюсь под портиком Старой церкви. Здесь же укрылись нищие: один безногий, второй, кажется, не в себе, а третий как-то уж очень внимательно рассматривает меня единственным глазом. Поспешно отворачиваюсь.
После взрыва на пороховом складе, случившегося три года назад, в городе много увечных. Нам повезло, что наш дом и мы сами уцелели. Протестантам, по крайней мере, разрешается просить милостыню. Вздумай католик протянуть руку за подаянием, его в два счета выставят из города.
В последний раз я стояла здесь с Яном. До сих пор помню, что в тот день мы первый раз прошлись, взявшись за руки. Я бы от такой прогулки воздержалась, но не могла дольше противиться его настойчивости, тем более я только что сказала, что он для меня – тот самый. Как он возгордился! Я тоже, конечно, и все же мне было не по себе. В тот день дождя ничто не предвещало, но, когда мы юркнули в один из портиков, нас заметили какие-то парни. Ничего хорошего от них ждать не приходилось.
Мы с Яном остановились.
Парни нас окружили, и один из них заявил таким оскорбленным тоном, как будто его лично это задело:
– Гляди-ка, наш петушок Янус гуляет с католической курочкой!
Ян не выпустил моей руки.
– Ты, значит, глаз на нее положил? – вступил другой, не оставаться же в стороне. – И что, уже поразвлекся?
– Нет, – честно ответил Ян.
Я не знала, куда и глаза девать.
– А тебе бы хотелось? Признавайся! Или стесняешься исповедаться в своих желаниях?
– Ему нельзя на исповедь, – заорал третий, – пока его святой водой не окропили! Тем более в таких важных желаниях!
– Сдается мне, я знаю, что делать, – обрадовался первый. – Водичка в делфтских каналах уж так хороша, все пивовары одобряют!
Они загалдели, перекрикивая друг друга.
– Покажешь ей, на что способен? – Самый здоровый из них схватил Яна за грудки.
– Можно мы просто пойдем по своим делам? – Ян старался говорить спокойно, но я услышала, что голос у него слегка дрогнул.
Я так перепугалась, чуть сердце не остановилось. Неужели ему придется с ними драться? Разве он управится с такими здоровяками!
Не успела я глазом моргнуть, как один из задир присел на корточки позади Яна и подтолкнул его под колени. Ужасно подло! Конечно, Ян не удержался на ногах и сильно расшибся. Я закричала, но они меня не слушали, ухватили его за руки и за ноги, вопя, что его надо окропить святой водой и отправить на исповедь.
Если бы не директор латинской школы, случайно проходивший мимо, – а кто-то из задир наверняка там учился, иначе бы они ни за что не послушали, – Яна точно искупали бы в канале. Задиры умчались, а Ян, весь красный от стыда, поднялся на ноги, нахлобучил шляпу и отряхнул песок со штанов. Мы оказались ровно на этом же месте, где я стою сейчас.
– Проводить тебя домой? – спросил он.
Я кивнула, но стоило нам зайти в католический квартал, сказала, что дальше дойду сама. Конечно, мы бродили здесь тысячу раз, но теперь я боялась, что история повторится и на этот раз презрением обольют меня.
Мы решили, что браться за руки будем только за городом.
Все, кажется, дождь закончился. Побегу я поскорее обратно на рынок, пока все покупатели разошлись, как раз успею быстро заказать к обеду селедку и скумбрию.
6. Ян
Люди называют меня упрямцем – это их право. Однако, поверь мне, все совсем наоборот. Я всего лишь добровольный раб красоты. Это моя пагубная страсть, моя радость и единственное право на существование, крест, на котором я распят. Если бы не стал художником, шатался бы без цели по миру или давно гнил под могильным камнем.
Не печалься, ведь я считаю себя избранным. Всего-то нужно перенести на холст ту красоту, которую видят глаза. Как эстету мне повезло жениться на самой красивой женщине Делфта, посему я имею право беззастенчиво любоваться ей, когда мне вздумается, – ее прекрасным телом от щиколоток до вишневых губ. Хотя нет, бери выше, ведь стоит ей снять свой чепец – на плечи льется водопад медовых локонов. Если бы можно было созерцать всю эту прелесть одному! Впрочем, это болезненная тема, не стану ее затрагивать.
Не говори, что я на тебе зациклился. Меня точно так же занимает и роса на паутинке, и лучи солнца в кронах деревьев, и свет, падающий в комнату через решетчатое окошко, и ржавые прутья забора, и неровная каменная кладка на фасаде, и кот-хвост-трубой, набросившийся на рыбные объедки, и задорный смех сиротки, жалкого, но в то же время счастливого, потому что занят любимым делом, и запах свежевыпеченного хлеба. Короче говоря, своей кистью мне хочется прикоснуться к самой жизни ровно так же, как свет касается каждой виноградинки на блюде.
Я благословлен.
Иногда стоит выглянуть в окно – и мир принадлежит мне. Дождь закончился, и в лужах отражаются серые краски неба. Через час от луж останется один блеск, а еще через час разве что бесцветные пятна на мостовой, и ни один смертный не обратит на них внимания. Люди понятия не имеют, что пропускают, – снова бегут по делам, прерванным непогодой, торопятся, один веселый, другой хмурый, как будто пытаются нагнать что-то очень важное. Вспомнят ли жители Делфта вечером, куда спешили утром? Цена, которую они платят, высока: торопыгам некогда наблюдать жизнь.
Наша, художников, задача – замедлить спешку, остановить время и увековечить мгновение.
Слышу, кто-то поднимается по лестнице. Походка у гостя не разболтанная, которую мне чаще всего доводится здесь слышать, а размеренная и достопочтенная. В такт шагам постукивает трость. Оборачиваюсь на скрип распахнувшейся двери.
– Господин Ван Рейвен! – удивленно восклицаю я. – Кто вас… В смысле проходите, пожалуйста!
– Благодарю, благодарю.
Без долгих разговоров он впивается взглядом в портрет Кат.
– Глядите-ка, господин Вермеер взял быка за рога!
Он подходит поближе и что-то неразборчиво бормочет себе в усы, подергивая их пальцами.
Пользуюсь возможностью за его спиной незаметно заправить в брюки рубашку, убрать со стола тарелку с хлебными крошками и быстро взглянуть на себя в зеркало: кудри стоят дыбом как никогда прежде, на мне нет ни воротничка, ни шляпы. Что ж, растрепанный вид может сыграть художнику на руку. Деятель искусства, как-никак.
– Я хотел напомнить, что ты обещал зайти ко мне с первой же новой работой. Сегодня мне выпала честь выступать в ратуше, вот и решил заодно и к тебе наведаться.
– Прошу меня простить, – отвешиваю полупоклон. – У меня было столько дел, и я хотел увериться…
– Много дел? Из окошка смотреть, не иначе? – Господин Ван Рейвен говорит всегда весело, со смешком. Его сдержанный оптимизм ненамеренно гармонирует с поросячьими глазками и румяными мясистыми щеками. Тому, кто дрейфует по жизни в таком виде и все же сохраняет бодрость духа, несомненно, покорятся все моря.
Ван Рейвен покачивается с пятки на носок перед мольбертом, сам не замечая, как сильно выпячивает живот.
– Ну что, готова твоя Катарина?
– Откуда вы… Вообще я хотел еще поработать со светом, отдать ему ведущую роль, только пока что не пойму, как это сделать…
– Помнится мне, ты еще летом начал. Когда мы там в последний раз виделись?
– Кажется, в июне… Да, точно. У вашего брата, нотариуса.
Ван Рейвен выпячивает нижнюю губу.
– Не хочу давать непрошеных советов, но тебе бы стоило поднять производительность и хотя бы со сменой сезона приниматься за что-то новое. Помнится, ты говорил, что тебе семью содержать надо.
– Я так и планирую. Между прочим, я принял ваш совет с глубокой благодарностью. Смотрите, свет падает сбоку и сзади, красиво подсвечивая ее воротник, не находите? Конечно, свет не может падать ей на лицо, иначе она проснется. Мне кажется, я сумел создать нужную атмосферу, хотя еще не уверен насчет баланса. Необходим последний акцент. А вот дверь позади Кат… То есть Катарины, моей супруги… Дверью я доволен. Помните, вы мне сказали, что моя предыдущая картина была слегка темновата?
– Бордельная сцена? Темновата – это еще полбеды, там дело посерьезнее.
Ох, вот теперь я задет за живое. Я-то думал, что говорю с истинным ценителем, который способен по-настоящему судить об искусстве. Раньше он хвалил меня за технику, за простоту композиции вместо того, чтобы выть вместе с волками о попранной морали. Лучше перевести тему, не хочу продолжать этот спор.
– Во всяком случае, в этой работе свет занимает все пространство.
– Я вижу улучшения, это бесспорно, но гордиться еще рано, молодой человек. – Ван Рейвен неодобрительно фыркает.
Съеденный хлеб камнем твердеет в моем животе, и все же я не отступаю:
– Вы же просили добавить света.
– Разумеется. Нет, работа довольно приличная, и техника на высоте. А уж стесняться красоты своей супруги тебе точно не стоит. Я тут на днях с ней словом перемолвился – очаровательное личико, глаз не отвести. И все-таки тебе еще есть над чем поработать. Ничего, если я так прямо говорю? – Ван Рейвен задумчиво хмурится. – По-моему, ты ее прямо здесь за этим столиком и писал, верно? Вот только стул…
– Стул и скатерть я втихаря позаимствовал у семейства Тинс, чтобы слегка придать лоску. У нас таких вещей не водится.
Господин Ван Рейвен снова жизнерадостно хмыкает и поворачивается ко мне.
– Я же о чем и говорю! Не проще было бы поставить свой мольберт там? Твоя теща без ума от искусства, и места на Ауде-Лангендайк достаточно, у них камин в каждой комнате. Из этого, извини за выражение, борделя мир не покорить. Меня тут одна дама нарочно подтолкнула, за клиента приняла, ха-ха! Нет, господин Вермеер, если серьезно относишься к делу, пакуй поскорее вещички. Или правду слухи говорят, что ты с госпожой Тинс повздорил?
– Нет, я не… Хорошо, я подумаю.
– Давай, давай. И в следующий раз пиши окно, поверь, вся работа сразу по-другому заиграет, а то на этом полотне как будто дышать нечем, и столько красного.
– Вы еще упоминали, что мне стоит оживить композицию.
– Гм, нет, здесь все красиво, покой и тишина. Оставь, в прошлый раз ты уж достаточно оживил.
Наливаю гостю бокал вина, он принимает его с благодарностью. А шляпу снять так и не удосужился.
– В прошлый раз вы сказали…
Он отступает своими короткими ножками на пару шагов назад, словно самому любопытно, что будет дальше.
– …что мне стоит попробовать написать вещицу в стиле господина Фабрициуса.
– Правда, я так сказал? Отличный совет! – Ван Рейвен охотно смеется собственной шутке. – Смотри только не пересоли. Напиши окошко, ускорь темп и добавь больше света. Ты же не хочешь, чтобы зритель оказался в какой-нибудь затхлой дыре вроде той, куда я ради тебя сейчас забрел? Ну да ладно, к чему это я веду? Напишешь для меня пару подобных портретов? Тем самым позабудем прошлые грешки, так сказать.
– За прошлую работу я получил пятнадцать гульденов.
Я тут же пожалел, что об этом сказал. Любой из делфтских художников отсоветовал бы мне заговаривать с господином Ван Рейвеном о деньгах, он этого не любит.
– Пятнадцать? Не слишком-то щедро.
Втихомолку с ним соглашаюсь.
Мой заказчик снова поворачивается к портрету.
– Да, картина очень приличная, определенно хочется побольше работ в таком духе. Если сделаешь, как я прошу, только в этот раз по-настоящему, и напишешь мне два похожих портрета месяцев, скажем, за восемь, то я готов заплатить тебе вперед. Человеку ведь надо на что-то жить, верно?
Даже не знаю, что на это ответить. Нужно ли поклониться или заговорить о сумме? Нет-нет, лучше не надо. Ох, я готов бегом бежать через площадь с радостной вестью: «Кат, у нас наконец-то появятся деньги!»
Не стой истуканом, пора заговорить. Отвечай спокойно, но с воодушевлением. Что же сказать?
– Что ж, могу согласиться с предложенными…
– И, разумеется, в синих тонах! – перебивает меня Ван Рейвен, сопровождая свои слова энергичным ударом трости. – Сдается мне, что синий сильно недооценивают, особенно в Амстердаме и Гарлеме. Утрехт в этом отношении ушел гораздо дальше. Настало время Делфта заявить о себе.
Синий! Легко сказать! Известно ли ему, сколько стоит лазурит? Ладно, может, проблема разрешится сама собой, дай ему назвать сумму. Спокойствие и терпение!
– От синего настроение улучшается. Посмотри сам! Весь этот красный только душит. Такое ощущение, что у твоей Катарины жар! Ее становится жаль, а твоя задача как художника – поднять зрителю настроение. Он должен чувствовать себя частью чего-то настоящего. Понимаешь, к чему я клоню?
Понимаю, еще бы. Как же я, идиот, сам не догадался об этом сказать.
– В глубине как таковой нет ничего плохого, особенно по сравнению с твоей предыдущей поделкой – там персонажи толпятся у зрителя прямо перед носом, – только здесь тоже все слишком ненатурально: открытая дверь, к примеру. Разве кто-то уснет на таком сквозняке? Ха-ха! Сделай тона прозрачнее, живее, используй меньше деталей, а то этот дом словно набит гадкими секретами, от которых его обитателям нехорошо. Думаешь, люди станут торопиться, чтобы на такое посмотреть?
Сумма, господин Ван Рейвен, назовите сумму!
Заказчик подходит к зеркалу и оправляет фетровую шляпу.
– Ну да ладно, думаю, главное я сказал.
У самой двери он оборачивается.
– Кстати, кто подкинул тебе идею написать ту скабрезную картинку?
Задумчиво потираю щетину на подбородке.
– В доме у тещи тоже висит картина под названием «Сводня», и я подумал…
– А, ты имеешь в виду картину господина Ван Бабюрена? Вот только он не стал изображать на ней гриф лютни, напоминающий фаллос!
– Это была цитра, господин Ван Рейвен.
– Лютня, цитра – неважно! Главное, что ты этот гриф собственной рукой обхватил и сидишь довольный! Это же надо додуматься – вашу папскую семейную вакханалию на холст перенести… Смело, молодой человек, смело! Что ж, полагаю, что ты усвоил урок. Картину-то продал в конце концов?
– Да, пекарю за пятнадцать гульденов.
– За пятнадцать? Ах да, точно. На эти деньги семью содержать не получится, верно я говорю? Ладно, пойду. Если что, отправляй ко мне посыльного, когда будет что показать. К тому времени подпишем все бумаги. Доброго дня!
Сажусь, чтобы отдышаться, – вроде бы получается. Жаль, что Ван Рейвен взялся меня отчитывать. На моей картине изображено, по большому счету, все ровно то же самое, что у Ван Бабюрена, разве что я придал сцене более легкомысленный оттенок. Наверно, подобную работу смогут оценить по достоинству, только когда я сделаю себе имя.
Подумать только, что теща когда-то ставила треклятого Ван Бабюрена мне в пример! «Когда научишься так же виртуозно владеть кистью, дорогой Ян, тогда и поговорим!» До сих пор помню, с каким ядом она цедила «дорогой». Явно не верила, что это время настанет.
Та картина сначала висела в прихожей, так что все визитеры столько охали да ахали, потому она велела перевесить ее над буфетом в гостиной – подальше от глаз. И тем не менее там ровно то же самое: девица, клиент, сводня. Полотно называют жемчужиной традиционной голландской жанровой сцены, соответствующей высокой морали, в то время как мою картину назвали скабрезной и смешали с грязью. Собратья по цеху, которые раньше приветствовали меня на улице, теперь отворачиваются. Знать злобно перешептывается, едва меня завидев. Что ж, Делфту нужен козел отпущения, к тому же новоявленный католик.
Интересно, случайно ли вышло, что я копировал именно ту картину в день, когда встретил Кат впервые после нашего короткого знакомства на льду? Дело было мрачным субботним утром в сырой мастерской господина Брамера на Коорнмаркт. Встреча не была такой уж неожиданной, потому что, после того как она привязала мне конек, я кое-что разузнал о семействе Тинс. Они собирали искусство и были католиками, как Брамер. В Делфте католиков наперечет, так что я заранее осведомился у художника, знаком ли он с этим семейством. Выяснилось, что знаком.
Мастерскую Брамера я вспоминаю с неохотой. Там стояла такая вонь, причем я не мог сообразить, от чего именно. Не иначе как где-то под половицей крыса издохла, а сам Брамер с его постоянной простудой давно нюх потерял и ничего не замечал, хотя запах перебивал даже привычные ароматы скипидара и лака.
Насколько мне помнится, Мария Тинс зашла забрать заказ, и Брамер обратил ее внимание на то, что мы работаем над утрехтским полотном. Мы – это трое прилежных учеников, что занимались у него по субботам. Мы должны были воспроизвести все в мельчайших деталях. Для меня до сих пор остается загадкой, почему Брамер выбрал именно ту картину в качестве образца. В те времена она ничего для меня не значила, да и с чего бы? Моей задачей было повторить мазок за мазком, цвет за цветом, а все остальное – дело десятое. Мы впервые использовали синий, и у меня просто дух захватывало. Даже если бы меня спросили, я бы вряд ли ответил, что именно там изображено. Девушка играла на лютне, но голова ее была занята явно не музыкой, вот и все, что я мог бы сказать. Старуху, на мой взгляд, можно было и не писать, слишком она страшная. Ей платили монету, но за что – я понятия не имел. Стоит сказать, что в те времена мой отец был еще жив и «Мехелен» являлся вполне приличной гостиницей.
– Вы только посмотрите на ее позу, – восхищался Брамер, брызгая слюной. – Вы только посмотрите, как меняется цвет! – Будто слов было недостаточно, он повторял позу и тыкал пальцами во все достойные внимания детали одновременно. Учитель так отчаянно к нам взывал, что мы совсем растерялись, куда смотреть – на него или на картину.
Вскоре я наверстал упущенное – сошелся с парнями, которые живо объяснили мне, чем продажные девицы зарабатывают на жизнь. Они водили меня переулками, где девушки стояли полураздетыми, словно на улице лето. Мужчины, сунув руки в карманы, прогуливались мимо них с таким видом, будто забрели туда случайно. Мы подзуживали друг друга: смотри, смотри, еще один зашел! Поспешно хлопала дверь. До меня стало доходить, что происходит между мужчиной и женщиной. Гораздо позже – по этому случаю я даже купил малиновый берет, – когда я зашел к Кат и заново рассмотрел полотно, я понял, что многое упустил в годы невинной юности. Трудно было охватить разумом, что Брамер написал нечто столь сомнительное на пути к вершинам мастерства. Помнится, парнишка по имени Крайн, который вместе со мной посещал уроки, предположил, что Марию Тинс гораздо больше интересовал сам Брамер, чем все его полотна, вместе взятые. Тогда я содрогнулся от отвращения и поспешил забыть эти слова. Уже в те годы Мария Тинс представлялась мне старой ведьмой, точь-в-точь такой же, как и на полотне Ван Бабюрена.
В любом случае теща меня очень разочаровала. В голове не укладывалось, что строгая католичка, которой ее считают, – а ведь половина Делфта уверена, что она день-деньской только и делает, что отгоняет грехи от порога, размахивая крестом и чесноком, – повесила такую сомнительную картину между образами святых и Девы Марии, словно приглашала в гости дьявола.
Когда Кат услышала, как я ворчу, возразила, что картину следует воспринимать как предупреждение. Как по мне, весьма сомнительно, почему тогда столько похоти на лицах и почему груди девушки так и норовят выскользнуть из платья?
Я парировал, что в этом случае лучше было бы повесить на стену пару библейских виршей, – вышло бы куда доходчивее. Кат промолчала. В то время наши отношения еще находились на том этапе, когда она избегала со мной спорить. Я не то чтобы нарочно искал, к чему прицепиться, просто пытался выяснить, почему она считает, что католицизм – более чистая религия. Вспоминая те дни сейчас, прихожу к выводу, что лучшими нашими с ней минутами были те, когда мы оба умолкали после пикировки. Например, когда лежали на мшистой земле, глядя вверх, и ветви деревьев покачивались на ветру над нами, и ничего нам было не нужно, только этот ветер, этот вид и легкое касание рук.
Darmowy fragment się skończył.