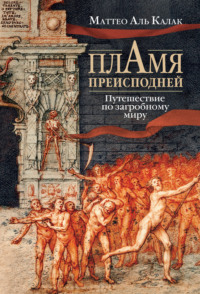Czytaj książkę: «Пламя преисподней. Путешествие по загробному миру», strona 2
I. В начале
1. Война на небесах
«Знамена веют царские», – писал в VI веке Венанций Фортунат. Прославляя реликвию креста, к которому был пригвожден Христос, поэт превозносил высочайшую и неразгаданную царственность, в которой слава Иисуса, приговоренного к смерти, проявилась на лобном месте, где он был распят. Однако этот инструмент спасения мог бы изменить свой знак и, как демонстрирует нам «Комедия» Данте, превратиться в знамя другого господина. В глубинах земли действительно были подняты знамена темного и устрашающего царя, который осуществляет свою власть над тем, что зовется адом, и, по слухам, никому не удавалось выйти и вернуться из его глубин [1].
Кем был этот повелитель? Почему его история была связана с сотворением преисподней? И что он делал в глубинах земли? Именно от этих вопросов, которые ведут к истокам христианства и его связям с иудаизмом и средиземноморскими религиями, необходимо оттолкнуться, чтобы понять основы, на которых было выстроено толкование преисподней между Средними веками и Новым временем. Она была основана на очень древнем фундаменте, который устоялся в веках и навсегда вошел в изобразительный мир Запада.
Главным образом эта история вошла в Писание, дав жизнь невероятно ярким страницам. Кажется, одна из них наиболее полно отразила повествование о зле и тех потрясениях, которые оно произвело, – 12 глава Апокалипсиса [2]. Святой автор рассказывает о видении «великого знамения», появившегося на небе: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, кричит от болей и мук рождения. Внезапно на горизонте возникает красный дракон с семью головами и десятью рогами, который повергает на землю треть небесного свода. Дракон и женщина противостоят друг другу: чудовище пытается пожрать только что рожденного младенца мужеского пола. Однако младенец, которому пророчат судьбу мессии, был восхищен к престолу Божьему, в то время как жена убежала в пустыню. Таким образом началась битва, великое сражение, в котором архангел Михаил и его воинство противостоят дракону и его последователям. Защитники младенца одержали вверх, и дракон – «древний змий, называемый диаволом и Сатаною, обольщающий всю вселенную» – низвержен на землю. Небеса оглашаются радостной песнью в честь победы добра. В ярости дракон пытается отомстить, преследуя женщину, которая тем не менее спасается благодаря защите Бога и земли. Змей напал на детей женщины, то есть, как мы понимаем, на учеников Иисуса.
Рассказ прерывается до тех пор, пока через восемь глав «змий древний, который есть диавол и Сатана» не возвращается на сцену: ангел (имя не уточняется) сковал монстра цепью в бездне на тысячу лет, после чего он будет освобожден для последней битвы [3]. По завершении битвы его поражение окончательно, и злобное существо стремительно ввергнуто в «озеро огненное и серное», где его ожидают вечные муки.
Уже по этим нескольким признакам очевидно, что смысл эпизода нужно искать не в объяснении происхождения преисподней или власти демонов, а в общих рамках последней книги Библии, которая своим оригинальным языком вновь предлагает нам историю Иисуса и человечества в разгар больших преследований первых христианских общин. По крайней мере, именно это толкование поддерживали многие отцы. Для Цезария Арелатского (ок. 470–543) война на небе была внутренним конфликтом в Церкви: «В Михаиле нужно видеть Христа, в его ангелах – святых. «И дракон, и ангелы его воевали», иными словами дьявол и люди, подчиняющиеся его воле» [4]. То же самое утверждает Беда (ок. 673–735), рассуждая, что «небо указывает на Церковь, в которой Иоанн [автор Апокалипсиса] говорит, как Михаил со своими ангелами борется против дьявола» [5].
Тем не менее можно догадаться, почему видение битвы между Михаилом и апокалиптическим чудовищем трактуется авторами следующих эпох как космогония, относящаяся к истории спасения и вместе с тем проклятия [6]. Есть три элемента, по-разному переработанные, которые способствуют этому прочтению: отвага Михаила, своего рода альтер-эго змея, содействующего победе добра; дракон – древний змей, Сатана, в котором слились воедино искуситель, введший во грех, из книги Бытия, и персонаж из иудео-вавилонских мифов; и на третьем месте падение апокалиптического чудовища и его наказание в огненном озере, тесно связанное с глубинами земли.
Прежде всего нужно обратить внимание на Михаила. Защитник врат рая и небесный герой, архангел обладает древней историей и в западном мире ставит под вопрос те изменения, которые христианство пережило во время своего перехода от греко-латинской культуры до культуры выходцев с Севера после падения Римской империи. В Писании он появляется пять раз, фактически всегда в связи с небесным войском: Михаил возглавляет его, и этимология его имени (Ми-ка-Эль: «кто подобен Богу?») подтверждает превосходство Бога над своими врагами. Его культ был широко распространен на византийском востоке и вскоре вызвал широкое одобрение среди лангобардов и франков. Михаилу посвящали гроты, бывшие прорицалища языческих оракулов, базилики и места, где проводились архаические ритуалы, как, например, знаменитое святилище Гаргано, а также высоты и горы, когда-то принадлежащие богу Меркурию. Михаил для большинства тех, кто его почитал, играл роль защитника, каким он был для древнего Израиля [7]. Подобные обязанности слишком ясно отражали его роль борца против зла, послушного Богу, сражающегося за Его превосходство во вселенной.
В отрывке из Апокалипсиса ему поручают ответить на мятежный план дракона, второго действующего лица, которое нам встречается. Согласно тексту, он и есть дьявол. В действительности было установлено, как за описанием войны на небесах скрывается изображение фигуры Сатаны, выработанное за эволюцию от позднего иудаизма к началу христианской религии. Истоки христианского демона и его изгнание с небес можно найти в апокалиптической апокрифической литературе [8]. Первым таким упоминанием была ссылка на фигуру патриарха Еноха, на которую повлияли мифы культуры Месопотамии. Между 210 и 60 гг. до н. э. подобные письменные источники обращаются ко времени зарождения зла, рассказывая о мятеже ангелов под предводительством Семиаза. Среди восставших были Азазель, Белиал, Мастем, Сатанаэль и Саммаэль, которые, совокупляясь с женщинами, породили великанов. Чтобы наказать их, Бог поручил четырем хорошим ангелам, включая Михаила, изгнать их потомство в бездну. Согласно другим текстам, таким как Книга Юбилеев (135–105 гг. до н. э.), мятеж был под предводительством Мастема (имя нарицательное, образованное от корня stm – «ненавидеть», аналогично stn – «противостоять, препятствовать, обвинять» – от чего произошло «Сатана»): Мастема-Сатана – это искуситель. Некоторые апокрифы этой же эпохи сопоставляют Сатану со змеем из Книги Бытия: злобное существо поручает змею стать носителем его воли и ввести человечество в заблуждение. Ненависть к жителям земли родилась из отсутствия у дьявола почтения к созданиям Божиим, таким образом, Михаил должен был изгнать его из рая. Многие из этих положений затем проникли в культуру ессеев, которые, как известно, поддерживали обширные контакты с той средой, в которой жил Иисус.
При наличии этих предпосылок неудивительно, что со Средних веков бунт змея-дьявола из Апокалипсиса связывают с зарождением преисподней. Мятежник был сброшен на землю подальше от небес, и идея падения была принята единогласно с первых веков христианства. Такие отцы, как Григорий Великий (ок. 540–604), основываясь на средневековой демонологии, утверждают, что дьявол был низвергнут на заре мира, когда человек еще не был сотворен [9]. Такой исход предполагал, что где-то есть место, куда он приземлился, в то время как в первое тысячелетие христианства происходили некоторые расхождения относительно того, где находится место заточения Люцифера и его демонов: на земле, под землей или в воздухе рядом с земной поверхностью. Постепенно для Сатаны и его последователей стали выбирать преимущественно подземное пространство.
В позднее Средневековье образ, кажется, уже был определен в основных своих чертах, как нам показывает впечатляющая панель, изготовленная в среде сиенской школы так называемым Мастером падения мятежных ангелов (ок. 1340). Под Божественным троном, поддерживаемым серафимами, виднеются скамьи эмпирея: справа от Отца сидят хорошие ангелы, слева никого нет, потому что мятежные ангелы были сброшены. Орава ужасных демонов бросается к земной коре в ожесточенной битве с войском Михаила; на пустынной и еще не населенной планете открываются заметные трещины, в которые ныряют демоны, обнаруживая предназначенные им убежища [10].
Даже не принимая во внимание упомянутую картину или многие другие примеры, на которые можно было бы сослаться, земля и ее окрестности (воздушные и подземные) стали, по общему мнению, царством лукавого, и пытки, которым он подвергается, реальны и ощутимы (в особенности пытки огнем). В таком толковании апокалиптических страниц составные части преисподней уже готовы, даже если образ этого места и его точная связь с Сатаной потребовали еще несколько веков оформления и присоединения к «зрелой» архитектуре, о которой потом пойдет речь.
Подобное изображение породило затем другие вопросы: почему Сатана был сброшен на землю и архангел Михаил по Божьему приказанию должен был изгнать его из небесной славы? Какие причины подтолкнули его взбунтоваться против Господа и объявить Ему войну? И в особенности как же разум Создателя, знающий все, позволил столь серьезное возмущение вселенского порядка? Если появление преисподней отвечало требованию создать равновесие между добром и злом, то наметились серьезные сомнения в персоне того, кто господствовал на сцене, в запутанных связях царства и его властителя.
2. Грех Люцифера
Уверенность, что дьявол утратил благодать и был физически изгнан в место, называемое преисподней (или, по меньшей мере, на землю), воинствами архангела Михаила, сопровождалась в христианской традиции бурными дискуссиями о природе греха Сатаны. Вопрос был отнюдь не второстепенным, поскольку проливал свет на происхождение самого зла и способствовал формированию ада в его материальном измерении. Как будет видно далее, место наказания отражало его происхождение, напоминая наиболее заметные черты через сходство или противопоставление.
Для многих древних отцов, которые частично приняли концепции еврейской мистики, падение Сатаны произошло из-за зависти к людям, так же как мятежные ангелы впали в немилость из-за похоти и желания совокупляться с женщинами. Однако созидательное измерение Сатаны продолжало ставить вопросы об отношениях добра и зла и об ответственности Бога за дела дьявола (свободная? разрешающая? предопределенная?) [11].
Во II веке в том же русле размышлял Ириней Лионский, который подтвердил природу демонов: они – ангелы, созданные Богом, и виновны в богоотступничестве, а именно в бунте против Бога (на него повлияла этимология, предложенная Иустином: Сатана становился бы «змеем-отступником»). Дьявол завидовал Господу и хотел, чтобы его так же обожали; таким же образом он завидовал человеку, сделанному по подобию Бога, попечителя мироздания. Сложные представления Иринея ставили множество вопросов к хронологии и совпадения с библейской историей (человек в действительности должен был уже существовать ко времени грехопадения Сатаны, или последний, по крайней мере, должен был знать о планах Бога), тем не менее они ясно показывали ограниченность власти дьявола над человеком (существующей, но никогда не преобладающей) и подтверждали подчинение первого Божественной власти вопреки любым дуалистическим отклонениям [12].
С IV века стали широко толковать вину Сатаны как акт гордыни, совершенный до создания человечества (затем это стало преобладающим представлением). В частности, святой Иероним подкрепляет это прочтение (высокомерие дьявола было вызвано его величием) и, как можно увидеть из приведенного ниже отрывка, выводит его из отрывка Апокалипсиса, описанного в начале [13]:
Дьявол, который был могущественный и упал, не умер. В действительности ангелы не могут принять смерть, а только падение <…> Прочтите Апокалипсис Иоанна: когда дракон упал с небес, то захватил с собой треть звезд.
С различиями, иногда незначительными, средневековые писатели приняли эту традицию, в частности, изображение демона как ангела, изгнанного за собственное высокомерие. Наиболее значимые моменты представлены в трактате Ансельма Кентерберийского «О падении дьявола» (De casu diaboli) [14]. По мнению богослова (1033/34–1109), дьявол отказался признать превосходство божественной воли, считая свою более важной. Будучи неспособным предвидеть собственное падение, он все-таки ясно понимал, что не должен пестовать желание бунта, и в то же время знал, что подобное поведение заслуживает наказания. Сатана заслужил падение, потому что не хотел участвовать в Божьей справедливости и правосудии: Бог создал его добрым и устойчивым, но гордыня его погубила. Ансельм резюмирует эти концепции, используя технику диалога между учеником и учителем.
УЧЕНИК. Ясно вижу, что дьявол согрешил, когда хотел того, чего не должен был, и когда не хотел того, что был должен. Ясно, что он хотел больше, чем должен был, не потому, что не хотел поддержать справедливость, но не поддержал справедливость именно потому, что хотел другое, и тем самым отказался от справедливости <…>
УЧИТЕЛЬ. Но когда он хотел того, чего не хотел Бог, он хотел, нарушив порядок, уподобиться Богу [15].
Важность трактата Ансельма состояла не столько в его рассуждениях о Сатане и его вине, сколько в попытке преодолеть дилеммы о предопределенности, которые тянулись с первых веков христианства: как уже говорилось по этому поводу, для грехопадения Люцифера не нужно искать предопределенную причину или «искать причину для выбора свободной воли» [16]. Если дьявол был свободен и решил согрешить против Господа, питая свою гордыню, выходило, что и Христос мог добровольно принести себя в жертву Отцу, чтобы искупить человечество. Перед лицом подобного утверждения о свободе созданий и самого Иисуса (что снизило эффект представления, что все предопределено Богом) дьявол стал играть вспомогательную роль, не столь необходимую для оправдания грехопадения человечества и его искупления [17].
Схоластика следовала дальше в этом направлении, продолжая отождествлять грех Сатаны с высокомерием. Даже Фома Аквинский не слишком отклонился от показанных тезисов [18]. Его доктрина о зле рассматривает это состояние как утрату добра, но не как абсолютную реальность. В то время как причины греха для людей можно было найти в свободе воли, для ангелов они лежали в сверхъестественной плоскости, что отличало их от людей. Если говорить конкретнее, Бог предложил дьяволу неземную благодать, которая сделала бы его полностью счастливым, но тот отказался. Аквинат считал, что Сатана хотел быть подобным Богу, а именно решил быть свободным, чтобы распоряжаться собственным спасением, независимо от сверхъестественного дара, предложенного Господом. Следовательно, он не желал стать равным Богу, потому что знал, что невозможно стать таким, как Он, возвысив свою природу, наоборот, он желал уподобиться Ему; не по божественному разрешению, но по собственному прямому действию (propria virtute et non virtute Dei). Даже Фома считал, что Сатана согрешил из гордыни, и такое мнение разделяли многие авторы (Кассиан, Григорий Великий, Руперт из Дёйца). Битва, описанная в 12 главе Апокалипсиса, воспроизводит то, что случилось сразу после создания ангелов, когда дьявол и его приспешники противостояли Михаилу. Поскольку небесные существа в отличие от людей обладают всеобъемлющим полным интуитивным пониманием событий, они не могут отказаться от сделанного выбора в пользу Бога или против Него; поэтому Сатана заслужил вечное наказание, и все злобные создания, его последователи, по сути являются его частями (перевернутое изображение мистического тела Христа): «дьявол – глава всех злых сил, в той степени, в какой они ему подражают», – говорит «Сумма теологии» (Summa theologiae) [19]. После падения демоны жили в преисподней, где мучили проклятых, но, поскольку Бог хотел их использовать, некоторым было разрешено действовать в темном надземном мире.
Таким образом, с конца XIII века преисподняя и дьявол достигли своей зрелости, приобретя тот вид, который, как мы увидим, будет сопровождать многих христиан вплоть до XX века. Как и в других сферах, наработки схоластов сыграли решающую роль и от иудейских традиций, проникнувших в Новый Завет, перешли к подробной кодификации преисподней, греха, который ее создал, и их повелителя.
Однако только три века спустя для преисподней и теологической архитектуры, в которую она была встроена, возникла новая проблема: в XVI веке западное христианство столкнулось с беспрецедентным расколом, который безвозвратно отделил католиков, верных папе, от протестантского мира. Значительная часть тех, кто отдалился от Рима, соглашалась с существованием ада с признаками, не отличающимися от выработанных в Средние века: у Лютера, Меланхтона, Цвингли и Кальвина не было сомнений в наличии места, предназначенного для грешников, хотя в некоторых наиболее радикальных протестантских группах (например, анабаптисты) распространились доктрины, ставящие под сомнение существование места вечного наказания. Зато общая структура загробного мира подверглась значительным изменениям с отменой чистилища (ада «на время»), и посмертная судьба человека оказалась резко поляризована между спасением и проклятием [20]. У нас нет возможности остановиться на концепциях реформаторов и их взглядах относительно действий дьявола в жизни человека, но эти изменения неизбежно отразились на католической стороне. Для теологов и проповедников, послушных римской иерархии, преисподняя и рассказ о ее создании как результате столкновения добра и зла оставались определяющими элементами, так же как внутренний порядок строго трехчастной схемы (место блаженства – рай, место/места вечного проклятия – преисподняя, место временного очищения – чистилище).
Наиболее авторитетная и во многих аспектах наиболее полная относительно этого вопроса трактовка, написанная сразу же после Тридентского собора, представлена иезуитом Франсиско Суаресом (1548–1617). Ему принадлежит составление трактата «Об ангелах» (De angelis), в котором дотошно описан портрет Люцифера как мятежного ангела, его проклятие и полчища его последователей. Целые две книги, седьмая и восьмая, сосредотачиваются на злых ангелах, их падении и их неистовом противостоянии Богу и его верным [21]. Испанский богослов прежде всего пытался прояснить множество легендарных и фантастических аспектов, которые окружают битву, случившуюся в глубине веков: присутствие плохих ангелов соответствовало христианской вере, но никогда не существовало земных ангелов, от которых родились великаны. Ересью было полагать, что ангелы злы по природе: на самом деле их грех произошел от добровольного действия, выразившегося в гордыне, понимаемой как безграничная любовь к себе и своему совершенству. Поскольку вина Сатаны была не просто желанием, а стремилась к полному его исполнению, она не могла совпадать с целью стать равным Богу – желание, которое само по себе совершенно невыполнимо. По мнению Суареса, который следовал некоторым современным ему богословским гипотезам, Люцифер жаждал единосущного слияния Слова Божия со своей ангельской природой, допуская тем самым, что Бог сам открыл ангелам тайну воплощения Иисуса. Поэтому Сатана не хотел становиться таким, как Бог, но скорее стремился соединиться своей природой с Божественной и приобрести таким образом превосходство (в этом корень греха гордыни). С точки зрения иезуита, было совершенно невозможно, чтобы Сатана верил в возможность освободиться от Бога, поскольку знал, что его тварная природа ставит его намного ниже своего создателя. Уже упав, Люцифер стал вместилищем многих других грехов, которыми возрастало зло: высокомерие, честолюбие, тщеславие, зависть ко Христу, гнев против сына Божия и т. д. Прежде чем погубить себя и быть низвергнутым, Сатана был серафимом, то есть принадлежал к высшему рангу ангелов, хотя и не был высшим среди них (так что Михаил может считать себя равным ему). Люцифер подтолкнул многих ангелов идти по его следам – их грех состоит в том, что они полагали, будто мятежнику надлежит по праву единосущное слияние со Словом Божиим. Хотя грех Сатаны предшествовал греху его последователей, низвергнуты были все вместе. Их неповиновение, хотя и близкое по времени, могло совершиться сразу после их сотворения: возможно, прямо в первый день в то время, как Бог создавал небо и землю, Сатана и его ангелы были изгнаны. Никто из них не покаялся за то время, что им было отпущено для осознания своих ошибок, поэтому они были осуждены на вечное проклятие.
Текст Суареса, который вскоре стал образцовым, отразил и частично пересмотрел концепции, выработанные в предыдущие эпохи, внеся их в рамки нового языка тридентского католицизма. Различные элементы выражали преемственность с традициями Средних веков и схоластики: Люцифер был создан свободным и согрешил после своего создания (неразрешимыми остались споры о промежутке времени между созданием и падением); ангелы, которые последовали за ним, стали демонами и были низвергнуты. Грехом Сатаны была гордыня: в концепции Фомы он отказался подчиняться Богу и захотел уподобиться ему, используя собственную добродетель; для Суареса грех состоял в желании единосущного слияния со Словом Божиим. По мнению Аквината, Люцифер был величайшим среди ангелов; по мнению Суареса, наоборот, он был одним из серафимов; в обоих случаях он оказался способным убедить других ангелов последовать за ним, хотя их было значительно меньше, чем оставшихся верными Богу.
От их падения родилась преисподняя, подземное место, где мятежники продолжают свое существование. Хотя некоторые демоны остались над землей, чтобы искушать людей вплоть до Страшного суда, Люцифер, закованный в цепи, ожидает в своем царстве того дня, когда в конце истории он бросится в последнюю атаку: Суарес комментирует, ссылаясь на текст Апокалипсиса, что, возможно, он был заперт и запечатан в подземном пространстве, и ему не позволят выйти до времени испытаний, вызванных Антихристом [22].
Долгие дискуссии о зарождении преисподней, равно как и реальные и точные объяснения ее существования, стали частью тридентского католицизма наряду с четко определенной личностью мятежника. На следующих страницах мы попытаемся проанализировать, как богословские рассуждения проникли в коллективное воображение Нового времени (и, в свою очередь, сами оказались под его влиянием), в особенности через литературу и художественные произведения: на самом деле иконографические и повествовательные труды гораздо больше, чем рассуждения богословов, повлияли на народные представления и утвердили идею материального ада, возникшего в глубине веков после сражения между противоборствующими силами, персонифицированными и действующими в мире.
Darmowy fragment się skończył.