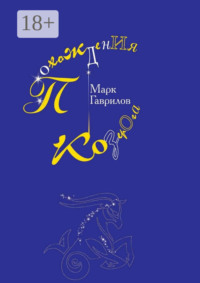Czytaj książkę: «Похождения Козерога»
© Марк Гаврилов, 2016
© Анна Владимировна Пылаева, дизайн обложки, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Словари и энциклопедии на все лады расхваливают и охаивают характеры тех, кто родился под знаком зодиака Козерог. Если им верить, то портрет мой, в «козероговском» ракурсе, может получиться, прямо скажем, неприглядным. И скареден, и подавляет окружающих, и непомерно тщеславен, и, вообще, по натуре – диктатор. Но эти записки не столько о себе, любимом, а главным образом о тех, кто повстречался мне на жизненном пути, длиною в 80 лет. А каков получился я – судить не мне.
Как заманчиво и страшно начинать рассказ о себе, о своей жизни среди других людей. Но рано или поздно, к этому нужно приступить. Приступаю.
В новогоднюю ночь пограничник Иван Гаврилов нес на руках с заставы через заснеженное поле нас двоих – жену Аню и меня – сына. Впрочем, явился я на свет белый позже, в 6 часов утра 1-го января 1936 года. И был младенец, надо полагать, под хмельком, ибо молодая мамаша на новогоднем балу на погранзаставе пригубила шампанского.
Теперь, видимо, нужно пояснить, как сложилась эта, не совсем обычная для того времени, пара. Он: Ванька-сорванец, в недавнем прошлом гроза московской Марьиной Рощи, а ныне большевик-пограничник, русопет. Она – Хана, единственная дочь-красавица из большого патриархального еврейского семейства, обитающего в приграничном местечке белорусского городка Койданово. Хана, ставшая Анной, выйдя за русского Ивана.
Гроза Марьиной рощи в роли Ленского
Иван с детства слыл отчаянным, безрассудным огольцом. Ещё в сопливом возрасте, на спор, полез на высоченное дерево, сорвался, весь ободрался, и самое главное, сучком распорол кончик носа напополам. В таком виде он убоялся появиться на глаза родителей, уверен был – выпорют. А насилия над собой он не терпел. Однажды его, совсем кроху, за какую-то провинность поставили в угол, так он сбежал из дома. Еле нашли на краю Москвы.
Видно, от наследственности никуда не денешься: я, его сын, тоже в детстве от обиды на мать (назвала вруном, когда я говорил правду) сбежал из дома. Затем такой же побег (я шлёпнул его за воровские штучки) совершил мой младший братишка – Валерка.
Итак, Ванька с разорванным носом спрятался у любимой бабки-татарки. Та была ворожея и знахарка. Обвязала несчастный нос какими-то травками, а на шею повесила ожерелье из головок чеснока, и велела не снимать, пока рана не затянется. Ваня носил это ожерелье долго-долго, видно, понравился ему сей лекарский талисман, а родителям бабка запретила его снимать. Травма не изуродовала симпатичного лица, но отметинка на носу осталась на всю жизнь, если приглядеться, то можно ехидно сказать, что Иван стал чуточку смахивать на муравьеда. Роста он был небольшого, но весь подобранный, прямо-таки изящный. Не было той драки в округе, в которой не участвовал Ванька Гаврилов. Но – сила есть, ума не надо – это не про него, умён был не по летам. Вообще, природа не поскупилась, талантами его не обделила. Был он непревзойдённый боец «на кулачках», отменно рисовал, обладал прекрасным голосом и абсолютным слухом, пел замечательно. Подростком устроился в московский рыбный порт грузчиком. Я, по наивности, как-то обронил при отце фразу о нашем пролетарском происхождении, мол, «мои предки не стеснялись ходить в драных, рабочих робах и стоптанных башмаках». На что мой батя, усмехнувшись, отреагировал совершенно неожиданно:
– Я был грузчиком, а не оборванцем. В рабочей одежде, хоть и вполне приличной, мы на людях не появлялись. После погрузки-выгрузки принимали душ. На улицу выходили в костюмахтройках, некоторые, и я в их числе, ещё и с тросточками. Мы очень модничали тогда, ведь зарабатывали грузчики весьма основательно. Нас считали рабочей аристократией.
Буйный, заводной характер давал себя знать. Особенно Иван любил показывать свою недюжинную силу и делать, благодаря ей, что-нибудь на спор. Так, однажды, взвалил себе на плечи мешок с сахаром (6 пудов), а поверх него пригласил залезть спорщика-оппонента, и с таким вот грузом отмерил сто шагов.
Очередной спор определил его собственную судьбу. Фланировали они как-то всей бригадой после смены по Москве. Проходили мимо Консерватории. И тут один из коллег- грузчиков возьми и брякни:
– Ванька, вон объявление висит: завтра начинается приём в Консерваторию. Слабо туда поступить?
А надо сказать, что Ваня уже слыл в своей среде артистом, он вместе с коллективом самодеятельности объездил всё Подмосковье, бывал даже и в других губерниях. Пользовался, как певец, большим успехом, особенно у женской части аудитории. Иван завёлся:
– Спорим, поступлю!
Ударили по рукам. На дюжину пива. И вот, он со своим дружком, самодеятельным композитором отправился завоёвывать Консерваторию. Вообще, отец, на моей памяти, был не словоохотлив и не любил рассказывать о прошлых своих похождениях. Но этот эпизод вспоминал не раз, и не без удовольствия, хотя и со свойственной ему самоиронией.
– Пришли мы с моим приятелем Витькой в Консерваторию, там полно народу и в зале, и в коридорах. Экзаменуют по вокалу. Вызывают по одному на сцену и под аккомпанемент фортепьяно претенденты поют арии классического репертуара. Там же, за длинным столом сидят члены приёмной комиссии, посерёдке клюёт носом старичок-профессор, председатель этой комиссии. Видно, осточертели ему эти горлопаны. В сон его клонит. Всё происходит довольно быстро, иному и пары фраз не дают спеть: «Спасибо. Будьте здоровы. Вам сообщат». Наконец, вызывают меня. «Что будете петь?» Отвечаю: «Махараджу». А это песенка того самого приятеля- композитора Витьки, она давала необычайную возможность показать и диапазон голоса, и умение им владеть. В комиссии немножко удивились, но разрешили петь, и даже аккомпанировать – автору песенки.
Стал я исполнять этого «Махараджу», а там такие высокие ноты получаются, что дух захватывает. Гляжу, старичок- профессор проснулся и во все глаза на меня глядит. Я закончил, а он: «Погодите, молодой человек! А «Махараджа» ваш ничего себе. Только позвольте вас ещё послушать…». Вылез из-за стола, турнул моего дружка-композитора из-за фортепьяно, сел сам и, давай, меня гонять по гаммам. Чую: загоняет в такие верха, какие мне брать и не приходилось. Раз я дал «петуха». Он снова погнал вверх. Ещё «петух»…Такого позора у меня никогда не приключалось. А старичок-профессор, мне на удивление, радрадёшенек, ручки потирает – «Благодарю вас, молодой человек», – говорит, вроде удовлетворился тем, что до провала довёл. Так мы и покинули экзамен.
Я признал поражение: мол, провалил вредный профессор. Зато пиво, за счёт проигравшего, весело распили всей бригадой. Потом я отправился в длинную гастрольную поездку. И, можно сказать, полностью компенсировал неудачу в Консерватории успехом у зрителей глубинки. Вернулся поздней осенью, а сёстры суют мне телеграмму – из Консерватории: «В случае непосещения занятий будете отчислены». Приняли меня на вокальное отделение, оказывается. А профессор, я к нему на курс и попал, говорил что ему стало любопытно, насколько далеко простирается мой весьма высокий голос.

Иван Гаврилов – студент Московской Консерватории.
И всё складывалось у студента Консерватории Вани Гаврилова просто замечательно. На первой же практике стажировался, всего-навсего, в Большом театре – пел партию Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин».
Когда чествовали вернувшегося на родину Максима Горького, в театре Железнодорожного транспорта (ныне им. Гоголя), студент Гаврилов солировал в хоре. Великий пролетарский писатель пришёл за кулисы и, в умилении, окропил слезами радости плечо солиста Вани. «Долго мы не стирали ту рубашку со слезами «буревестника революции», – с усмешкой говорил отец. Но артистическая карьера его не сложилась. В ту пору по высшим учебным заведениям бродили вербовщики-агитаторы, призывавшие парней служить в рядах славной Красной Армии.
Не знаю, какие неурядицы выпали на долю успешного молодого человека: то ли забурился по пьянке (а он раненько начал прикладываться к «злодейке с наклейкой»), то ли малопорядочная история с какой-нибудь девицей вышла (до прекрасного пола он был тоже охоч). Но учёбу в Консерватории он внезапно прервал и пошёл служить в погранвойска – на заставе польско-советской границы, где очень скоро выбился на должность оперативного работника, ибо ловок был, силён, а уж и хитрованец – необычайный. Приведу один эпизод из его пограничных приключений.
Начальнику заставы, другу и собутыльнику моего будущего отца, подбросили анонимку. В ней говорилось, что Иван Гаврилов завербован и служит польской контрразведке – дефензиве. Скорее всего, кому-то очень мешал он, и его, по обыкновению тех лет, анонимный стукач решил скомпрометировать и убрать со своей дороги.
– Ваня, – призвал его начальник заставы, – а ведь мне придётся отправить эту бумажонку гэпэушникам, иначе меня самого за недоносительство под это «самое не могу» прихватят.
– Сутки дашь? – спросил Иван, – И я приведу к тебе такого свидетеля, который этот поклёп отметёт, и все подозрения, и опасения, и надобность отправления в ГПУ отпадут.
Друг и собутыльник дал ему сутки.
В тот же день оперуполномоченный погранзаставы Иван Гаврилов перешёл границу и вскоре стоял в кабинете самого начальника местной дефензивы.
– Пан начальник, думаю, меня знает… Терять мне нечего, поэтому стрелять буду без предупреждения. Делайте то, что скажу.
Он взял под руку польского офицера, сунув ему в карман шинели руку с наганом с взведённым курком. Так, в полуобнимку, они прошли все посты – кто ж посмеет остановить самого господина начальника страшной дефензивы! Ведь эта организация, кроме контрразведки, выполняла еще роль политической полиции. А к вечеру ошарашенный и несколько растерянный пан свидетельствовал перед начальником советской погранзаставы, что Иван Гаврилов никогда не сотрудничал с польской разведкой, а наоборот – доставлял им одни неприятности, постоянно выявляя их агентуру. Подмётное письмо – дело рук его агента.
Иван был очищен от навета, пан начальник вернулся за кордон, но уже… в качестве завербованного советским оперативником. Надо ли уточнять, чьим агентом он стал?
Вот каков был мой будущий папаша, когда он повстречался с моей будущей мамашей.
А она на тот момент носила имя Ханы, и была принята буфетчицей погранзаставы. Я отметил, что они стали необычной для того, советского времени парой – но это слишком мягко сказано.
Представьте захолустный белорусский городок Койданово, получивший своё название от того, что здесь, по легенде, много веков назад было остановлено нашествие татаро-монгольских полчищ, их войско разбито, а предводитель, хан Койдан – убит, и тут же похоронен. По сему, якобы, крепость Крутогорье и была переименована в Койданово. По другой версии, более реалистичной, городок получил название от того, что славился кузнецами – а по-белорусски койдан – это кузнец. Во всяком случае, ко дню моего появления на свет божий большевики круто разрешили затянувшийся историко-архивный спор, присвоив 700- летнему городку новое имя: Дзержинск. Железный Феликс, видите ли, родился сравнительно недалеко от этих мест. Но нравы в переименованном городке, надо полагать, остались патриархальными. И для всех здешних обитателей, будь-то лояльных к советской власти белорусов, или втихомолку недолюбливающих её евреев, женитьба русского Ивана на еврейке Хане стала вызовом. Даже если отбросить в сторону этнические и политические соображения и предрассудки, то разве можно расценивать этот брак нормальным явлением? Ведь Ваня, при всех его достоинствах и недостатках, по мнению койдановодзержинского общества, срубил дерево не по себе: уважаемый коммунист-большевик-гой взял в жены аидеше-деву, хоть и красавицу, но… мужнюю жену, да ещё и с ребёнком!
Сказать, что мой папаня по молодости не пропускал ни одной юбки – язык не поворачивается. Но то, что он был большим поклонником красивых женщин, это довелось наблюдать и мне, в пору моего детства. Страсти в нашем семействе порою кипели нешуточные. Однажды, из ревности, моя маманя проломила пистолетом голову своему наблудившему муженьку, моему папане. «Зажило, как на собаке», – говаривала она потом мне, ничуть не раскаиваясь в содеянном. Ещё, наверное, не раз придётся говорить о взрывоопасном характере моей любимой мамочки. Но вернемся в далёкий от нас 1935 год.

Хана Гурвич.
Итак, на заставу пришла работать буфетчицей местная жительница по имени Хана. Сразу же вокруг вызывающе красивой молодой женщины зароились мужички. Военный люд незатейлив, мол, раз молодайка улыбается в ответ на незатейливые шуточки, и вообще весьма приветлива и отзывчива, то почему бы не попробовать уволочь её в тёмный уголок?!
«Подкатываться» к смазливой евреечке служивые стали с первой минуты её появления на погранзаставе. Тем более что откуда-то «сорока на хвосте принесла», что муж поколачивает молодую супругу, и ей, вообще, несладко живётся в семействе еврея-богача. Но после того как некоторые особенно настырные ухажёры получили весьма увесистые оплеухи от, казалось бы, вполне доступной буфетчицы, пыл у сладкоежек поубавился. Тут-то и вступил в борьбу за сердце молодой красавицы наш Иван, то бишь, мой будущий отец. По своему обыкновению, опять же на спор заявил:
– Она будет моей!
На что поспорили? Мама, помнится, всегда утверждала:
– Эти гэстрики заложились на ящик шампанского! Папа неизменно поправлял:
– Не на ящик, а на два, но не шампанского, а пива.
Кто из них был правее – бог весть. А что такое «гэстрики» (в устах мамы нечто шкодливое, мелкотравчатое, заслуживающее презрения), то значение словечка этого я нигде не откопал.
В отличие от своих сослуживцев, побывавших в роли неудачливых ухажёров гордой недотроги, он не стал ловить её в тёмном месте, не делал попыток, заигрывая, ущипнуть или потискать, а просто напросто… арестовал молодую красавицу и посадил в избе, приставив вооружённую охрану. Бойцу, чтобы арестованная слышала, громко приказал:
– При попытке к бегству – стрелять.
А шёпотом прибавил:
– Хоть волос с неё упадёт, я тебе башку оторву!
В мгновение ока убийственная новость облетела местечко: Иван, пограничный оперативник, взял мужнюю Ханну в полюбовницы. А тем временем похититель чужой жены прямым ходом явился в дом её мужа.
– Выбирай, – предложил он ошарашенному и перепуганному насмерть мужу, положив для убедительности на стол свой револьвер, – или развод, или в расход?
Надо сказать, Иван тоже знал, что Хане было несладко в этой зажиточной семье. На неё, по сути дела, сразу из-под венца взвалили все домашние заботы. Она стала и поварихой, и прачкой, и уборщицей, и водоносом – по воду ведь приходилось ходить на колодец, с коромыслом. Она ухаживала за скотиной, работала в саду и огороде. Одним словом, превратилась в рабыню, которой, к тому же, помыкали все многочисленные родственники мужа. Ни дать, ни взять – современная Золушка, но не с тем ангельски покорным характером, коим прославилась сказочная героиня, а с нравом свободолюбивым, независимым, непокорным. Она всегда сильно выделялась из среды обычных еврейских девушек, но до поры до времени эти её весьма самобытные черты не очень проявлялись, хотя уже в детстве были моменты, когда она пугала окружающих оригинальностью своих поступков. Но об этом рассказ позже. А пока лишь замечу, что одно правило она сохранила неизменным на всю жизнь: вставала с петухами и ложилась далеко за полночь.
Муж, к удовольствию Ивана, оказался прагматиком: из двух бед он выбрал меньшую – развод.
Командир, как положено по уставу Красной Армии, на письменном прошении своего подчиненного разрешить завести семью, якобы, наложил такую резолюцию: «Дуракам закон не писан». Да ещё пожурил другана:
– Что же это ты, Ваня, жидовочку в жёнки берёшь? Разве русачек да белорусок тебе мало?
Между прочим, слова «жид», «жидовка» в тех местах не носили оскорбительного оттенка, сказывалась близость Польши, где этими словами и называли евреев.
А Иван, вроде бы, ответил, как отрезал:
– Раз дело в национальности, то это просто поправить.
Мама мне что-то туманно растолковывала, будто чекистам в Белоруссии (а отец был оперативником, стало быть, чекистом) запрещалось жениться на местных еврейках. Не думаю, чтобы такое в середине 30-х годов могло идти от официальной партийно-государственной установки. Однако если взглянуть на списки репрессированных в те времена, то в глазах зарябит от иудейских фамилий. Вот и раздумывай: то ли евреи, вырвавшись при советской власти за черту оседлости, сумели ухватиться во всех сферах за рычаги управления хозяйством, и при провалах им доставался первый кнут; то ли это отрыжка застарелого славянского антисемитизма.
Во всяком случае, Иван своё слово сдержал: еврейке Хане Берковне, в одночасье был выправлен новый паспорт, где она именовалась русской гражданкой СССР.
Как это могло произойти при живых родителях евреях: отце – Берке (отчество я запамятовал) и матери – Двойре Калмановне Гурвич? Этого уже никто не поведает. А посему внесём сей нонсенс в разряд удивительных и непонятных гримас прошлого! Итак, Койданово-Дзержинск гудел в пересудах «Бедная девочка!» «Этот бандит и раввина заставит креститься!» На заставе тоже были ошарашены. А «арестованная» сидела с распущенными волосами на полу в избе, отказываясь от пищи. Иван, не мешкая, предложил на выбор: отправляться по этапу в качестве несчастной Ханы, признанной нежелательным элементом в приграничной полосе, либо с новым паспортом, в качестве счастливой Анны, шагать с Иваном Гавриловым в ЗАГС.
Я глубоко убеждён, что все эти драматические события протекали всё же под знаком вспыхнувшей большой, можно сказать, обоюдоострой любви. Иначе, чем объяснить разгар последующих страстей и приступов жгучей ревности, которая временами охватывала мою маму? Да и у отца случались проявления ревности, он, при его природной сдержанности и скрытности, думаю, до конца дней своих продолжал любить свою Хану-Аню.
Пришла, наконец, пора подбить итоги. Нелюбимый муж с перепугу дал согласие на развод, а бракоразводная процедура тогда была минутным делом. Арестантка, сидевшая под вооружённой охраной в избе на полу в слезах и с распущенными волосами, вдруг чудесным образом превратилась хоть и со следами грусти, но радостную невесту. Начальник и политрук заставы дружно, причём, официально признали и одобрили союз двух влюблённых. В довершение всего, бывший муж решил держаться подальше от пугающего его Ивана, и куда-то умотал из городка. Надо ли говорить, что новоявленный жених был в блаженном состоянии?!
Но пересуды, пересуды… Людская молва никак не могла успокоиться по поводу, на взгляд обывателя, явного мезальянса. И тут мне придётся рассказать, какой же была моя мать в детстве и девичестве.
Хана Гурвич – пионерка и хулиганка
Она ведь была не только вызывающе красива, но обладала не по летам мудрой головёнкой, да и характерец был, дай тебе боже! Такой самостоятельный, самодостаточный, такой не признающий догматических норм, опутывающих провинциальное общество, что это просто вызывало испуг у слабонервных. Она с малых лет бросала вызов заскорузлой местечковой морали.
Надо думать, Гурвичи, вообще, выделялись из среды дзержинско-койдановских обывателей, им постоянно перемывали косточки. Задавал тон глава семьи Берка. Когда его призвали в царскую армию, он попал в музвзвод, то ли трубачом, то ли барабанщиком. Какой-то фельдфебель сделал ему замечание за какую-то провинность. А попросту говоря, дал вполне традиционную зуботычину. Но, видно, не учел, что сей жид-музыкант обладал неукротимым норовом и литыми кулаками, готовыми к отпору. До армии мой дед работал на мельнице и таскал играючи многопудовые мешки с мукой. Вот и врезал он обидчику так, что сломал ему челюсть. За такой проступок (увечье нанесённое командиру при исполнении служебных обязанностей) полагался трибунал, каковой, по законам военного времени – шла Первая Мировая война – мог подвести Берла Гурвича под расстрел. Но койдановский здоровяк, к тому же, был неглупым и ловким мужчиной. Он ухитрился дезертировать, и, более того, удрать в Америку!
Вернулся оттуда аж через восемь лет, после Февральской буржуазной революции в России. Свалился, как снег на голову в родную избу, в щеголеватой тройке, в шляпе, в перчатках и с тросточкой. Жена его Дора, придя в себя от радостного изумления, на всякий случай поинтересовалась:
– А где твой багаж, Берка?
–В багажном отделении,, – весело ответил несостоявшийся американец. Позже выяснилось, что, кроме тройки, шляпы, перчаток и тросточки, Берл Гурвич в благословенных Соединённых Штатах Америки ничего, существенного, не нажил.
О его пятерых сыновьях пока можно только заметить, что все они были мощными парнями, с которыми мало кто отваживался связываться. Двое из них, те, что среднего возраста, вроде бы, стали даже чемпионами Белоруссии: один по штанге, другой по классической борьбе. Но драчунами братьев никто не называл, они, скорее, были довольно добродушными здоровяками- увальнями. Вот только один штришок, характеризующий их нрав. Они как-то заметили, что к их сестрёнке Хане повадился приставать какой-то уж очень настырный ухажёр. Знаете таких рукастых воздыхателей: то невзначай погладит плечико девушки, то на ушко ей всяческие скабрёзности начнёт нашёптывать, а то и ущипнёт. Она никак не могла от него отвязаться. Братья взялись поучить нахала хорошим манерам. Подловили у танцплощадки, и принялись… перекидывать этого малого через изгородку. Один бросает, другой ловит и отправляет обратно. Ухажёр орёт благим матом, а Гурвичи приговаривают: «Не таскайся за Ханой, ты ей не нравишься». Таким вот образом отбили у бедняги желание приставать к девчонкам вообще, напрочь. Мне кажется, что свой крутой и независимый характер юная Хана унаследовала от папаши. Но кой чему научилась, глядя на подобные подвиги лихих своих братьев.

Пионерка и хулиганка
Во всяком случае, следующий эпизод из школьной её жизни рисует образ не пай-девочки, привычной для патриархальной еврейской семьи, а, прямо скажем, скорее, оторвы-шкодницы. Был у них в классе парень, переросток, закоренелый второгодник. Балбес балбесом, но невероятно прожорливый. Завтрака, которым снабжали его для школы родители, ему, явно, не хватало, Так он приноровился отнимать завтраки у одноклассников. С мальчишками связываться было не с руки, он взял за правило обчищать девчонок. Как назло, у Ханы с подружкой, по его мнению, бутерброды получались самыми вкусными. Их-то обжора и облюбовал.
Братьев Хана не захотела призывать на помощь, решила обойтись собственными силами. В одно прекрасное утро грабитель, по обыкновению, отнял у наших девчонок бутерброды, и принялся их уписывать. Правда, на этот раз вкус поживы показался балбесу странноватым.
– С чем это у вас бутерброды? – недовольно спросил он.
– Ешь, ешь! – давясь от хохота, закричали подружки. – Они с нашим говном!
Несчастного парня выворачивало наизнанку. Завтраки отнимать он зарёкся, более того, родители вынуждены были перевести его в другое учебное заведение, ибо не только одноклассники, но и ребята из других классов этой школы, как только он появлялся, начинали дразнить «говноедом» или ехидно спрашивали: вкусно ли он позавтракал бутербродами
Ханы Гурвич? А иные издевательски предлагали: «Сейчас иду в уборную, тебе оттуда принести чего-нибудь вкусненького?!». Дети ведь бывают злыми и мстительными, особенно к тем, кто их когда-то обидел.
Когда в Койданово окончательно пришла революция, а это случилось в 1920 году, многие жители отнеслись к представителям советской власти, если не враждебно, то насторожённо. А наша Хана сразу же вступила в пионеры, повязала красный галстук, и гордо дефилировала со своей закадычной подружкой по улицам родного местечка. Это вызывало брюзжание стариков и обывательские пересуды: «Как это у Берла и Двойры выросла такая большевичка?!». Но никто её пальцем не тронул – побаивались братьев.
Об «окаянных» (по Бунину) днях, установления Советской власти в этом беларусско-польско-еврейском местечке, мне както, в пору моего студенчества, поведал двоюродный дед Яков Коган. Это был замечательный человек. Он женился на Сарубейле, родной сестре моей бабушки Двойры Калмановны. Об этом семействе Коганов обещаю отдельный рассказ, там что ни фигура, то оригинальнейший тип. А пока скажу только о главе: во всю свою московскую бытность (а это, начиная с 30-х годов) он выписывал газету «Правда». Поутру, раскрывая её, он приговаривал: «Посмотрим, посмотрим, что же там пишут сегодня эти большевики…».
Мне он сказал так:
– Что ты знаешь об революции? У нас в Койданово её делали мы, втроём: твой дед Берка, босяк Шмуль и я. Берка таскал мешки на мельнице, а захотел стать её хозяином, чтобы мешки для него таскали другие. Шмуль был оборванцем, ночевал на вокзале, и поэтому мечтал быть владельцем железнодорожной станции, чтобы оттуда его не выгоняли. А я просто желал нравиться девушкам. Мы взяли в руки красный флаг, ходили по главной улице, размахивали флагом, и кричали: «Да здравствует революция! Долой буржуев!». И вот результат: мельник удрал в Польшу, и Берка стал таскать мешки с мукой на государственной мельнице, Шмуль продолжал ночевать на вокзале, которым теперь командовал комиссар, откуда его по-прежнему гнали. А девушки на меня таки стали обращать внимание. Показывали своими пальчиками в мою сторону и со смехом кричали: «Глядите люди, вот идёт Яшка-мишугене с красным флажком». А мишугене – это сумасшедший или попросту – дурак…
Как там было на самом деле – Бог весть! Однако, так или иначе, но власть рабочих и крестьян пустила корни в этом приграничном городке, объявленном на короткое время Койдановским национальным районом БССР. В 1932 году ему дали имя – Дзержинск, в честь Железного Феликса, родившегося в нескольких десятках километров отсюда.
Так бы и росла, и развивалась красивая, смышлёная девочка, и – не известно, на какие высоты вывела бы её судьба, раскрывшая перед ней все дороги, если бы не жуткая беда, обрушившаяся на неё. А как иначе назвать то, что ей пришлось пережить, и о чём с горечью поведала она мне на склоне своих лет? Одним словом, случилось невероятное: её изнасиловали, и этим насильником был один из её братьев.
Надо сказать, что в ту пору 16-летняя Хана считалась завидной невестой, хотя за ней не числилось солидного приданого. Уж очень она была хороша! И родители, чтобы прикрыть грех, не стали противиться чуть ли не первым сватам, засланным зажиточным семейством. Но, богатство счастья не принесло. Как я уже говорил, на юную жену свалились все заботы о многочисленных домочадцах и о большом хозяйстве. А муж, как бы дополняя безрадостное рабское положение бесприданницы, частенько поколачивал Хану, вымещая на ней злобу за то, что она до замужества не сумела сохранить девичью честь.
Вот почему демонстративный и фиктивный по своей сути «арест», которому подверг Иван Гаврилов, явился для неё неожиданным высвобождением и от домашней каторги, и от нелюбимого супруга с его родичами. К тому же, что уж тут говорить, отчаянно смелой и свободолюбивой молодой женщине, пришёлся по сердцу этот Иван. Он был дерзким, но обходительным, внушал окружающим – кому страх, а кому уважение. И ко всему, был авторитетным, обаятельным, красивым, наконец, – как тут не влюбиться?! Одним словом, Иван и Хана очень даже подошли друг другу. Так что я, считайте, родился от любви, и всю жизнь ощущал на себе мощную материнскую любовь. Думаю, и суровый мой папаша питал слабость к своему первенцу. Ко всей этой истории следует добавить и то, что Иван догадался соблюсти обычаи – пришёл к родителям Ханы просить её руки. Всё чин по чину, если не учитывать, опять же напомню, что в это время босоногая, с распущенными волосами возлюбленная сидит под охраной часового на полу в избе. Если закрыть глаза на то, как собирает чемоданы перепуганный на смерть бывший супруг. Если не учитывать 5-летнего сына Ханы, который находится у бабушки, и неизвестно, как воспримет нового мужа любимой мамочки. Если, наконец, не принимать во внимание всемогущую людскую молву, способную отравить самое счастливое существование… Через всё это решительно переступил Иван. Не убоялся он и могучих братьев Гурвичей, готовых постоять за свою сестрёнку-кровиночку. Впрочем, думается, им тоже пришёлся по нраву этот отважный русский, буквально вырвавший их сестричку из домашнего рабства зажиточной, но не очень-то уважаемой в местечке семейки.
Но главное слово оставалось за отцом с матерью. Наверное, Берл почувствовал в Иване близкую по духу натуру. Он, сам лихой человек, в поисках счастья, пропутешествовавший в Америку, легко принял в свой внутренний мир мужчину, которого не остановили никакие условности для завоевания любимой. Он ясно ощутил, что этот Иван способен и защитить, и сделать счастливой его дочь. И дал добро, к нему присоединилась во всём послушная жена.
Так, мне кажется, это было. А подлинных мотивов, каковые управляли действиями участников описанной жизненной коллизии, сейчас уже никто не вспомнит и не поймёт. Придётся принять мою версию.
Интересно, что новое замужество Ханы (однако, будем звать её по паспорту – Анной) могло очень скоро оборваться. И по совершенно невероятному стечению обстоятельств. Дело в том, что на конкурсе армейской самодеятельности, проходившем в Минске, Ивана Гаврилова заприметил один профессор. Везло же ему на профессоров! Он поспособствовал тому, что талантливого певца пригласили выступить в спектакле Белорусского театра оперы и балета. Дебют оказался более чем успешным. У отца был очень высокий красивый тенор, а если учесть, что и сам он был хорош собой, то от поклонниц отбоя не было. И вот, когда встал вопрос: войдёт ли Гаврилов в молодую оперную труппу Белорусского театра оперы и балета, категорически против этого выступила Анна. Она сказала: «Или театр, или я». Разумеется, не без основания, почуяла, что театральный успех, плюс поклонницы рано или поздно отнимут у неё любимого Ванечку.
Во второй раз отказался от сцены Иван. Видно, на роду у него было написано: артистом не быть!
А предположение моей будущей мамы о том, что, стоит зазеваться, и театральные фанатки уведут у неё мужа, увы, подтверждалось. Её благоверный уж очень легко откликался на манящие призывы любительниц оперных теноров. Во всяком случае, мне, уже в юношеском возрасте стало известно, что в Минске живёт моя кровная сестра – плод похождений Ивана Гаврилова в перерывах между репетициями и выступлениями в Минском оперном театре. Попади он в труппу, боюсь, у меня родных сестёр и братьев, по отцу, накопилось бы несметное количество.