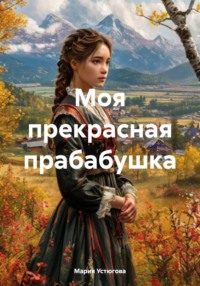Czytaj książkę: «Моя прекрасная прабабушка»
Предисловие

«Моя прекрасная прабабушка» – трогательная история о семье, памяти и любви, которая передаётся через поколения. Это увлекательное путешествие, где прошлое и настоящее переплетаются в рассказах о жизни ещё молодой, но сильной и необыкновенной девушки Анастасии.
История начинается в конце XIX века в селе Лесково – месте, где Забайкалье встречается с Маньчжурией, где русские традиции переплетаются с древними азиатскими обычаями. Книга открывает богатый мир традиций, жизненных испытаний и радостей, с которыми столкнулась героиня, вдохновляя своих потомков сохранять семейные ценности и помнить свои корни. Это произведение заставляет задуматься о роли семьи в нашей жизни и о том, как история каждого человека становится частью большой мозаики.
Эта историческая, но лёгкая для прочтения книга наполнена теплом и искренностью, идеально подходя как для семейного чтения, так и для тех, кто ценит глубокие и душевные истории.
От автора
В каждой семье есть своя река времени. Она берёт начало где-то в тумане прошлых веков и течёт сквозь судьбы, события, эпохи. Моя река начинается в селе Лесково – удивительном месте на границе миров, где само время, кажется, течёт иначе.
Эта книга – попытка пройти вдоль этой реки времени, держась за руку моей прабабушки Анастасии. Попытка увидеть мир её глазами, прожить её жизнь, понять её выбор. И хотя многое в этой книге – художественный вымысел, основа соткана из реальных историй, документов, архивных материалов и семейных преданий.
Лесково конца XIX века – это не просто точка на карте. Это целый мир, затерянный между сопками Забайкалья, мир, где вековые лиственницы помнят шаги первых поселенцев, где каждый дом хранит свои тайны, где судьбы людей переплетаются так же причудливо, как узоры на старинных половиках.
Здесь, в этом селе, жили мои прадед Максим и прабабушка Анастасия. Их история – это не просто семейная сага. Это летопись времени, когда Россия менялась так стремительно и драматично, что каждый день мог принести как величайшее счастье, так и невообразимое горе.
Работая над этой книгой, я много часов перебирала пожелтевшие страницы документов, вчитываясь в выцветшие строчки метрических книг, разбирая полустёртые записи в церковных регистрах. Каждая находка была как маленькое чудо, как ещё один камешек в мозаике прошлого. Три эпохи – царская, ленинская, сталинская – как три акта грандиозной драмы, разыгранной на подмостках истории. И через всё это прошла моя прабабушка Анастасия, сохранив в себе то, что не смогли отнять ни революции, ни войны, ни репрессии – человеческое достоинство и способность любить.
Я пишу эту книгу, чувствуя за плечами дыхание поколений. Каждое слово – это разговор с предками, каждая глава – это письмо в прошлое. И хотя я позволила себе некоторые художественные допущения, главное я старалась сохранить неизменным – правду характеров, подлинность чувств, достоверность исторического контекста.
В этой книге вы найдёте историю любви и предательства, веры и отчаяния, стойкости и слабости. Вы услышите, как скрипят полозья саней по забайкальскому снегу, как звенят колокола сельской церкви, как плачут дети и смеются женщины. Вы почувствуете запах свежеиспечённого хлеба и горький дым полыни, увидите восходы над сопками и закаты над Амуром.
Я пишу эту книгу с любовью и благодарностью. С любовью к своим корням, к той земле, что вскормила моих предков. С благодарностью к тем, кто сохранил эти истории, кто донёс до нас отголоски прошлого, кто помог собрать по крупицам мозаику времени.
И хотя прабабушка Анастасия никогда не прочтёт эти строки, я знаю – она рядом. В шелесте страниц старых фотоальбомов, в узорах на старинной шали, в историях, которые передаются из поколения в поколение. Она – в моей крови, в моих генах, в моей памяти. Эта книга – мой поклон ей и всем тем, кто жил до нас, любил до нас, страдал до нас. Тем, кто проложил нам дорогу в будущее, кто научил нас быть сильными, кто завещал нам память как величайшее сокровище.
Добро пожаловать в историю моей прекрасной прабабушки. В историю, которая началась в маленьком забайкальском селе и продолжается до сих пор – в каждом из нас, в каждом биении наших сердец, в каждом нашем выборе и поступке. Потому что память рода – это не просто слова. Это живая связь времён, это мост между прошлым и будущим, это то, что делает нас теми, кто мы есть. Я начинаю свой рассказ…
Даурия: земля древних тайн

Даурия – край удивительных контрастов, где суровая сибирская тайга встречается с монгольскими степями. Эта земля, раскинувшаяся от Байкала до Амура, от века была перекрёстком цивилизаций, местом встречи разных народов и культур.
Своё имя эта земля получила от дауров – монголоязычного народа, некогда населявшего эти места. Русские землепроходцы XVII века, впервые ступившие на эту землю, услышали это название от местных жителей и занесли его в свои путевые записки.
Даурия – это не просто географическое понятие. Это целый мир, где горные хребты чередуются с широкими долинами, где в прозрачных реках плещется рыба, а в лесах обитают соболь и изюбрь. Здесь можно встретить и таёжные дебри, и бескрайние степи, и живописные сопки.
В Даурии природа создала уникальное смешение сибирской и монгольской флоры. И могучие кедры, и степные травы, и редкие цветы, занесённые в Красную книгу. Животный мир не менее разнообразен: от таёжных обитателей до степных кочевников.
Сегодня природные богатства Даурии охраняются в нескольких заповедниках. Даурский заповедник – настоящая жемчужина этого края, где под охраной находятся редкие виды птиц, в том числе журавли и дрофы.
История Даурии – это история освоения Сибири, история встречи Востока и Запада. Здесь проходили древние торговые пути, здесь кочевали племена, здесь русские казаки-первопроходцы основывали свои остроги.
На этой земле веками жили бок о бок разные народы: буряты и эвенки, русские и монголы. Каждый народ внёс свой вклад в культурную мозаику края, создав уникальный сплав традиций и обычаев.
Сегодня Даурия – это часть Забайкальского края, где древние традиции соседствуют с современностью. Здесь по-прежнему пасутся отары овец в степи, а рядом проходит Транссибирская магистраль.
Даурия стала источником вдохновения для многих писателей и художников. Константин Седых в своём романе «Даурия» создал впечатляющую картину жизни этого края в переломную эпоху революции и Гражданской войны.
Несмотря на все перемены, Даурия сохраняет свою уникальность. Это по-прежнему край, где встречаются разные культуры и традиции, где природа сохраняет свою первозданную красоту, а люди чтут память предков.
В этом древнем крае до сих пор можно услышать отголоски старинных легенд, увидеть следы древних народов, почувствовать дыхание истории. Даурия остаётся землёй тайн и открытий, землёй, где прошлое встречается с будущим.
Даурская сага
В бескрайних степях Даурии, где ковыль серебрится под ветром и сопки подпирают небо, разворачивается эпическое полотно жизни забайкальского казачества. Здесь, как в зеркале, отразились все трагедии и надежды России начала XX века.
До революции жизнь казаков текла по вековому укладу. Мужчины несли службу, женщины вели хозяйство, дети росли в строгости и почитании старших. Казачьи станицы жили своим особым миром – с традициями, песнями, обычаями, передававшимися из поколения в поколение.
Но уже чувствовалось приближение бури. В станицах появлялись новые люди с новыми идеями, молодёжь всё чаще задумывалась о справедливости существующего порядка. Старики качали головами: «Худые времена идут…»
Революция расколола казачий мир надвое. Отец пошёл против сына, брат против брата. Одни встали под красные знамёна, другие остались верны присяге и белому движению. Рвались не только родственные связи – рвалась сама ткань жизни.
По даурским степям прокатилась Гражданская война. Сёла горели, кровь лилась, земля стонала под копытами коней. Атаман Семёнов вёл свои отряды против красных, партизаны уходили в сопки, мирные жители прятались по таёжным заимкам.
В этом водовороте истории каждый делал свой выбор. Молодые казаки уходили то к красным, то к белым, метались между долгом и совестью. Казачки ждали своих мужей и сыновей, не зная, вернутся ли они и под каким знаменем придут.
Но даже в самые страшные времена не умирала любовь. Молодые сердца находили друг друга вопреки всему. Любовь давала силы жить, бороться, верить в будущее. Она была как родник в пустыне – чистая, живительная, неиссякаемая.
Когда отгремели бои, пришло время строить новую жизнь. Но старый мир не хотел умирать. В душах людей ещё долго жила память о прошлом – и горечь потерь, и тоска по былому, и надежда на лучшее будущее.
История казачества Даурии – это история всей России в миниатюре. В ней отразились все противоречия эпохи, все её трагедии и свершения. Это рассказ о том, как менялся вековой уклад, как рушились старые устои и рождались новые.
Сегодня, глядя на бескрайние степи Даурии, трудно представить, какие страсти кипели здесь столетие назад. Но память о тех временах жива – в рассказах стариков, в старых фотографиях, в казачьих песнях, в самом духе этой древней земли. Память о времени великих перемен, о людях, проживших эти перемены, о любви и ненависти, о верности и предательстве, о том, как большая История входит в каждый дом и меняет судьбы людей.
Колобовы. Судьба на двоих

Осенний день 1898 года выдался на редкость погожим. Покров – праздник особенный, когда работы в полях уже завершены, урожай собран, и можно немного отдохнуть, повеселиться. В селе Колобово, что раскинулось на южном берегу реки Унды, готовились к празднику основательно: женщины с раннего утра хлопотали у печей, мужчины наряжались в лучшие рубахи, молодёжь предвкушала гулянья и хороводы.
Андриану Колобову шёл двадцать третий год. Высокий, широкоплечий, с густой русой бородой и твёрдым взглядом серых глаз, он выделялся среди сверстников не только статью, но и независимым нравом. Потомок тех самых Колобовых, что пришли в Забайкалье ещё при Екатерине, он гордился своим родом, хранил память о предках и их делах.
– Андрюша, ты бы поторопился, – окликнула его мать, Марфа Степановна, поправляя праздничный платок. – Скоро подводы тронутся.
Андриан вышел из дома, одетый в новую рубаху, расшитую по вороту узорами, и тёмные штаны, заправленные в начищенные до блеска сапоги. Отец, Иван Петрович, уже запрягал гнедого в телегу.
– Красавец, – одобрительно кивнул отец, оглядывая сына. – Смотри, не зевай сегодня. В Колобово со всей округи съедутся. Может, и суженую свою встретишь.
Андриан только усмехнулся в ответ. О женитьбе он думал пока мало – душа просила воли, простора. Хотелось уйти от родительского крова, завести своё хозяйство, построить дом по собственному разумению. В последнее время всё чаще его взгляд обращался к селу Лесково, что лежало в стороне от обжитых Колобовыми мест. Там среди сопок в живописной долине, виделось ему его будущее.
Праздник в Колобово удался на славу. На площади перед церковью разложили столы с угощениями, гармонисты наигрывали весёлые мелодии, девушки водили хороводы, парни соревновались в силе и ловкости. Андриан выиграл состязание по поднятию тяжестей, легко взвалив на плечи мешок зерна весом в пять пудов и пронеся его через всю площадь.
Когда солнце начало клониться к закату, он отошёл к колодцу, чтобы умыться и перевести дух. И тут увидел её – девушку в голубом сарафане, с русой косой до пояса, стоявшую в стороне от шумного веселья. Она смотрела куда-то вдаль, на закатное солнце, золотившее верхушки дальних сопок, и во всём её облике была такая задумчивость и покой, что Андриан замер, боясь спугнуть это видение.
– Водицы не зачерпнёшь? – неожиданно для себя проговорил он, подходя ближе.
Девушка обернулась, и Андриан встретился с ясным взглядом серо-голубых глаз.
– Зачерпну, – просто ответила она, беря из его рук ковш.
– Ты чья будешь? – спросил Андриан, когда она подала ему воду. – Не видел тебя раньше.
– Евдокия я, Гагаркина, – ответила девушка. – Из Нижней Унды.
Гагаркины! Сердце Андриана дрогнуло. Эта фамилия была знакома каждому Колобову. Два рода, пришедшие в Забайкалье в одно время, жившие по соседству, делившие невзгоды и радости освоения новых земель.
– А я Андриан Колобов.
Брови девушки чуть приподнялись.
– Колобов? Мой дед часто вспоминал вашу семью. Говорил, мы чуть ли не родня дальняя.
– Родня – не родня, а судьба, видать, свела, – улыбнулся Андриан, чувствуя, как что-то тёплое разливается в груди.
Они проговорили до глубоких сумерек. Евдокия рассказала, что осталась сиротой три года назад – отец с матерью умерли от горячки в одну неделю, и теперь она живёт с братом и его семьёй. Андриан поведал о своей мечте – уйти в Лесково, построить там дом, завести хозяйство.
– Там, в долине между сопок, такие места, что сердце радуется, – говорил он, глаза его горели. – Земля богатая, леса строевого вдоволь, речка чистая.
Евдокия слушала внимательно, не перебивая. В её взгляде не было ни насмешки, ни сомнения – только понимание и какой-то особый интерес.
– Трудно будет одному на новом месте, – заметила она наконец.
– А я и не говорил, что один, – ответил Андриан, неожиданно для себя беря её за руку.
***
Свадьбу сыграли по первому снегу, в ноябре. Иван Петрович поначалу противился решению сына уйти в Лесково.
– Что ты там забыл? – горячился он. – Здесь хозяйство налаженное, земля родовая, люди свои.
Но Андриан был непреклонен. А когда привёз показать родителям Евдокию, Марфа Степановна, глянув в спокойные, полные внутренней силы глаза будущей невестки, сказала мужу:
– Отпусти его, Иван. Своя дорога у каждого. И девка хорошая, работящая, видно сразу.
И отец смирился. На свадьбу приехали родственники с обеих сторон – Колобовы и Гагаркины, и многие дивились, как переплелись судьбы двух родов, пришедших когда-то в Забайкалье с берегов далёкой Волги.
Молодые уехали в Лесково сразу после Рождества, в январе 1899 года. Иван Петрович дал сыну в приданое пару лошадей, корову, инструмент и немного денег. Брат Евдокии подарил молодым овец и домашнюю утварь.
Первая зима в Лесково была трудной. Жили у дальних родственников Колобовых, в тесной избе, где кроме них обитало ещё две семьи. Но с первыми проблесками весны Андриан начал строить свой дом.
– Здесь будет наш дом, – говорил он, указывая на живописную долину между сопками, где выбрал место для усадьбы. – Посмотри, Дуняша, какая красота кругом!
Евдокия смотрела на расстилающиеся перед ними просторы – на зеленеющие склоны сопок, на бегущую внизу речушку, на распускающиеся почки берёз – и сердце её наполнялось тихой радостью и уверенностью.
– Хорошее место, – кивнула она. – Доброе.
Первый сруб они построили собственными руками. Брёвна лиственницы, привезённые из близлежащего леса, были уложены плотно и крепко, каждое подгонялось с удивительной точностью. Андриан работал от зари до зари, валил деревья, ошкуривал их, тесал, рубил пазы. Евдокия помогала мужу наравне, не боясь тяжёлой работы. Её тонкие, но сильные руки проконопачивали щели мхом, готовили глину для печи, месили с соломой для обмазки стен.
К концу лета сруб стоял, крытый драньём, с маленькими оконцами, затянутыми бычьим пузырём вместо стекла, которое было дорого. Настоящее стекло появилось в их окнах лишь через год, когда Андриан продал первый урожай со своего поля и немного пушнины, добытой зимой в тайге.
В августе 1899 года, когда они только-только перебрались в новый дом, у Евдокии начались роды. Ночь выдалась тревожной – гроза бушевала над сопками, молнии освещали небо, гром грохотал так, что, казалось, содрогалась земля. Повитуха из соседнего дома, прибежавшая на зов Андриана, только качала головой:
– Тяжело будет, первые роды в грозу – примета нехорошая.
Но Евдокия, стиснув зубы, рожала молча, лишь изредка постанывала тихонько. А когда за окном забрезжил рассвет и гроза утихла, в избе раздался громкий, требовательный крик новой жизни.
– Сын! – радостно объявила повитуха, заворачивая младенца в чистую холстину. – Крепыш. Посмотри, Андрюша, богатырь растёт!
Андриан взял на руки сына, красного, сморщенного, но такого родного, и что-то дрогнуло в его сердце.
– Варламом назовём, – сказал он, поглядывая на измученную, но счастливую Евдокию. – В честь моего прадеда.
Она кивнула, улыбаясь слабо, но светло.
***
Годы летели незаметно. Хозяйство Колобовых крепло, разрасталось. К первому дому пристроили ещё две комнаты, потом возвели хлев, амбар, баню. Расчистили и распахали немалый участок земли, развели скот. В 1902 году родился второй сын – Пётр, названный в честь деда Андриана. В 1906 – третий, Семён.
Евдокия вела дом умело и рачительно. Под её руками всё спорилось – и хлеб в печи поднимался пышный, и полотно на станке ткалось ровное, и одежда для растущей семьи шилась прочная, добротная. Соседи дивились её трудолюбию и сноровке, а ещё – её спокойной мудрости. К Евдокии Колобовой шли за советом женщины со всей округи – и в болезни, и в семейных неурядицах.
Андриан гордился женой. Он и сам был не из тех, кто ищет лёгких путей, работал до седьмого пота, и в поле, и в тайге на охоте, и в хозяйстве. Но порой, вечерами, когда дети уже спали, а они сидели вдвоём у огня, его охватывало удивление: как эта тихая, негромкая женщина стала стержнем его жизни, его опорой, его силой?
– О чём задумался? – спрашивала Евдокия, замечая его взгляд.
– О тебе, – честно отвечал он. – О том, как мне повезло встретить тебя тогда, у колодца.
Она улыбалась своей спокойной улыбкой и возвращалась к рукоделию – вечера были временем для шитья и вышивания, для штопки и вязания. В доме Колобовых не принято было сидеть без дела.
В 1904 году, когда старшему Варламу уже исполнилось пять, а Николаю шёл третий год, у них родилась долгожданная дочь. Евдокия молилась о девочке каждый день во время беременности.
– Господи, пошли мне дочку, помощницу, чтобы было кому секреты хозяйские передать, – шептала она перед иконами.
И Бог услышал её молитву. Девочка родилась крепкой, здоровой, с громким голосом и удивительными глазами – раскосыми, ярко-зелёными, как молодая весенняя трава.
– Настенькой назовём, – решила Евдокия. – В честь моей бабушки.
Андриан не возражал. Он смотрел на крохотное личико дочери и видел в нём что-то необычное – не только русские черты, но и что-то от коренных народов этих мест, от бурят или эвенков.
– Девка особенная будет, – сказала повитуха, та же, что принимала и старших детей. – Вишь, глаза какие? В ней кровь разная смешалась, сильная.
Евдокия вспомнила тогда рассказы своего деда о том, что прабабка её была из бурятского рода, взятая в жены одним из первых Гагаркиных, пришедших в Забайкалье. Кровь, говорят, помнит своё, даже через поколения проявляется.
Анастасия с самого начала была не такой, как братья. Тихая, наблюдательная, она могла часами смотреть на облака или на огонь в печи, словно видела там что-то, недоступное другим. И голос у неё был особенный – когда она начала говорить, все заслушивались её речью, такой чистой и певучей, что сердце щемило.
– Дар у неё, – говорила соседка, старая Федосья. – Берегите девку, в ней сила особая.
***
В 1910 году родился Николай, а в 1915, когда грянула уже мировая война и многие мужчины из Лесково ушли на фронт, – последний сын, Иван. Андриан на войну не попал – возраст уже не тот, да и хозяйство большое, кормившее не только семью, но и поставлявшее зерно для армии.
К 1915 году их надел земли был уже крепким хозяйством: добротный дом, порядка десятины земли, несколько коров и лошадей. В амбарах хранились запасы зёрна, в погребах – соленья и варенья, приготовленные заботливыми руками Евдокии и подрастающей Анастасии.
Жизнь текла по заведённому порядку, размеренно и надёжно. Но иногда, особенно по вечерам, когда вести с фронта доходили до глухого забайкальского села, Евдокия чувствовала тревогу. Мир менялся, и эти перемены, словно волны далёкого шторма, рано или поздно должны были докатиться и до их тихой гавани.
– Что будет с нами, Андрюша? – спрашивала она тихо, когда они оставались одни. – Что будет с детьми?
Андриан обнимал жену за плечи, крепко и уверенно.
– Мы, Колобовы, и не такое переживали, – говорил он. – Предки наши пришли сюда из-за тридевяти земель, на пустом месте жизнь построили. И мы выстоим, что бы ни случилось. Главное – вместе держаться. Евдокия прижималась к его груди и чувствовала, как отступает тревога. Да, они выстоят. Ради детей, ради этой земли, ставшей им родной, ради будущего, в которое они верили всем сердцем.
А Анастасия, их особенная дочь с раскосыми зелёными глазами, смотрела на родителей из тёмного угла горницы и словно видела их судьбу – длинную, непростую, но светлую дорогу, которую они выбрали когда-то и шли по ней рука об руку, не сворачивая и не отступая. И в её сердце рождалась уверенность, что и её собственный путь будет не менее значимым, не менее важным для этой земли и для людей, живущих на ней.