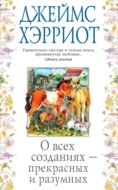Czytaj książkę: «Дочь Рейха»
Моим замечательным родителям, которые всегда со мной
Те, кто забывает уроки истории, обречены на их повторение.
Уинстон Черчилль
Louise Fein
PEOPLE LIKE US
Copyright © Louise Fein, 2020
This edition is published by arrangement with Hardman and
Swainson and The Van Lear Agency LLC
All rights reserved
© Н. В. Маслова, перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
Пролог. Лейпциг
Лето 1929 года
Озеро лежит гладкое, будто шелковое, вода тихо плещет вокруг причальных опор. Узловатые доски под моими босыми ногами толстые и теплые от солнца. На берегу Карл втискивается в купальные плавки под прикрытием полотенца, которое держит вокруг него мама.
– Осторожно, Хетти! – кричит Карл. – Здесь глубоко.
– Я только посмотрю. Хочу увидеть большую рыбу.
Мелкими шажками подхожу к самому краю причала и замираю, обхватив его пальцами ног. Потом приседаю, низко-низко, и заглядываю в глубину. Дна не видно. Может, его и нет. Может, вода зеленая, словно бутылочное стекло, доходит до самого центра Земли, а в ней затаились, выжидая своего часа, свирепые чудовища.
К причалу плывет Вальтер. Вот он руками загребает воду, поворачивается, ложится на спину, пальцы его ног светлеют над поверхностью, точно поплавки. Вальтер поднимает голову, улыбается мне, убирает с лица мокрые пряди волос. Жалко, что я не хожу на плавание, как Карл. Тогда бы я тоже рыбкой плескалась на глубине, а не барахталась на мелководье, сбивая себе пальцы об острые камни и поскальзываясь на тине.
Со своего насеста я наблюдаю за Вальтером, который уплывает все дальше от берега. В какой-то момент перестаю его видеть: толстые деревянные опоры причала скрывают его от меня. Хочу подвинуться, чтобы снова найти Вальтера взглядом, но слишком наклоняюсь вперед и теряю равновесие. Машу руками, пытаясь уцепиться за что-нибудь, но вокруг ничего нет, только воздух, и я лечу вниз, вниз, вниз.
Ударяюсь животом о воду: она, оказывается, твердая как камень. От неожиданности и холода вскрикиваю, но вокруг меня уже не воздух, а стоячее озеро.
– Помогите! – кричу я и отчаянно колочу по воде руками и ногами, полуслепая от мелькания света и теней вокруг меня. – ПОМОГИТЕ!
Но вода вскипает вокруг и смыкается над моей макушкой, и чудовища увлекают меня вниз, в свои глубинные зеленые логова.
В панике я барахтаюсь, отбиваюсь от них руками и ногами и вдруг оказываюсь на поверхности. Делаю вдох. Вдалеке слышны голоса. Я все еще бьюсь, но напрасно: мне не удержаться на плаву. Голоса стихают, меня снова тянет ко дну. Легкие еще выталкивают крик, но вода – тошнотворная, липкая, густая – наполняет их, и я тону.
Меня обступает темнота.
Вдруг что-то скребет по моему костюму, царапая спину. Мое тело тянут вверх, и я оказываюсь на поверхности. Кто-то держит меня, солнечный свет ослепляет, как вспышка молнии, я мучительно рыгаю и кашляю так, что кажется, будто у меня вот-вот лопнут бока. С болезненным вдохом воздух наполняет легкие, из носа льется вода. Тот, кто держит меня сзади, изо всех сил работает ногами, чтобы удержать на поверхности нас обоих. Он пыхтит и даже постанывает от напряжения. Его руки поворачивают меня на спину, я чувствую под собой сильное тело. Моя голова больше не уходит под воду.
– Не надо сопротивляться, теперь с тобой ничего не случится. – Голос раздается прямо над моим ухом. Вальтер. – Мы плывем назад. – Согнутой в локте рукой он подхватывает меня под подбородок и тянет к берегу.
Я стараюсь лежать тихо, но вода затекает мне в уши, и я верчусь, а он, тяжело пыхтя, ритмичными рывками продолжает плыть на спине к берегу. Так мы достигаем мелководья. Неподалеку слышны чьи-то крики, плач. Вальтер такой крепкий и надежный. Он пытается высвободиться из-под меня, но я отчаянно льну к нему. Наши ноги запутываются, и мы идем ко дну.
– Все в порядке, здесь уже можно стоять, – говорит Вальтер и снова ставит меня на ноги.
Бугорки грязи вспухают между моими пальцами, когда я пытаюсь удержать равновесие, но не могу. Меня бьет дрожь, ноги не держат. Вальтер подхватывает меня, и я стою, прислонившись к нему. Горло горит от кашля. Из носа по-прежнему течет.
По мелкой воде от берега к нам бежит мама. У нее намокла юбка, но она, кажется, даже не замечает. Мама подхватывает меня, крепко прижимает к себе, и мы вместе бредем к берегу. Там она заворачивает меня в теплое полотенце.
– Хетти! Ты в порядке? – Карл тоже здесь – хлопает меня по спине, заглядывает в лицо. – Я же говорил тебе – осторожнее!
– О, моя бедняжка!
Не разжимая объятий, мама опускается на землю вместе со мной. Баюкает меня, словно младенца, а ведь мне уже целых семь лет. Мое ухо прижато к ее груди, я слышу дыхание – прерывистое, частое.
Рядом останавливается Вальтер, смотрит на нас. С него капает вода. Мама поворачивается к нему:
– Ты спас ее, Вальтер. Какое счастье, что ты такой хороший пловец. Если бы ты не успел… – И мама начинает плакать.
– Это было нетрудно, – говорит Вальтер, быстро отводя глаза.
– Я обязательно расскажу твоей маме, какой ты молодец.
– Не надо. Честно. – Он берет свое полотенце и начинает энергично вытираться.
Мама утирает слезы и помогает мне одеться. В носу и в горле першит так, словно я надышалась цементом.
– Может быть, Хетти тоже нужно учить плавать, – говорит Карл, но ему никто не отвечает.
Мама шмыгает носом и кивает.
Потом она суетливо расстилает покрывало, раскладывает вкусности для пикника. Я больше не дрожу, и мама протягивает мне блинчик с малиной и фляжку с молоком. Я начинаю есть и пить.
Наконец, собравшись с духом, я поднимаю глаза на Вальтера. Его волнистые светлые волосы еще не высохли. Он как раз говорит что-то Карлу, но тут же оборачивается, смотрит на меня и вдруг улыбается мне во все лицо.
Глаза у него голубые, теплые.
Поздно вечером мама укладывает меня в мою узкую кроватку, придвинутую вплотную к стене детской, которую я делю с Карлом.
– Доброй ночи, детка. – Мама целует меня в лоб. – Все хорошо, да?
– Да, мамочка.
– Вот и славно. – Она улыбается и гладит меня по голове.
Выключив свет, мама выходит и тихо затворяет за собой дверь.
Я лежу с открытыми глазами. В полумраке мне виден громоздкий силуэт платяного шкафа в углу и очертания пустой кровати Карла у окна. Будь брат сейчас здесь, грозные тени не посмели бы прикоснуться ко мне. А так стоит мне только закрыть глаза, и я возвращаюсь в озеро: вода тянет меня в мглистую глубину, душит, затекает в легкие. Сердце колотится, и веки вскидываются сами собой, точно на пружинах.
Не спи. Не спи. Не спи.
Дверь спальни, скрипнув, отворяется раньше, чем я ждала.
– Карл, это ты?
– Хетти? Еще не спишь?
– Не могу заснуть.
– Я так и подумал. Слушай, у меня кое-что для тебя есть. Подарок. Я берег его на твой день рождения, но подарю сейчас. А на день рождения будет что-нибудь другое. – Он щелкает выключателем, и я зажмуриваюсь от яркого света.
Карл ныряет под свою кровать и, пошарив там, вскоре появляется с прямоугольным коричневым пакетом в руках.
– Вот, – произносит он и кладет пакет мне на одеяло, когда я, оттолкнувшись локтями, сажусь в кровати. Карл тоже опускается на краешек. Вид у него смущенный, лоб под темной челкой наморщен. – Мне так жалко, что не я спас тебя сегодня, Мышонок, но я был далеко.
Я понимаю, что он говорит серьезно, когда его глаза заглядывают в мои. Зрачки у него большие, расширенные от страха, и я знаю, что в душе он плачет, так же как я. Я киваю ему, чтобы он понял: я все вижу.
– Хорошо, что Вальтер был рядом. И он твой лучший друг.
Я перевожу взгляд на коричневый пакет, такой увесистый в моих руках.
– Открой же, – говорит брат.
Бумажный пакет шуршит, пока я разворачиваю его. Сунув руку внутрь, я нащупываю твердую книжную обложку. Это оказывается дневник, настоящий, взрослый. Обложка покрыта геометрическим орнаментом коричневого, оранжевого и синего цветов. Бумага внутри сливочно-белая.
– Какой красивый, – шепчу я. – Спасибо тебе, Карл.
– Там еще кое-что есть, – улыбается брат.
На дне пакета оказывается ручка, синяя с серебром.
– Я подумал, этот дневник как раз то, что надо для твоих секретов и историй. Ты ведь любишь сочинять. – Глаза Карла ни на миг не отрываются от моего лица.
– Я постараюсь. Придумаю что-нибудь интересное. Но не про то, как я тонула.
Улыбаюсь ему в ответ. Пусть брат знает, что все в порядке.
Когда моя голова снова касается подушки, я понимаю, что все действительно хорошо, хотя кое-что в моей жизни изменилось.
Я чуть не утонула, и меня спас Вальтер.
Это все меняет.
Часть первая
7 августа 1933 года
– Метаморфозис! – восклицает доктор Крейц. – Вот как этот текст называют англичане. – И он широким жестом поводит книгой в воздухе так, что шелестят страницы. – Кто-нибудь из вас знает, что означает это слово?
Он опирается на учительский стол. Рукава его рубашки закатаны до локтей. Никто не издает ни звука. Мы сидим на деревянных скамьях классной комнаты в гимназии и молчим.
Да, пыльные, шумные классы фольксшуле больше не для меня. Тесная, засыпанная черным шлаком игровая площадка, где толкутся шумные, грубые дети, превратилась в смутное воспоминание далекой, еще до летних каникул, поры. Гимназия совсем другая: здесь высокие сводчатые потолки и гулкие коридоры. В центре большой зал с высоким потолком на мощных балках, а над ним – величественная красная мансардная крыша. Учителя здесь образованнее, строже и даже как будто выше ростом, чем в фольксшуле. Но, хотя я лучше справилась со вступительными экзаменами, чем мой брат Карл три года назад, когда ему было одиннадцать, все же я не чувствую себя особенно умной.
– Кажется, это значит «превращение»? – нарушает молчание чей-то голос сзади.
Я выворачиваю шею и вижу девчонку-коротышку с копной черных волос, курчавых, почти как у меня.
– Пожалуйста, назовись, – говорит доктор Крейц, вскидывает голову и выкатывает глаза, прямо как лягушка.
– Фрида Федерман, – уверенно отвечает девочка.
– Вот именно. Да, Фрида. – Доктор Крейц в восторге. – Превращение. Перерождение. Изменение. В переводе с греческого «метаморфозис» – «изменение формы». – Учитель начинает мерить шагами класс. – Греческий и латынь учат нас всему, что нам необходимо знать о состоянии человека.
– Фрида Федерман – еврейка, – шепчет кто-то из девочек позади меня, и так громко, что учитель просто не может не слышать, но виду не показывает. Проходя мимо стола, он берет с него книгу.
У доктора Крейца узкие плечи и выпирающее брюшко. Край сорочки выбился из брюк, галстук повязан криво. Сразу видно, что в эту школу, известную своим классическим образованием, его взяли не за красоту или опрятность, а за знания и ум.
– Франц Кафка, – произносит он, глядя в потолок так внимательно, словно надеется обнаружить там упомянутого автора, восседающего верхом на потолочной балке. – До чего талантливым человеком он был, и веселым. Вот послушайте.
И учитель так энергично перелистывает страницы книги, что у него разлетаются волосы. А потом начинает читать, медленно описывая по комнате круг с книгой в руках. Монотонным голосом он рассказывает нам завораживающую историю Грегора, коммивояжера, который проснулся однажды утром и обнаружил, что за ночь превратился в гигантское насекомое.
Свет льется в класс через длинное прямоугольное окно высоко в стене. С огромного портрета над доской на нас безмятежно взирает Адольф Гитлер. Голос доктора Крейца то опускается, то поднимается, то затихает, то грохочет. Я так долго гляжу на портрет, что лицо Гитлера плывет и покачивается у меня перед глазами. Он по-прежнему смотрит на меня, не мигая, но я могу поклясться, что его губы дрогнули, будто вот-вот улыбнутся, а сам он выйдет из рамы и скажет: «Ха-ха, а я над вами пошутил. Я уже давно здесь».
Но все это, конечно, мне лишь кажется, и я отвожу глаза. Карл говорит, что у меня слишком живое воображение. Мое сердце немного ускоряет ритм, и я думаю: что, если мой брат прав?
Доктор Крейц читает. Стараясь не смотреть больше на Гитлера, я разглядываю профиль девочки, моей соседки по парте. Она высокая, стройная, золотисто-каштановые волосы двумя гладкими косами лежат у нее на плечах. Овал бледного лица безупречен, словно изваян резцом из лучшего мрамора. Она высоко держит голову, наблюдая за тем, как доктор Крейц ходит по классу. Почувствовав мой взгляд, девочка поворачивается и устремляет на меня свои зеленые глаза с чуть опущенными внешними уголками.
– Привет, – шепчет она. – Меня зовут Эрна Беккер. – Она едва заметно улыбается.
– Хетти Хайнрих, – отвечаю я, жутко стесняясь своих курчавых черных волос, больших глаз и слишком круглых щек.
Никого красивее Эрны Беккер я в жизни не видела.
Громкий стук в дверь прерывает доктора Крейца на полуслове.
– Герр Гофман… – обращается он к вошедшему – высокому, худощавому мужчине в жилете и галстуке-бабочке.
– Хайль Гитлер! – приветствует герр Гофман класс.
– Хайль Гитлер! – хором отвечаем мы.
– Господин директор, – доктор Крейц откашливается, – для меня большая честь видеть вас на своем уроке.
Герр Гофман встает перед классом.
– Добро пожаловать в нашу замечательную гимназию, – начинает он, улыбаясь нам. – Каждый из вас попал сюда не просто так, а выдержав труднейший экзамен. Но это лишь начало пути. Только упорным трудом и образцовым поведением вы добьетесь высоких результатов в этой школе. Что одинаково верно не только для мальчиков, но и для девочек. Со временем вы все станете превосходными членами нашего великого нового Рейха. Я уверен, что и ваши родители, и гимназия будут гордиться вами. Желаю вам всем удачи.
Я улыбаюсь директору. Моя мечта – стать врачом, по возможности – мировой знаменитостью. Мне верится, что учеба в этой замечательной школе – первый шаг на пути к осуществлению моего честолюбивого замысла. И я буду очень стараться на каждом уроке. Всегда.
Герр Гофман обращается к доктору Крейцу:
– Что вы проходите сегодня?
Доктор Крейц молча показывает директору обложку «Превращения».
Ужас искажает лицо герра Гофмана.
– Доктор Крейц, вы с ума сошли?
Учитель пожимает плечами:
– Это великолепный текст, герр Гофман. Он как раз вводит все темы, о которых мы будем вести речь в этом году: символизм, метафора, абсурдность бытия…
– Это мы еще обсудим, но позже. А пока вы прекрасно знаете, что это совсем неподходящее произведение для школы. Будьте любезны, к следующему разу подберите порядочного немецкого писателя. До свидания, дети. – И он выбегает из комнаты, громко хлопнув дверью.
Доктор Крейц съеживается.
Подходит к столу, дрожащими руками кладет в портфель «Превращение». И смотрит на нас, облизывая губы, словно не знает, что теперь с нами делать. Кое-кто в классе уже начинает болтать, но учитель не пытается навести порядок.
И опять он напоминает мне лягушку, только теперь ее как будто переехало колесо.
Я выхожу из школы. На улице меня уже ждет Томас. Худющий, длинноногий, он стоит, небрежно привалившись к стволу высокого дерева на краю Нордплац. Сбежать я не успеваю: он замечает меня, подбегает и чуть не сбивает с ног, все это с кривой ухмылкой.
– Ну, как там было? – спрашивает он и смотрит через плечо на школу.
Чуть приотстав, мы идем за шумными старшеклассниками через зеленую площадь в Голис.
– Школа как школа. Просто… умнее и строже, вот и все.
Томас грустнеет. Он тоже мог бы туда поступить, только его родителям нечем платить за учебу. С экзаменами он справился бы.
– Так странно, что ты больше не живешь в нашем квартале, – говорит он. – Без тебя там как-то… пусто, – подумав, добавляет он.
– Я же совсем рядом.
– Ну да. – Всю дорогу, пока мы идем, останавливаясь только у перехода через Кирхплац, он громко сопит. – А какой у тебя теперь дом?
– Вот погоди, увидишь! – смеюсь я. – После той квартирки ты просто не поверишь! Побежали! – И я срываюсь с места, чувствуя, как у меня внутри растет пузырь радости.
Наш огромный новый дом на Фрицшештрассе с островерхой крышей, из которой в небо торчат две дымовые трубы, похожие на толстые указательные пальцы. В нем четыре этажа – четыре ряда окон. В нашей семье каждый мог бы жить на отдельном этаже.
– Самый большой на улице, – выдыхает Томас, потрясенно глядя на красивое здание из светлого песчаника с черной отделкой.
Его рыжеватые волосы растрепались, глаза за толстыми стеклами очков в черепаховой оправе кажутся огромными, как у мухи. Обозревая величие нашего дома, он даже морщит нос.
Я гордо выпрямляюсь.
– А сад за ним есть?
– Ну конечно! Вон моя комната. – Пальцем я показываю на балкон второго этажа.
Прямо под ним растет чудесная старая вишня. Нижние ветки ее раскидистой кроны нависают над тротуаром и железными перильцами перед домом, спускаются под балкон. Прямо в оконной нише у меня есть сиденье. Люблю проводить время там: оттуда хорошо виден перекресток с Берггартенштрассе, если посмотреть влево, а если вправо – то вся Фрицшештрассе до самого дома Вальтера. Я вижу, когда он выходит и когда возвращается обратно.
– Внутри, наверное, тоже здорово. – Томас прижимает лицо к прутьям ограды. – Спорю, что там у вас две лестницы. И погреб тоже есть. А может быть, даже темница, а в ней кости пленников!
– Не говори чепухи.
– Можно мне зайти? – спрашивает Томас.
Я смотрю на него искоса. Всего несколько недель назад мы с ним играли на улице позади дома, в котором была наша квартира, а кажется, будто годы прошли. И не я, а совсем другая девочка пинала во дворе мяч и съезжала по глинистому откосу набережной посмотреть, как паровозы, пыхтя, втаскивают на станцию одни тяжелые составы и покидают ее с другими.
– Не сегодня, – слышу я свой голос. – Извини. Может, в другой раз. – И я толкаю тяжелую кованую калитку. Она открывается со скрипом, а захлопывается с громким приятным щелчком, оставляя Томаса на улице.
В просторной передней с деревянным паркетом я оставляю сумку и вспоминаю июньский день, когда мы только переехали в этот дом.
– Без кухарки и горничной здесь не обойтись, – сказала тогда мама, стоя на этом самом месте и с изумлением озираясь. На меня и сейчас точно пахнуло ароматом ее духов «Vol de Nuit». – В одиночку я с таким домом не управлюсь, – добавила она и приложила руку к груди.
Папа, спокойный и невозмутимый, в легких брюках и рубашке с открытым воротом, взъерошил мне волосы и сказал:
– Самый завидный дом во всем Лейпциге. Ну, или один из них.
– Мне он ужасно нравится, – сказала я отцу, с улыбкой глядя в его тяжелое лицо.
– Что, не ожидала, а, Шнуфель? Даже мечтать не могла? – И он, взяв с пола коробку, пинком отворил первую по коридору дверь. – Мой кабинет, – сказал отец и, довольный, скрылся внутри.
– А можно, я тоже выберу себе спальню? – спросил Карл, и у него даже глаза загорелись при мысли о собственной комнате.
– Почему нет? – ответила мама, а я пошла за ней, когда она стала обходить дом, сверяясь со списком предметов мебели и картин, оставленных в особняке прежними жильцами.
Трудно забыть тот миг, когда я впервые увидела красно-золотую столовую, залитую солнцем гостиную – одно пятно света лежало на ковре, другое на рояле, – бледно-голубую утреннюю комнату с граммофоном в углу, оранжерею со стеклянным куполом потолка, наполненную экзотическими растениями, между которыми стояла плетеная мебель. Наша старая квартирка целиком уместилась бы в передней этого дома, и еще место осталось бы.
Наполненная счастьем, словно воздушный шар – воздухом, я бегу через переднюю, по гулкому каменному коридору, мимо большой кухни, мимо ванной, пока не оказываюсь в треугольном саду за домом. Посреди сада газон, по краям – цветы, а в дальнем от дома углу – огромный старый дуб. Железной дороги здесь нет. Вот и хорошо. Я совсем не буду скучать по поездам, которые со скрежетом и лязгом уходили неизвестно куда среди ночи, так что от них тряслась моя кровать в старой квартире.
В дальнем углу сада, задрав голову, я смотрю на пеструю от солнца листву и ветви старого дуба. Хотя мы больше не ходим в церковь – папа говорит, что вера отвлекает нас от главной задачи и, кроме того, церковь не одобряет герр Гиммлер, – я все равно знаю: Господь улыбнулся мне. Я – особая, и потому Он сделал мне подарок – дом на дереве. Настоящий. Большой. С надежной крышей и стенами. С узкой веревочной лестницей, которая свисает из отверстия в деревянном полу.
Вот погоди, то-то еще будет, когда Томас его увидит. Да он с ума от зависти сойдет! Я представляю себе его лицо и хохочу в голос.