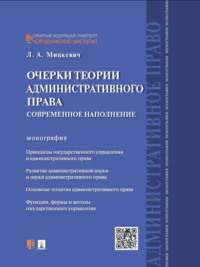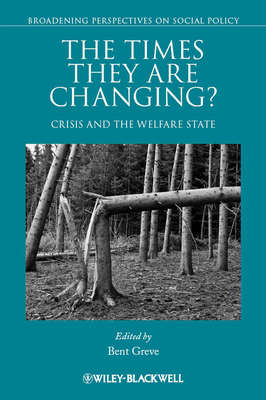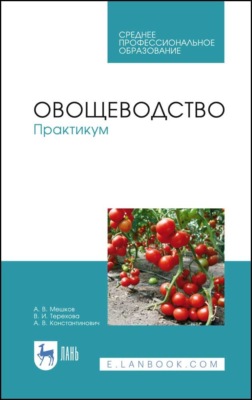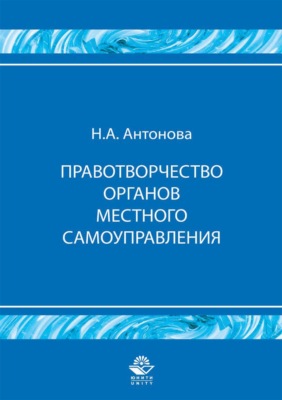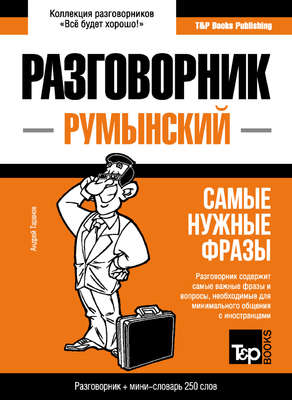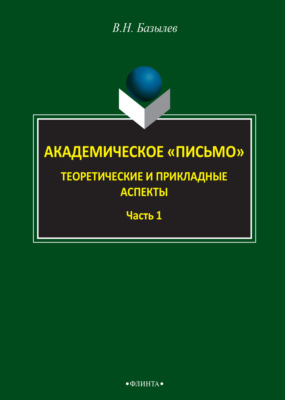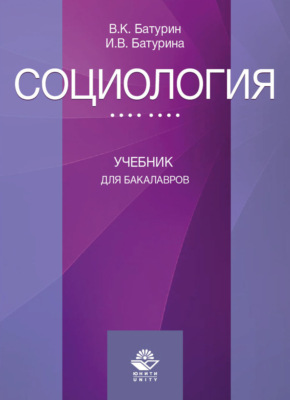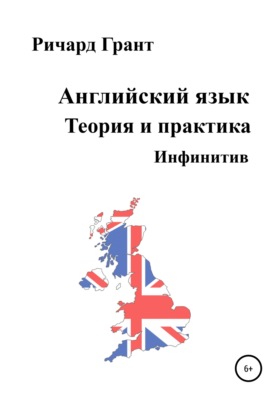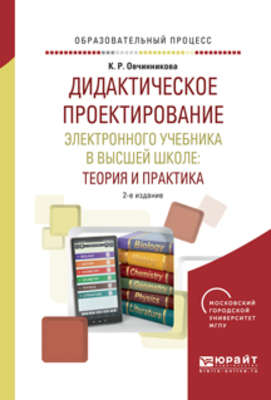Czytaj książkę: «Очерки теории административного права: современное наполнение. Монография», strona 3
Таким образом, эффективность государственного управления зависит от адекватности отражения в научных исследованиях, закрепления в нормах права, а затем использования в управленческой практике законов развития социальных систем. Данные законы развития могут быть сформулированы в рамках синергетического подхода с использованием основных понятий синергетики: самоорганизация, открытые системы, нелинейность (многовариантность), сложноорганизованный характер социальных систем.
3. Синергетические основы сравнительного правоведения
Научные исследования в области государства и права в настоящее время невозможно представить себе без применения метода правового сравнения. Вне зависимости от ответа на вопрос о том, является ли правильным название «сравнительное правоведение» или корректнее говорить о «правовом сравнении44, и следует ли считать юридическую компаративистику научной дисциплиной или методом исследований45, представляется необходимым обратить внимание на глубокую философскую основу сравнительного правоведения. Это обусловлено тем, что сравнение таких нелинейных сложноорганизованных систем, к которым относятся правовые системы, не может быть эффективно осуществлено вне использования синергетического подхода, поскольку сравнительное правоведение с необходимостью соединяет в себе структурный, функциональный, предметно-уровневый подходы46.
Краткое перечисление положений синергетики не может дать представления обо всех возможностях данного подхода, но некоторые идеи о соотношении синергетического подхода и метода правового сравнения следует осветить более подробно.
Во-первых, в силу системности мира и взаимодействия всех его подсистем изучение той или иной правовой системы вне связей и взаимодействий с другими правовыми системами явилось бы искусственным вычленением данной системы, не просто обедняющим исследование, но не позволяющим описать данную систему адекватно действительности. Метод правового сравнения отвечает именно этому требованию. Системному миру должны соответствовать системные знания о нем. Конечно, этот тезис не является новым для сравнительного правоведения, общепризнанным считается историко-культурологический подход к данным исследованиям.
Иерархичное устройство мира позволяет обратить внимание еще на один очень важный момент: системы более высокого уровня, в которые иные системы входят в качестве подсистем, задают последним закономерности, условия их функционирования (как уже было сказано, в определенном смысле это и можно рассматривать как управляющее воздействие). Следовательно, вхождение одной правовой системы в другую в качестве ее составной части предполагает, что она действует по тем же принципам, что и система более высокого уровня. Это означает, что в принципе, конечно, различия возможны (и как будет показано далее, необходимы), но не по принципиальным моментам. При отсутствии этого иерархического соотношения нельзя говорить об отнесении какой-нибудь национальной или иной правовой подсистемы к данному классу (типу) систем, сколько бы второстепенных признаков при этом ни перечислялось.
Одновременно с этими положениями действует и принцип необходимого разнообразия, согласно которому условием устойчивого и динамичного развития системы является необходимость поддержания достаточного разнообразия (многообразия) подсистем, в нее входящих. Поэтому процессы унифицирования правовых систем имеют естественные, объективные ограничения: динамичному развитию систем соответствует гармонизация (согласованность), но не единообразие правового регулирования. Таким образом, роль и значение метода правового сравнения (уже не просто как метода научного познания, но как метода практического преобразования правовой системы), состоит в том, чтобы, основываясь на объективных закономерностях развития сложных систем, противодействовать чрезмерной унификации как своеобразной форме монополизма, одновременно поощряя их гармонизацию и сохраняя многообразие национальных и территориальных правовых систем.
Вместе с этими тенденциями синергетика фиксирует колебательный характер развития нелинейных систем: тенденции дифференциации сменяются тенденциями интеграции, разбегание – сближением, ослабление – усилением, то есть имеют место процессы своеобразной пульсации. Знание этих глобальных закономерностей позволит правильно сориентироваться в историческом аспекте, применяя диахронное сравнение, определить, на каком моменте развития – разбегании или сближении, дифференциации или унификации – находится та или иная изучаемая правовая система.
Сравнительно-исторический подход должен рассматриваться во взаимосвязи с принципом необратимости происходящих процессов, необратимости эволюции. Необратимость означает, что возврат к тем или иным историческим условиям невозможен, следовательно, невозможно и точное повторение или копирование исторического опыта. Принцип необратимости накладывает ограничения и лишает иллюзий по поводу возможности заимствования исторических форм или институтов в неадаптированном виде как из собственного опыта развития государства и права, так и из мирового опыта.
В силу положения о системности мира сравнительно-правовой метод может рассматриваться достаточно широко. Традиционно он включает в себя исследования правовых семей и систем, их институтов, целей и уровней, в том числе межсистемное, внутрисистемное, внутринациональное, историческое и межотраслевое сравнение. Принцип системности, иерархичности позволяет утверждать, что возможна систематизация, а значит, и классификация правовых семей, правовых систем, внутрисистемных, внутринациональных и иных правовых образований по различным критериям. При этом критерии и, следовательно, образуемые в соответствии с ними системы, могут быть самыми разнообразными, и все эти критерии и системы не вступают между собой в противоречие, а дополняют друг друга, предлагая не линейное, не одновариантное, не плоскостное, а многомерное, объемное видение исследуемого явления. Следовательно, научные дискуссии по данному поводу следует рассматривать не как конкуренцию, а как кооперацию взглядов, как способ получения достаточно полной, взаимодополняющей, объемной картины устройства правовых систем. Таким образом, синергетический подход создает основу для научной и правовой толерантности.
Принципиально важным для понимания многовариантности путей эволюции правовых систем является положение о конструктивной и деструктивной роли хаоса. Как уже было описано, хаос предполагает нарушение связей между элементами, но поскольку сами элементы не разрушаются, возможно возникновение из этих элементов новой структуры. Таким образом, путь к развитию лежит через хаос, в котором уже содержится определенный набор возможных вариантов организации новой структуры. Но то, какой вариант будет реализован, зависит как от осознанного выбора типа правового регулирования, так и от случайности. Достаточно высока вероятность того, что отмечающийся учеными «дефинитивный хаос»47 и «доктринальный хаос»48 в современной правовой науке в целом и в административном праве в частности является отражением указанной закономерности трансформации сложноорганизованных систем. Это показывает, что современное российское право является не «ставшим», но «становящимся», а скорость развития процессов зависит от сложности и размеров системы.
Принцип заимствования должен быть непременно дополнен принципом сочетаемости отдельных правовых элементов или институтов, в противном случае, эклектичное сочетание даже самых лучших образцов мировой практики повлечет за собой отторжение отдельных элементов, либо неработоспособность всей системы. При заимствовании зарубежного опыта следует учитывать, что существует некая предопределенность, преддетерминированность развертывания описываемых процессов. Это связано с влиянием факторов прошлого и будущего самой реформируемой правовой системы.
С одной стороны, именно прошлое и настоящее состояние системы предопределяют реальность наступления того или иного сценария развития событий. Это означает, что возможны не любые варианты развития событий, а только те, которые предопределены прошлым данной системы, уровнем ее развития, готовности для внедрения с помощью сознательного управления тех или иных правовых механизмов. При этом обязательным условием правового сравнения является учет свойства «контринтуитивности» систем, которые могут активно «отторгать» не соответствующий их внутренней логике, хотя и очень успешный, опыт другой правовой системы.
С другой – настоящее состояние системы определяется не только ее прошлым, но и строится, формируется из будущего, в соответствии с грядущим порядком. Существует механизм притяжения к той или иной цели эволюции (аттрактору). Если траектория развития событий приближается к одному из вариантов, или иными словами, попадает в конус аттрактора, то система неизбежно эволюционирует к этому состоянию. Вернуться на исходные позиции невозможно, переход к качественно иному состоянию (аттрактору) возможен вновь только через нарушение равновесия. Поэтому так важно создать стабильные условия для формирования правового государства, чтобы пройти порог, после которого выбор иного варианта становится невозможным.
Следовательно, на основе знания закономерностей развития одних систем возможно стимулирование и ускорение желаемых эволюционных изменений в других правовых системах. В этом состоит объяснение творческой роли права, значения норм-принципов, деклараций, провозглашаемых целей. Конечно, само по себе провозглашение желаемых вариантов развития событий не окажет решающего влияния без соответствующей программы действий, но отрицать притягивающую функцию аттрактора нет оснований.
В заключение можно сделать следующие основные выводы:
– метод правового сравнения имеет глубокое философское значение, отвечая современному синергетическому видению мира как сложноорганизованной нелинейной системы;
– иерархичность (системность) мира означает, что все системы (явления) взаимосвязаны, поэтому не существует (во всяком случае, в течение значительного периода времени) изолированных систем, не испытывающих внешнего влияния;
– роль и значение метода правового сравнения состоит в том, чтобы основываясь на объективных закономерностях развития сложных систем, противодействовать чрезмерной унификации, одновременно поощряя гармонизацию и сохраняя многообразие национальных и территориальных правовых систем;
– в силу положения о системности мира сравнительно-правовой метод может рассматриваться достаточно широко, включая различные критерии для проведения правового сравнения;
– научные дискуссии по поводу различных критериев для проведения правого сравнения следует рассматривать не как конкуренцию взглядов, а как способ получения достаточно полной, взаимодополняющей, объемной картины устройства правовых систем и как основу для научной толерантности;
– принцип необратимости накладывает ограничения при заимствовании различных правовых исторических форм или институтов;
– в силу многовариантности развития мира именно прошлое и настоящее состояние системы предопределяют реальность наступления того или иного сценария развития событий, вместе с тем, это развитие строится, формируется из будущего, в соответствии с грядущим порядком.
4. Сущность государственного управления
Центральным и одновременно наиболее сложным и многозначным понятием российского и зарубежного административного права является понятие «государственное управление», в том числе достаточно дискуссионным моментом является вопрос о соотношении понятий «государственное управление» и «исполнительная власть».
Практически целое десятилетие в научной и учебной литературе продолжались дискуссии, посвященные данной проблеме, которые были связаны с понятием исполнительной власти, ее признаками, а также с ее содержательной деятельностью. В частности, дискуссия начиналась с обсуждения как терминов, так и содержательного наполнения. Вопрос о соотношении понятий «государственное управление» и «исполнительная власть» обсуждался большинством авторов, характеризующих предмет административного права49. Одни авторы полагали, что в новых реалиях не может существовать государственное управление и этот термин постепенно исчезнет50, другие считали, что вместо понятия «государственное управление» появилась новая категория – «исполнительная власть»51, третьи, ссылаясь на законодательство, указывали, что государственное управление сохранилось и как явление, и как правовой термин52. В ряде исследований отмечалось, что право на жизнь имеют обе эти государственно-правовые категории, в других работах ученые заменяли его понятием «деятельность исполнительной власти», либо «деятельность государственной администрации»53. В последний период появился термин «административно-правовое регулирование» для обозначения государственного управления в тех сферах, где сужается непосредственное государственно-властное воздействие54. В целом обобщение позиций ученых-административистов, как современных, так и исследующих данный вопрос в различные исторические периоды, приводит к выводу о терминологическом характере данной дискуссии. Не претендуя на единственно правильное терминологическое определение, следует отметить главный момент в данной дискуссии: совпадение мнения ученых в сущностном понимании данного соотношения: исполнительная власть реализуется в форме управления55 или содержание деятельности исполнительной власти составляют выполняемые ею управленческие функции56.
Второй существенный момент современных научных воззрений состоит в признании значения самого государственного управления и, соответственно, в возвращении данного термина в научный оборот57.
Представляется, что в период реформ 90-х гг. XX в. в России понятие управления, осуществляемого государством, его органами было в значительной мере искажено, носило негативный оттенок и отождествлялось с непосредственным властным воздействием, реализуемым с помощью командного типа управления. В результате, по меткому выражению Л.Л. Попова, ученые стали стесняться использовать этот термин58. Вместе с тем наука административного права вслед за теорией управления всегда различала сущность государственного управления (как воздействие на общество с целью его упорядочения), функции управления (регулирование, координация, руководство) и различные виды государственного управления, выделяемые в зависимости от методов воздействия. К последним можно отнести государственное управление, осуществляемое с помощью общего руководства и непосредственного распорядительства, командное и стимуляционное управление и т. п. Этот подход позволяет четко разграничивать само государственное управление, с одной стороны, и его функции, а также методы, с помощью которых оно осуществляется, с другой. Таким образом, не следует отождествлять само государственное управление с централизованным управлением социалистического типа, с отдельными функциями или методами. Методы могут и должны изменяться, функции – тоже, но это ни в коей мере не отменяет само государственное управление и дает основания для «ренессанса»59 этой фундаментальной категории административного права. Государственное управление – «форма государственной деятельности, сущность которой состоит в практическом исполнении определенными государственными органами законов в целях реализации функций государства»60.
Сущность и характерные черты исполнительной власти
Исполнительную власть характеризуют как относительно самостоятельную (в функционально-компетенционном смысле) ветвь единой государственной власти РФ, являющуюся атрибутом государственно-властного механизма наряду с законодательной и судебной ветвями власти, реализующуюся в общегосударственном масштабе в качестве специфической государственной функции правоприменительного (преимущественно позитивного) характера, имеющую субъектное выражение в органах исполнительной власти, организованных на началах федерализма, имеющую в распоряжении все наиболее существенные атрибуты власти, а именно, финансы, коммуникации, воинские формирования и т. п.61 Другие авторы указывают также на такие признаки, как вторичность, подчиненное положение, зависимость от высшей (имеется в виду политической) власти, распорядительный и принудительный характер деятельности62. Третьи акцентируют внимание на первичности исполнительной власти «с точки зрения административно-правовой логики», поскольку именно она воплощает государство, именно с ней постоянно сталкивается человек63.
Как можно видеть, в данном перечне преобладают признаки, характеризующие конституционно-правовой статус, т. е. место и положение исполнительной власти как ветви единой государственной власти, ее функцию и роль в государственном механизме, организационно-правовое выражение. Это совершенно справедливо и объективно необходимо, т. к. именно конституционные положения лежат в основе норм административного права. Тезис о значении и роли конституционных положений для административного права содержится в учебниках административного права большинства стран64, причем, как правило, этому важному вопросу посвящается специальный раздел учебников65. Классической для административного права считается формула, принадлежащая Фрицу Вернеру, в которой тот назвал административное право «конкретизированным конституционным правом»66.
Характеристика исполнительной власти как ветви государственной власти (т. е. в ее конституционно-правовом аспекте) дополняется также признаками содержательными (сущностными), тесно связанными с государственным управлением. Так, Д.Н. Бахрах указывает на организующий характер исполнительной (административной) власти, систематичность и непрерывность, направленность на сохранение социальной системы, ее укрепление, развитие, универсальность во времени и пространстве, объемную и иерархически построенную администрацию67. Н.М. Конин описывает признаки, характеризующие исполнительную власть и государственное управление следующим образом: социальное предназначение – исполнение общих предписаний, наличие специальных органов, управленческая деятельность по принятию и реализации управленческих решений68.
Одно из наиболее развернутых содержательно-организационных определений предлагается И.Л. Бачило в специальном исследовании, посвященном анализу этих явлений в их развитии69. «Исполнительная власть – ветвь государственной власти, выраженная системой органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление делами общества, обеспечивая его поступательное развитие на основе законодательства РФ и самостоятельной реализации государственно-властных полномочий исполнительно-распорядительного характера»70. Это определение позволяет автору сформулировать и понятие государственного управления в узком смысле. Государственное управление через систему исполнительной власти понимается как реализация исполнительно-распорядительной деятельности в области государственного управления органами исполнительной власти Российской Федерации в рамках закона в целях эффективного взаимодействия и функционирования социальных процессов, сфер, отраслей, отдельных объектов управления, обеспечения безопасности граждан, различных их ассоциаций и населения страны в целом в процессе поступательного движения гражданского общества, предотвращения и снятия возникающих конфликтов, обеспечения условий правового, социального и демократического развития страны71.
Таким образом, при описании и исполнительной власти, и ее деятельности различными авторами используются разнообразные признаки, которые можно (с некоторой долей условности) разделить на три группы:
– признаки, определяющие социальное назначение исполнительной власти (социально-политические);
– признаки, характеризующие исполнительную власть как ветвь единой государственной власти, а государственное управление как вид государственной деятельности (конституционно-правовые или юридические);
– признаки, относящиеся к основной деятельности исполнительной власти (их можно назвать содержательно-организационными).
К первой группе признаков, характеризующих социально-политическую природу, социальное предназначение исполнительной власти могут быть отнесены:
1. Управленческая деятельность исполнительной власти – это вид социального управления;
2. Цели деятельности исполнительной власти: а) стабилизирующие – обеспечение эффективного функционирования социальных процессов, коллективных и индивидуальных участников общественной жизни; б) направленные на развитие – обеспечение поступательного (постепенного, эволюционного) развития гражданского общества.
Конституционно-правовые признаки:
– по своему характеру это исполнительно-распорядительная деятельность;
– является деятельностью относительно самостоятельной (в функционально-компетенционном смысле) ветви единой государственной власти РФ как атрибута государственно-властного механизма наряду с законодательной и судебной ветвями власти;
– осуществляется через систему специальных субъектов – в первую очередь органов исполнительной власти, организованных на началах федерализма, а также других органов и организаций;
– реализуется в общегосударственном масштабе;
– проявляется в качестве специфической государственной функции правоприменительного (преимущественно позитивного, а также принудительного) характера;
– осуществляется на основе и в рамках закона (подзаконный характер деятельности);
– реализуется в специальной области – области публичного управления;
– имеет направленность на обеспечение безопасности отдельных граждан и населения в целом;
– осуществляется в целях обеспечения условий правового, социального и демократического развития страны.
Содержательно-организационные признаки:
– исполнительно-распорядительный (организационный), направленный на исполнение общих предписаний характер деятельности;
– систематичность и непрерывность;
– универсальность во времени и пространстве;
– объемная и иерархически построенная система субъектов (администрация);
– управленческая деятельность по принятию и реализации управленческих решений;
– наличие в распоряжении всех наиболее существенных атрибутов власти, а именно, финансов, материальных ресурсов, коммуникаций, воинских и иных формирований и т. п.;
– содержание государственного управления образует целая система взаимоувязанных функций.
Соотношение понятий «государственное управление» и «исполнительная власть»
Основные положения по вопросу о соотношении понятий «исполнительная власть» и «государственное управление», представленные в литературе, могут быть сведены к следующим тезисам.
Во-первых, государственное управление по своему назначению представляет собой вид государственной деятельности, в рамках которого практически реализуется исполнительная власть72.
Во-вторых, исполнительная власть – это абстрактная политико-правовая категория, указывающая на существование государственной власти, которая призвана исполнять законы, претворять в жизнь их правовые нормы, обеспечивать бесперебойное функционирование государственных органов, защищать права и свободы человека, поддерживать общественный порядок и безопасность73. Термин «государственное управление» имеет практический организационно-юридический смысл74.
В-третьих, понятие «государственное управление» – более широкое по сравнению с исполнительной властью, последняя в известном смысле производна от государственного управления, поскольку призвана определять объем и характер государственно-властных полномочий, реализуемых в процессе государственно-управленческой деятельности75.
В-четвертых, все субъекты исполнительной власти одновременно являются звеньями системы государственного управления, но не все эти звенья могут быть субъектами исполнительной власти в ее конституционном смысле76.
Казалось бы, эти положения должны внести определенность в понимание данного вопроса, однако, во-первых, это далеко не так, а во-вторых, совпадение представлений ученых относительно основных моментов не исключает дальнейших дискуссий по поводу конкретных деталей.
Представляется, что основная трудность сопоставления данных понятий обусловлена тем, что каждое из них продолжает оставаться многозначным. Следовательно, соотношение неоднозначно понимаемых категорий также не может быть однозначным.
Понятие «исполнительная власть» является частью более широкого понятия – «государственная власть». В определении власти можно выделить философско-политологический и правовой аспект. Отмечая невыясненность и спорность природы государственной власти, большинство зарубежных и отечественных ученых совершенно справедливо определяли власть как силу, способную подчинять, проявляющуюся в принуждающем воздействии государства (его органов) на граждан77. Этот общий политологический аспект далее конкретизировался самым различным образом, что позднее позволило исследователям выделить, по крайней мере, четыре понимания государственной власти: как волевого отношения, как органа государства, как функции, как совокупности полномочий78. Однако, как совершенно справедливо отмечалось, такое понимание не прибавляет ясности в вопросе о природе государственной власти как правовой категории79. Конкретность же в вопросе о соотношении государственного управления и исполнительной власти может быть достигнута только при их правовой определенности. Думается, что было бы неверным претендовать на единственно правильное и универсальное определение как государственного управления, так и исполнительной власти, поскольку каждое из предлагаемых в литературе определений подчеркивает важнейшие, на взгляд авторов, свойства и признаки этих явлений. Поэтому именно многоаспектный подход позволяет раскрыть в максимальной степени такие сложные категории. Следовательно, для наших целей сопоставимы могут быть только некоторые аспекты данных явлений, при условии, что они употребляются в одном понятийном ряду.
Во-первых, государственное управление в широком смысле (как деятельность всех органов государства) может быть соотнесено с государственной властью, а государственное управление в узком смысле – с исполнительной властью.
Во-вторых, государственное управление в широком смысле, понимаемое как упорядочивающее воздействие государства на общественные процессы, реализуется, осуществляется через государственную власть. При таком утверждении государственная власть рассматривается в философско-политологическом аспекте как сила, способная воздействовать упорядочивающим образом, в том числе, путем принуждения. Государственное управление в узком смысле осуществляется через исполнительную власть, которая в этом аспекте понимается как сила, способная воздействовать, чтобы организовать исполнение законов.
В-третьих, в политико-правовом смысле исполнительная власть представляет собой ветвь единой государственной власти, имеющую собственное институциональное выражение (систему органов) и функциональное предназначение – организующую или исполнительно-распорядительную деятельность (государственное управление в узком смысле).
В-четвертых, при таком подходе не представляется возможным сравнивать государственное управление и исполнительную власть по объему, определяя, какое из этих понятий шире или уже. Можно сопоставлять понятия «субъекты государственного управления» и «органы исполнительной власти», акцентируя внимание на институциональном содержании исполнительной власти. Можно также сопоставлять понятия «государственное управление» и «деятельность исполнительной власти», акцентируя внимание на функциональном аспекте.
В первом случае (институциональный или организационно-структурный аспект) следует согласиться с тем, что все органы исполнительной власти осуществляют государственное управление и поэтому являются субъектами государственного управления, но не все субъекты, осуществляющие государственное управление, являются органами исполнительной власти в конституционном смысле. В обоснование этого тезиса могут быть приведены два следующих момента:
1. Государственно-управленческую деятельность могут осуществлять не только органы исполнительной власти, но и органы местного самоуправления, реализуя делегированные государственно-властные полномочия, и иные субъекты (агенты), которым переданы в соответствии с законодательством определенные полномочия. Следовательно, понятие «субъекты государственного управления» шире понятия «органы исполнительной власти».
2. Следует специально отметить, что термин «исполнительная власть» в большинстве правовых систем используется, когда описываются все ветви государственной власти и анализируется их соотношение, т. е. это термин скорее конституционно-правовой. Когда же речь идет о предмете административного права – организации и деятельности исполнительной власти как субъекта управления, а не одной из ветвей власти, этот термин заменяется термином «государственное управление». Такой подход позволяет определять, в каком контексте описывается исполнительная власть, в каких отношениях выступают соответствующие органы – как субъекты политической жизни, равноправные органы различных ветвей государственной власти или как органы, осуществляющие специальный вид государственно-властной деятельности – государственное управление. В этом качестве они не называются органами исполнительной власти, а являются органами государственного управления. Например, в административном праве Германии отмечается, что правительство осуществляет в первую очередь политическое руководство, а затем уже описываются подчиненные ему органы государственного управления. Думается, что такой подход имеет серьезные преимущества как теоретического, так и практического характера. Использование подобного подхода в российском праве позволило бы точнее определять круг тех субъектов, которые осуществляют государственное управление, поскольку это могут быть органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, иные государственные органы, а также другие образования (учреждения, предприятия, общественные объединения и т. п.) при реализации ими переданных государственно-управленческих полномочий. Термин же «исполнительная власть» занял бы соответствующее положение при описании организации государственной власти и принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Выделение субъектов государственного управления позволило бы снять излишнюю политическую нагрузку с части ныне действующих органов исполнительной власти, предоставить им возможность осуществлять государственно-управленческую деятельность без угрозы реорганизации при смене политического руководства, а также без политических ограничений и требований, вытекающих из принципа разделения властей.