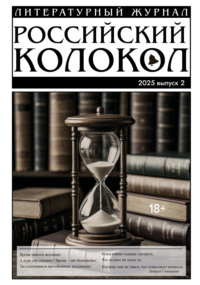Czytaj książkę: «Российский колокол № 2 (51) 2025»

Слово редактора
Чтобы не рвалась связь времён
И вечно-то мы недовольны временем, в котором живём здесь и сейчас! Почему-то кажется нам, что время это – самое неприятное, жестокое, скучное. Пессимистам кажется, что всё хорошее было только в прошлом, оптимисты с надеждой заглядывают в будущее. А где же он, этот миг между прошлым и будущим, в который вписана человеческая жизнь? Десятилетиями учат нас мудрые коучи, что надо жить исключительно здесь и сейчас: смотри только под ноги и не верти головой. Но приходит время – и открывается неожиданная истина: невозможна жизнь без прошлого и без будущего, такова сущность человеческая.
Так и в литературе. Читая о событиях прошедших лет, мы сквозь строки видим то, что за окном. Читая о современности, не можем не сравнить его с прошлым и не заглянуть в будущее – что день грядущий нам готовит.
Подумаем об этом вместе с авторами нового выпуска журнала «Российский колокол».
В рубрике «Время героев», посвящённой 80-летию Победы, мы продолжаем публикацию романа доктора наук, профессора, поэта, прозаика Дмитрия Необходимова «Город-герой» о защитниках Сталинграда. Писатель, публицист, поэт-песенник Василий Гурковский откроет читателям страшные будни оккупации военных лет – это фрагмент книги «Свидетель», детские воспоминания о пережитом.
Гордостью и болью за тех, кто сейчас с каждым днём приближает нашу победу, наполнены стихи лауреата поэтических конкурсов Ники Батхен и дважды финалиста поэтического фестиваля им. В. С. Высоцкого «Я только малость объясню в стихе» Андрея Степанова.

В рубрике «Проза» читателей ждёт знакомство с романом-хроникой «Великий Тимур». Автор романа Евгений Березиков, член Союза писателей России, написал множество романов, повестей, жизнеописаний святых ислама, а также книг о путешествиях по странам мира. В этом выпуске публикуется фрагмент романа.
О том, сколько и трагичного, и смешного в нашем неумении понять друг друга, вы прочитаете в рассказах Марины Демаковой и Вероники Шелленберг.
В поэтическом разделе журнала мы продолжаем знакомить читателей с фрагментами книги замечательного крымского поэта Валерия Митрохина «Авторский знак». Также вы встретитесь с произведениями лауреатов литературных конкурсов Николая Колупаева и Виктории Север, известных поэтов-бардов Алексея Ширяева и Александра Хохлова.
О событиях, которые происходят на грани между возможным и невозможным, о странных иных мирах и их жителях расскажут произведения, опубликованные в рубрике «Метафора». Это рассказы Ангелины Бабишовой, Александры Разживиной и Марии Седых.
Не так уж часто на страницах журнала «Российский колокол» появляются произведения для детей. Детективная повесть-сказка «Приключения мышонка-суперсыщика», созданная актрисой, писателем, сценаристом Еленой Коллеговой, порадует детей захватывающим сюжетом и удивит их родителей ироничной злободневностью.
В желании полететь на Луну, по существу, ничего фантастического нет – все хотят! Американцы в своё время даже сделали вид, что полетели. Но рассказ-дебют Аркадия Кохана «Человек, который хотел на Луну» удивит читателя интригующим сюжетом и непредсказуемым финалом. Здесь же, в разделе «Фантастика», читателей ждёт ещё одна завораживающая история писателя-дебютанта Ким Берг о том, к чему приводит чрезмерно здоровый образ жизни.
Сатира – жанр особый. Она не ублажает, не внушает, не наставляет – она пробуждает ленивое сознание, заставляя увидеть абсурдную сторону жизни. В этом выпуске журнала читайте рассказ Виктора Сумина на весьма актуальную тему.
В рубрике «Золотой фонд» читатель снова встретится с писателем, кинодраматургом и публицистом, лауреатом множества литературных премий Ириной Ракшой. Девяностые – годы не жизни, а выживания. И как сладко мечталось в то время о шальных миллионах. Вот и рассказ о том, как жилось и выживалось. А о чём мечталось?
Статья писателя и публициста Анны Лео в рубрике «Литературоведение» посвящена военной теме в литературе XX века и тому, насколько актуальной она представляется в наше время.
Раздел литературной критики в этом выпуске богат интересным материалом. Памяти Юрия Власова, олимпийского чемпиона, тяжелоатлета, человека колоссальной эрудиции и талантливого писателя, посвящён очерк писателя и публициста Александра Балтина.
Статья филолога, журналиста Елены Жуковой откроет для читателя творчество поэта Василия Стружа.
В подборке статей Александра Рязанцева вы познакомитесь с новыми книгами в жанре детектива.
Несомненно, интересными будут для читателя две рецензии на новый роман Карена Кавалеряна – два восприятия, два ракурса. Какова точка зрения журналиста, литературного критика и прозаика Александра Рязанцева? А что думают по этому поводу прозаики, публицисты, литературные критики Андрей Щербак-Жуков и Ольга Камарго?
Ответы на все эти вопросы вы найдёте на страницах второго выпуска журнала «Российский колокол – 2025». Счастливых открытий!
Ольга Грибанова,шеф-редактор журнала «Российский колокол»,филолог, прозаик, поэт, публицист
Время героев

Дмитрий Необходимов
Город-герой
17
Враг, усиленный более чем пятьюдесятью дивизиями, которые гитлеровское командование перебросило с Кавказского направления, а также армиями союзников фашистской Германии, вёл в те дни наступление на Сталинград по двум направлениям: с северо-запада – из районов Вертячий – Калач и с юго-запада – из района Аксай. При этом сама ширина Сталинградского фронта растянулась на более чем восемьсот километров. В первых днях августа под натиском неприятеля наши войска оставили Котельниково, а передовые части 4-й немецкой танковой армии развивали наступление на Абганерово и Плодовитое.
Жаркими были те летние дни и ночи августа сорок второго. Много было, как сообщалось потом в сводках, «малых и больших боёв». Только для солдата любой бой был «большим».
В те дни бои проходили по одному заведённому порядку. Почти всегда начинали немцы. Где-то в пять-шесть утра появлялась «рама», облетая наши позиции. Потом появлялись бомбардировщики, обычно юнкерсы. Тогда они не боялись наших зениток, да и истребителей, так как их почти не было.
Немецкие пилоты гнали свои ревущие машины чуть ли не до самой земли. Обычно они делали определённое количество заходов, от четырёх до шести, аккуратно, по-немецки, рассчитывая свои боеприпасы. Очень часто под конец они предпринимали ещё одну, психическую, атаку, сбрасывая на наши позиции дырявые железные бочки либо куски рельсов и арматуры, издававшие при падении нестерпимо резкие звуки.
После воздушной атаки начиналась наземная. Существенным отличием наших атак и контратак от немецких было то, что часто нам приходилось сражаться без поддержки с воздуха и от артиллерии. Сражаться яростно, до последнего бойца.
Иван вспомнил подвиг гвардейцев 40-й стрелковой дивизии в августе сорок второго. Шестнадцать человек защищали и удерживали склон высоты на плацдарме в малой излучине Дона. Все они погибли, но не отступили. Иван видел этот склон, буквально заваленный трупами фашистских солдат и офицеров. У подножия догорали шесть подбитых гвардейцами танков врага.
И таких примеров было много. И далеко не все из них, к сожалению, останутся в памяти народной. Некому было о них рассказать… Да, в те дни мы часто ценой больших потерь, за счёт живой силы подавляли позиции противника. Сколько раз Ивану приходилось видеть, как наше «Ура!» в таких атаках заглушалось грохотом разрывов, захлёбывалось в свинцовом ливне и тонуло в ураганном огне противника.
Немцы же берегли своих солдат.
«Вот чему бы у них надо поучиться, – думал Иван, – а не только “полезной практике” штрафных рот и заградотрядов».
Перед нашими контратакующими ротами вырастала стена огня. Пехота часто залегала или начинала отползать обратно к нашим окопам. После вступали в дело миномётчики с обеих сторон.
И так выглядел почти каждый день боёв.
Не таким был бой 7 августа сорок второго в районе хутора Верхнечирский. Этот день особенно запомнился Ивану. Ему казалось, что невозможно будет никому из них уцелеть в той яростной драке, когда смерть была повсюду и настигала бойцов и с воздуха, и с земли.
Накануне, за три дня до того боя, на их участке наступило неожиданное, но иногда случающееся на войне затишье. Это были благословенные, счастливые часы для бойцов и командиров, когда можно было отдохнуть, пополнить запасы и привести в порядок себя и инженерные сооружения. Но только не для разведчиков и артиллеристов. У артиллерии свои заботы, а у разведгруппы – свои. Командованию срочно требовалась информация о планах противника. Значит, нужен «язык».
Дед повёл их группу в разведку ночью. В темноте подползли к нейтральной земле. Кирюха-Монах ловко перекусил колючку, и вскоре все оказались у линии вражеских окопов. Охримчук беззвучно снял и оттащил в сторону часового.
Ещё заранее условились, что если получится, то займут позицию возле немецкого туалета. Феликс-Айбек, широко улыбаясь, говорил перед вылазкой:
– Фрицы – аккуратисты. Всегда себе шикарное отхожее место оборудуют, и чем оно комфортнее и обустроеннее, тем больше шансов, что им офицеры будут пользоваться. Там кого-нибудь точно возьмём.
Так они и сделали. Настроение у всех было какое-то задорное, азартное. Серёга-Флакон, пока ждали, то ли в шутку, то ли всерьёз вознамерился воспользоваться немецким туалетом и, получив внушительный, хоть и беззвучный тычок в спину от Деда, поначалу притих.
Но, видимо, тычка от старшины Флакону показалось мало, и он, придвинувшись вплотную, зашептал:
– Ну ты чего, Дед? Я же здорово придумал. Туалет смотри какой нарядный, явно для господ офицеров. Пойдёт фриц нужду справлять, откроет дверь, а там я на толчке сижу. Сразу его и оформим.
– Ага, – гневно, но уже явно смягчаясь, зашептал в ответ Охримчук, – он тебя как увидит, так и обосрётся сразу от страха. И до толчка не донесёт.
– Ну и что? – не унимался Флакон.
– А то, что нам его, обосранного, потом на себе переть. Об этом ты подумал, дурень? Нет уж. Пусть сначала дела все свои сделает. Нам же и нести его легче будет.
Ивану показалось, что Флакон еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. Да и у самого Ивана с лица не сходила улыбка.
«Это от усталости и нервного перевозбуждения», – решил он тогда.
А вообще чёрт-те что творилось на этой вылазке. Странная она была какая-то. То ли оттого, что все не отдохнувшие толком были, а до этого сильно вымотались, то ли оттого, что тихо очень было той ночью и туалет этот у немцев был сооружён на значительном отдалении от их постов охранения. Но только никогда такого не было. В первый и последний раз они так много разговаривали между собой в разведке, хоть и шёпотом, шутили и чуть ли не смеялись. Словно на всех сразу, и даже на Деда, помутнение рассудка какое нашло.
На их удачу, вскоре из землянки вышел офицер и направился в сортир. Там его и взяли, как говорится, чуть тёпленьким.
Когда с пленным стали уходить, началась стрельба и в воздух взлетели ракеты. Скорее всего, кто-то наткнулся на убитого часового. По немецким позициям открыли огонь наши миномётчики, решив, что разведгруппа уже на нейтральной полосе.
Пришлось залечь. В общем, обратный путь с «языком» занял несколько часов. Тогда слегка зацепило Монаха и Феликса. Монах мог передвигаться самостоятельно, а Феликса Ивану пришлось взвалить на себя. Они вдвоём сильно отстали от группы. Серьёзно им мешали миномёты, как с нашей, так и с вражеской стороны. Айбек постоянно что-то бормотал, тихо ругался и требовал:
– Брат, оставь меня. Я позже приползу. А так ведь обоих убьют.
Иван, каждый раз непроизвольно закрывая собой Айбека, когда мины с протяжным воем летели слишком близко от них, тихо огрызался:
– Помолчи. Я не брошу тебя. Скоро будем на месте. Это наши мины, они нас не тронут.
Феликс болезненно улыбался и шептал:
– Все мины одинаковые. Им без разницы, кого скушать. Сущность у них такая – людей гробить…
Кое-как добрались до своих. Потом за эту вылазку их всех представили к награде – каждый получил медаль «За отвагу». Главное, немец остался жив и дал потом ценные сведения.
А на ранней утренней заре следующего дня грянул бой.
Их разведгруппу отчасти спасло то, что Монах и Феликс направились в медсанбат, а остальные, вчетвером, какое-то время находились не на передовой, а при штабе, куда они передали немца.
Утром, около пяти часов, наши боевые порядки начали бомбить самолёты. Затем двинулись колоннами немецкие танки, их было больше сотни. За танками цепью шли немецкие автоматчики.
Грохотали, ревели моторами и лязгали гусеницами вражеские танки. Бой всё продолжался и продолжался. Непрерывно лупили по танкам наши бронебойщики, на отдельных участках в ход шли гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Немцы то накатывались, то отступали. Мы контратаковали, потом снова откатывались, отстреливаясь. И так продолжалось много часов.
Иван прицельно стрелял из окопа по движущимся автоматчикам из винтовки. ППШ1 был бесполезен в таком бою. А немцы всё лезли и лезли. К полудню враг взял в кольцо два стрелковых полка, угрожая зайти всей дивизии с тыла и в направлении переправы железнодорожного моста.
Никто из наших бойцов не дрогнул. Огонь на отдельных позициях затихал только тогда, когда никого там уже не оставалось, а миномёты, ПТР2 и артиллерийские орудия были смяты гусеницами немецких танков.
К вечеру, постоянно перемещаясь, но держа в поле зрения старшину Охримчука, Иван практически оглох от разрывов и грохота. Рядом бесперебойно матерился Флакон, стреляя и перезаряжая.
«Серёга из всей нашей разведгруппы самый меткий», – подумалось тогда Ивану.
Боковым зрением он отмечал, как после каждого выстрела Флакона обязательно падала, вскидывая руки, очередная тёмная фигура там, впереди. Сам Иван, хоть и считал себя достаточно метким стрелком, не мог похвастаться такой точностью.
Но вот ругань Флакона прекратилась. Он засопел, заворчал и заворочался, отползая в сторону от Ивана. Обеспокоившись, Иван немного приподнялся и хотел уже подбежать к, очевидно, раненому товарищу, как вдруг по противному свисту в воздухе понял, что опять полетели мины. И одна из них летит прямиком в его сторону. Упав и вжавшись в землю, Иван почувствовал сильный удар рядом. Его подбросило, чуть не перевернуло в воздухе и сильно приложило о землю. Свет в глазах померк, и Иван отключился.
Когда Иван, очнувшись, лежал на спине, слегка оглушённый, сжимая винтовку, в которой оставался последний патрон, он увидел над собой озабоченное лицо Деда. Тот хлопал его по щекам. Иван сел и наконец смог разобрать, что ему говорит старшина:
– Мы почти окружены. Надо выходить. Вон там видишь поле? Там рожь горит. Это единственный путь. Двигай в ту сторону! Кошеня уже туда побёг.
Охримчук и сам рванул в сторону горевшего поля. Иван собрался было бежать за ним, но вспомнил, что, до того как потерять сознание, он пытался найти Серёгу.
– Где Флакон? – сказал он вслух и, пошатываясь, побрёл в сторону. Туда, откуда в последний раз доносились ругательства Серёги.
Пройдя шагов семь, он споткнулся о неподвижно лежащего бойца и, потеряв равновесие, свалился прямо на него. Боец под ним крякнул и разразился проклятиями. Как был рад Иван слышать эту ругань! Это был Серёга. Живой! Иван, чувствуя, как широко растягивается в счастливой улыбке его рот, приподнялся над могучей фигурой сибиряка и проорал ему:
– Серёга! Чертяга! Жив! Ты чего ругаешься?
Взгляд Флакона начал проясняться:
– Это ты, Волга? Да жив вроде. Оглушило меня немного. Да и, кажись, зацепило немного. Бок чего-то мокрый весь.
Бок у Серёги был неглубоко оцарапан, но сильно кровоточил. Бурое пятно крови расползлось по всей гимнастёрке с левой стороны. Иван, разорвав медпакет, наскоро обработал и забинтовал рану.
– Идти сможешь? – спросил он товарища.
– Попробую, – ответил Флакон, морщась и подымаясь на ноги.
– Уходить вон туда будем. – Иван показал в сторону горевшего поля ржи.
Он подхватил Сергея под плечо, и они двинулись в сторону поля. Поддерживая Флакона, Иван шагнул, словно ныряя, в огонь. Подгоняемые жаром и огненными всполохами, задыхаясь от дыма, они, последними из их роты, устремились из почти сомкнувшегося вражеского кольца.
Было трудно дышать. В какой-то момент Ивану показалось, что это всё: им не преодолеть этой огненной преграды и, скорее всего, тут они или сгорят заживо, или задохнутся. Сергей не мог двигаться быстро, а хотелось бежать. Но Иван понимал, что не бросит здесь Сергея.
Похоже, Сергей отключился. Иван почувствовал, как тот наваливается на него всем телом. Напрягая последние силы, Иван тащил Флакона к маячившему вдалеке просвету. Хотя правильнее было бы сказать не «просвету», а «протьме», так как впереди среди огня угадывался тёмный проём. Туда и стремился сейчас Иван. От летающих вокруг искр одежда на нём начала тлеть и местами загорелась. Сбивая с себя и с Сергея огонь, Иван почувствовал, что боль как будто придаёт ему сил и подгоняет его.
– Ещё совсем немного, – скрипя зубами, шептал Иван. – Мы с тобой дойдём, дружище. Обязательно дойдём. Потерпи.
Но он понял, что ему не хватит сил. Страх начал сжимать горло. Голова стала кружиться. В этом кружении издевательски вертелись вокруг него языки пламени. И, несмотря на то что вокруг было светло и нестерпимо от обдающего жаром горящего поля, Ивана начала бить дрожь, как от озноба, а в глазах стремительно темнело.
Крепкие руки встряхнули его. Вмиг стало легко. Исчезла тяжесть навалившегося на него тела. Его самого подхватили и потащили к тёмному провалу в этой объятой огнём ржи. Это вернулись за ними Дед с Кошеней. Костя подхватил и тащил Ивана, помогая тому идти. Николай, легко перекинув через плечо Серёгу, словно невесомого понёс того из огня.
Их батальон, а вернее, то, что от него осталось, занял по приказу командования новый рубеж обороны.
А на следующий день бой продолжился.
Восьмого августа в четыре утра противник повёл вторичное наступление на боевые порядки их дивизии. Где-то к десяти утра дивизия, прижатая к Дону, начала переправляться через него по железнодорожному мосту. Артснарядами противник зажёг мост, и дивизия переправлялась по горящему.
«Опять отходим через огонь», – подумал Иван.
Их батальон в составе стрелкового полка уже переправился на тот берег. Вся их разведгруппа тоже была на восточном берегу Дона. Но тут вслед за нашими танковыми бригадами к мосту устремились танки противника. Чтобы не дать немцам овладеть мостом, решили его взорвать.
От всего сапёрного взвода остались только командир, младший лейтенант да пять человек личного состава. Поэтому в помощь сапёрам отрядили всех, кто мог быть полезен, включая всю разведгруппу, тех, кто оставался на тот момент в строю: Николая, Ивана и Костю. Остальные: Феликс, Монах и Флакон – были в медсанбате. Иван после вчерашней встряски пришёл в себя и от медсанбата отказался. Хотя его иногда пошатывало да немного кружилась голова.
Закончив минирование, сапёры вместе с разведчиками несли охрану моста, обеспечивая отход техники и готовя взрыв. В это время по мосту вдарили немецкая артиллерия и подошедшие вплотную танки. Матерясь и отстреливаясь, сапёры уже готовы были взорвать мост, но фашисты так яростно по нему лупили, что повредили кабели электросети, ведущие к зарядам. Возникла реальная угроза захвата железнодорожного моста фашистами.
Иван ничего не успел сообразить, как вся команда подрывников во главе с командиром сапёрного взвода бросилась на мост. К тому времени Иван с Николаем Охримчуком были далеко от моста. Там рядом ещё оставался Кошеня. Он крикнул им с Николаем:
– Братцы! Не поминайте лихом! – и устремился за сапёрами.
Иван видел, как все они забежали на обстреливаемый мост. Одного из сапёров ранило, и он упал. Кошеня обогнал раненого, наклонился, что-то взял у того и бросился вперёд.
А дальше на том месте, где только что был мост, Иван увидел взметнувшееся в грохоте взрыва грязное дымное облако вперемешку с обломками и фонтаном водяных брызг. Они взорвали мост огневым способом. Вместе с собой.
Так с остатками сапёрного взвода геройски погиб Костя Бакашов – наш Кошеня.
18
Константин Бакашов бежал на этот мост и понимал, что назад он не вернётся. Никуда он больше не вернётся. Он представлял, что будет потом там, на быстро приближающемся к нему, раскачивающемся в такт его движениям мосту. Вмиг созревшая решимость поступить именно так – помочь сапёрам взорвать этот мост, не пустить на него фашистов – оказалась сильнее всего. Сильнее страха, сильнее горячего желания жить, сильнее живущей в нём надежды. Она оказалась сильнее его самого, сильнее всего того, что было с ним.
А ведь он мечтал не взрывать мосты, а – строить.
Константин родился и вырос в Москве. Жили с мамой на Большой Молчановке. С их двора, с обволакивающего его с головы до ног запаха листвы и сирени и начиналась для Кости и сама необъятная Москва, и вся его жизнь. И роддом, где он родился в мае 1923 года, находился недалеко, на их улице. Мама часто, ведя за руку маленького Костю мимо этого большого и необыкновенно красивого дома, показывала на него и говорила:
– Вот здесь ты родился, сынок. Такой маленький и хороший был. Глаза голубые-голубые…
– А почему был? – каждый раз спрашивал её Костя. – А сейчас я что, не хороший?
– Сейчас ты ещё лучше! – смеялась мама. – Только теперь ты не маленький, а совсем большой у меня.
Запомнилось ему диковинное название этого роддома – «роддом Грауэрмана». Знал он, что все его приятели, да и вся ребятня с правой стороны Арбата, родились в этом «Грауэрмане».
Тепло ему было от царившей тогда дружелюбной и весёлой атмосферы арбатских дворов и переулков с их скверами и кустами, где играла детвора. С их прячущимися за оградками старинных особнячков цветами, источающими летом необыкновенный аромат.
Отца своего Костя не помнил. Знал только про него, что был он военным и умер молодым. Косте три года всего было. Отца ему заменил троюродный дядя Албури. Дальний в общем-то родственник по маминой линии, но ставший для Кости очень и очень близким. Дядя был для него не только дядей и отцом, но и старшим братом, и лучшим другом.
Дядя Албури приехал к ним из Дагестана. Там он учился и воспитывался: сначала – в детском доме, затем – в Дагестанском педагогическом техникуме. Потом его направили в Москву, на рабфак искусств. И дядя переехал к ним. Косте тогда было четыре года. Албури был старше его на тринадцать лет. Маленькому Косте он казался очень взрослым. Дядя Албури какое-то время жил с ним в одной комнате. После рабфака он поступил в Московский архитектурный институт. После успешного окончания института в 1935 году он стал жить отдельно от них, неподалёку. Костя постоянно бывал у него. Албури долгие годы работал в мастерской по проектированию зданий, потом – в Центральном проектном институте НКВД.
От дяди, видимо, проявилась в Косте страсть к архитектуре. Но, в отличие от него, Костю не интересовали здания. Его страстным увлечением были мосты. Ему хотелось знать о мостах всё. Любой мост представлялся ему таинственным, почти волшебным сооружением, призванным соединить то, что раньше не было соединено. И никак не могло бы соединиться, если бы не воля человека, построившего этот мост.
В самой Москве, его родном городе, стоящем на слиянии извилистых рек, которые причудливо пересекают весь город, мосты имели особое значение. Они упрямо преодолевали пустое пространство, соединяли дороги, объединяли улицы и проспекты разных районов в единое целое. Почти все московские мосты и мостики он хорошо знал «в лицо». Каменные мосты, Краснохолмские, Москворецкие, Устьинские, нарядный красавец Крымский мост, удивительный, захватывающий новый Смоленский метромост, Чугунный мост, Новоспасский, Даниловский и многие многие другие. Как старые, так и новые.
В последние годы за очень короткое время было построено с десяток красивейших мостов. Константин знал, что столько же в старой Москве было построено за пятьдесят лет. И каждый из новых мостов представлял собой крупнейшее сооружение и строился по своему оригинальному проекту. Много мостов было реконструировано.
Костя читал, что по объёму работ и по сложности любой из новых мостов может потягаться со всеми речными мостами старой Москвы вместе взятыми. А на общей площади лишь одного из новых мостов – Большого Краснохолмского – могли бы разместиться две трети всех прежних мостов Москвы.
Он и сам с замирающим сердцем наблюдал, как над Москвой-рекой строились мосты. На набережной, словно гигантские механические жуки, копошились огромные краны, хватали мохнатыми лапами-стрелами тысячепудовые стальные конструкции, как пушинки проносили их по воздуху и укладывали на места сборки. На его глазах рождалось чудо.
Мосты были для Кости живыми организмами. Каждый мост имел свою душу, а все вместе они составляли живую душу города. Ему казалось, что иной мост перекинут не только через пространство, но и через время, а может, даже открывает скрытый и невидимый для многих путь в другой мир, в иное измерение.
Поэтому, несмотря на страстное желание дяди, чтобы племянник его поступал в архитектурный институт, Костя уже всё решил: в июне сорок первого он будет подавать документы только в МАДИ – Московский автомобильно-дорожный институт. Он ходил на подготовительные курсы в МАДИ, сначала на Садово-Самотёчную, потом – в здание в Тверском-Ямском переулке.
Константин серьёзно готовился к поступлению на дорожно-строительный факультет института, чтобы потом учиться на кафедре «Мосты». И кафедру, и факультет возглавлял выдающийся учёный-мостовик профессор Евгений Евгеньевич Гибшман. Дядя Албури хорошо знал его. Именно Гибшман проектировал многие новые мосты, испытывал их и следил за их возведением в Москве и других городах СССР.
Самое интересное во всей этой истории было то, что к выбору будущей альма-матер Костю в итоге подтолкнул именно дядя. В 1938 году он вместе с другими архитекторами Госстройтреста работал над проектом здания Московского автодорожного института. Черновые наброски, выполненные в карандаше, дядя показывал Константину.
Костя был очарован и самим проектом здания, и общей идеей, и архитектурным решением: озеленённый парадный двор перед зданием (дядя называл его курдонёром) с цветниками и фонтаном откроет с шоссе вид на центральную пятиэтажную часть здания с шестиколонным портиком, а четырёхэтажные крылья вытянутся вдоль красной линии улицы по обеим сторонам этого парадного двора. Он живо представлял себе всю красоту и величие будущего здания. Оно должно было стать настоящим храмом, великолепным дворцом автодорожников и автомобилистов. И как же было ему не хотеть учиться именно здесь?
Дядя, смирившийся с выбором Кости, говорил ему:
– На строительство здания института уйдёт несколько лет. Как ни крути, быстро такую громадину не построят. Так что ты, скорее всего, не успеешь там поучиться. Сам считай: в сорок первом году поступишь, – дядя принялся загибать пальцы, – если будешь хорошо учиться, то в сорок шестом году окончишь обучение. А здание института как раз где-то в сорок шестом году только будет сдано.
– А я, может быть, ещё задержусь в институте, – протянул Костя.
– Как это? – не понял дядя. – На второй год, что ли, будешь оставаться?
Он улыбался. Но Костя ему туманно отвечал, что есть много разных способов задержаться в институте. Он и сам толком не знал, что это за способы, но уж очень ему хотелось учиться в этом дворце, который он себе представлял.
В 1939 году на Ленинградском шоссе, близ станции метро «Аэропорт», начались подготовительные работы по сооружению большого здания института. Они тянулись долго, почти два года. Но не суждено им было завершиться – началась война.
И вот он бежит взрывать вместе с собой этот красивый и ещё пока живой мост. Он бежал и неуловимой быстротой своей мысли понимал, что не суждено ему будет учиться в том храме, нарисованном карандашом. Догадывался, что храм автомобильно-дорожной науки всё равно будет построен. И будет он ещё прекрасней, чем тот, созданный на листке бумаги дядиной рукой.
А ему надо выполнить свою самую важную работу – разрушить то, что было создано людьми. Разрушить сейчас – ради жизни потом.
19
Непостижимая для людей распределённость одновременного существования в многомерном пространстве и времени была вполне постижима для города. Люди могли это только почувствовать, но вряд ли – понять. Так и он: мог только чувствовать людей. Претендовать на то, что он полностью понимает людей и понимает то, что ими движет, город никогда не стал бы. Но людей с городом объединяло время, в которое они существовали в нём. При этом сама природа этого времени не была до конца понятна городу.
«Есть ли кто-нибудь, кто способен понять истинную природу времени?» – думал город.
Скорее всего, само время не движется, то есть не «течёт» и не «проходит», как может показаться каждому живущему в нём. Это сам человек и сам город движутся и проходят по времени, преодолевая его подобно пространству. Это их и только их собственное движение. Это сложно понять до конца не только человеку с его коротким веком земной жизни, но и самому городу, долго уже существующему, много чего знающему и многое повидавшему. Так же как трудно понять, что прошлое, настоящее и будущее – эти три неисчислимые и неизмеримые ипостаси существования – в равной степени реальны.
Судьбы многих людей были удивительным образом связаны с его судьбой. Ему казалось, что он в состоянии вмешаться и повлиять, а может, даже изменить судьбу отдельного человека. А иногда – что отдельный человек может вершить его судьбу, судьбу целого города. Город считал, что в обоих случаях это предопределено. Поэтому он давно уже решил для себя, что будет по мере своих сил и возможностей вмешиваться в судьбы людей, помогая тем самым свершиться тому, что и так было неизбежно. Ибо по установленному свыше закону происходит в этом необъятном мире только то, что должно произойти.
Сколько себя помнил город, его история, независимо от того, какое имя в тот или иной период ему давали люди, всегда была историей человеческих войн и жесточайших сражений, перемежаемой недолгими периодами мира и созидания. Сама причина его появления на земле была связана с необходимостью для людей защищать родную землю от врагов. Во все времена город видел, сколь непомерно высокую цену – свои жизни – платят люди за это.
Понимая, что смерть у людей является формой перехода на другой уровень бытия, город, однако, хорошо знал, что сами люди не так воспринимают это. Для любого человека смерть – суровое и неимоверно сложное испытание.