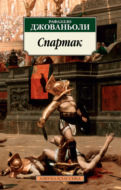Czytaj książkę: «Трилогия об Иосифе Флавии: Иудейская война. Сыновья. Настанет день»
© Ш. П. Маркиш (наследник), перевод, примечания, 1965, 1966
© В. О. Станевич (наследники), перевод, 1965, 1966
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®
Иудейская война
Книга первая
Рим
Шесть мостов вели через Тибр. Если оставаться на правом берегу, то можно было быть спокойным: здесь на улицах полно мужчин, по одним бородам которых вы уже видели, что это евреи; всюду попадались еврейские и арамейские надписи, а если вы к тому же немного знали греческий – то этого вполне хватало. Но как только вы переходили один из мостов и отваживались ступить на левый берег Тибра, вы попадали в большой буйный город Рим, вы – чужестранец, безнадежно одинокий.
И все же у Эмилиева моста Иосиф отпустил мальчика Корнелия, своего старательного проводника; он хотел наконец убедиться, справится ли один, проверить свою сообразительность и приспособляемость. Мальчик Корнелий охотно проводил бы чужеземца и дальше. Иосиф смотрел, как нерешительно он шагает обратно по мосту, и тогда, улыбаясь с шутливой приветливостью, он, еврей Иосиф, поднял руку с вытянутой ладонью и приветствовал мальчика римским жестом, и еврейский мальчик Корнелий, тоже улыбаясь, ответил ему тоже римским жестом, несмотря на запрет отца. Затем Корнелий свернул налево, за высокий дом; вот он скрылся из виду, теперь Иосиф – один, и теперь он убедится, чего стоит его латынь.
Пока что он знает: здесь перед ним Бычий рынок; вон, справа, Большой цирк, а где-то там, на Палатине и за ним, где кишит такое множество людей, император строит для себя новый дом; тут вот, влево, Этрусская улица ведет к Форуму, а Палатин и Форум – это сердце мира.
Он много читал о Риме, но сейчас от этого мало толку. Пожар, случившийся три месяца тому назад, сильно изменил город. Он разрушил как раз все четыре центральных городских квартала, свыше трехсот общественных зданий, до шестисот дворцов и особняков, несколько тысяч доходных домов. Просто удивительно, сколько эти римляне за такой короткий срок успели понастроить заново! Он не любит римлян, он ненавидит их, но он вынужден отдать им должное: организационный талант у них есть, есть своя техника. «Техника», – мысленно произносит он иностранное слово, повторяет его несколько раз на иностранном языке. Ну, он не дурак – он кое-что выведает у римлян об этой их технике.
Иосиф решительно пускается в путь. С любопытством и волнением вдыхает он воздух этих чужих домов и людей, во власти которых и вознести его, и оставить в ничтожестве. Дóма, в Иерусалиме, месяц тишри очень жарок, даже последняя его неделя; но здесь, в Риме, он называется сентябрем, и, во всяком случае, сегодня дышится свежо и приятно. Легкий ветер развевает его волосы; они чуть длинны – в Риме носят короче. Ему бы следовало быть в шляпе, ибо, в противовес римлянам, еврею в его положении подобает выходить только с покрытой головой. Да пустяки – здесь, в Риме, большинство евреев ходит с непокрытой головой, совершенно так же, как римляне, по крайней мере по ту сторону мостов. Если даже он будет ходить без шляпы, нерадивым евреем он от этого не станет.
Вот перед ним Большой цирк. Здесь все в развалинах, отсюда и начался пожар. Однако каменный остов здания остался нетронутым. Гигантская штука этот цирк! Нужно целых десять минут, чтобы пройти его в длину. Стадионы в Иерусалиме и в Кесарии тоже ведь не маленькие, но рядом с этим сооружением они кажутся игрушечными.
Внутри цирка идет напластование – камень и дерево, работы уже начались. Бродят любопытные, дети, праздношатающиеся. Его одежда еще не вполне соответствует требованиям столицы; и все же, когда он проходит вот так, не спеша, молодой, стройный, статный, с жадными до всего глазами, он кажется элегантным, щедрым, настоящим аристократом. Вокруг него толпятся, ему предлагают амулеты, дорожные сувениры, слепки с обелиска, который высится, торжественный и чуждый, в середине бегового поля. Профессиональный гид предлагает показать ему все достопримечательности, императорскую ложу, модель новой постройки. Но Иосиф с напускной рассеянностью отклоняет его услуги. Он бродит один между каменных скамей, словно был здесь, на бегах, завсегдатаем.
Внизу, очевидно, скамьи высшей аристократии, сената. Ничто не мешает ему сесть на одно из этих мест, которых так домогаются люди. А тут хорошо, на солнце. Он принимает небрежную позу, подпирает голову рукой, устремляет невидящий взгляд на обелиск.
Лучшего момента для осуществления своих намерений, чем сейчас, в эти месяцы после пожара, ему не найти. Люди в благоприятном настроении, восприимчивы. Та энергия, с какой император принялся отстраивать город, действует на всех оживляюще. Все зашевелилось, всюду бодрость, деловитость, воздух свеж и ясен, он совсем иной, чем тяжелая, душная атмосфера Иерусалима, где никак не удавалось пробиться.
И вот сейчас, в Большом цирке, на сенатской скамье, в приятном солнечном свете этих ленивых дневных часов, среди шума заново отстраивающегося Рима, Иосиф еще раз страстно, и все же трезво, взвешивает свои шансы. Ему двадцать шесть лет, у него все данные для блестящей карьеры: аристократическое происхождение, разностороннее образование, политический талант, бешеное честолюбие. Нет, он не желает киснуть в Иерусалиме, он благодарен отцу за то, что тот в него верит и добился его отправки в Рим.
Правда, успех его миссии весьма сомнителен. С юридической точки зрения Иерусалимский Великий совет не имел ни оснований, ни правомочий посылать по данному делу в Рим особого представителя. И Иосифу пришлось откапывать аргументы во всех закоулках своего мозга, чтобы эти господа в Иерусалиме наконец сдались.
Итак, три члена Великого совета, которых губернатор Антоний Феликс вот уже два года назад отправил в Рим в императорский трибунал как бесспорных бунтовщиков, несправедливо приговорены к принудительным работам. Правда, эти трое господ находились в Кесарии, когда иудеи во время предвыборных беспорядков сорвали императорские значки с дома губернатора и переломали их; но сами они в мятеже не участвовали. Выбрать как раз этих трех высокопоставленных старцев, людей совершенно неповинных, было со стороны губернатора произволом, возмутительным злоупотреблением властью, оскорблением всего еврейского народа. Иосиф видел в этом тот долгожданный случай, который даст ему возможность выдвинуться. Он собрал новые доказательства невиновности трех старцев и надеялся добиться при дворе или их полной реабилитации, или хотя бы смягчения их участи.
Римские евреи, как он уже успел заметить, вероятно, не будут особенно усердствовать, помогая ему выполнить его миссию. Фабрикант мебели Гай Барцаарон, председатель Агрипповой общины, у которого он живет и которому привез от отца рекомендательные письма, намеками, хитро, доброжелательно и осторожно разъяснил ему ситуацию. Ста тысячам евреев, находящимся в Риме, живется неплохо. Они в мире с прочим населением. И они смотрят с тревогой на то, что в Иерусалиме националистическая антиримская партия «Мстителей Израиля» начинает приобретать все большее влияние. Они вовсе не намерены рисковать своим положением, вмешиваясь в постоянные трения этих господ с Римом и императорской администрацией. Нет, Иосифу придется всего добиваться самому.
Перед ним идет напластование: камень, дерево, кирпич, колонны, мрамор всех цветов. Стройка растет почти на глазах. Когда он через полчаса или через час уйдет отсюда, она уже успеет вырасти, не намного – может быть, на одну тысячную своих окончательных размеров, но мера, точно намеченная на этот час, будет выполнена. Однако и он достиг кое-чего за это время. Его стремление вперед стало горячее, пламеннее, неодолимее. Каждый звук, доносящийся со стройки, каждый удар молотка или скрип пилы словно обтесывает, обстругивает и выпиливает его самого, хотя он и сидит с непринужденным видом на солнышке, такой же праздношатающийся, как и остальные. Немало придется ему поработать, прежде чем удастся вызволить трех невинных из темницы, но он этого добьется.
Он уже не кажется себе таким маленьким и ничтожным, как в день приезда. Уже не испытывает такого почтения перед мясистыми замкнутыми лицами римских жителей. Он увидел, что римляне меньше его ростом. Он ходит среди них, высокий, стройный, и римские женщины смотрят ему вслед не меньше, чем женщины в Иерусалиме и в Кесарии. Наверно, Ирина, дочь Гая, председателя общины, вошла в комнату – хотя и мешала отцу – только потому, что там находился Иосиф. У него ладное тело, у него быстрый, гибкий ум. Когда ему исполнился двадцать один год, университет при Иерусалимском храме удостоил его высокой ученой степени доктора; он овладел всей разветвленной и сложной наукой юридического и теологического толкования Библии. И разве он даже не прожил два года отшельником в пустыне у ессея Бана, чтобы научиться чистому созерцанию, погружению в себя и интуиции? Все есть у него, недостает лишь первой ступеньки на пути к успеху – благоприятного случая. Но этот случай придет, он должен прийти.
Молодой ученый и политический деятель Иосиф бен Маттафий сжал губы. «Подождите, вы, господа из Великого совета, и вы, гордецы из Каменного зала! Вы меня унижали, вы не давали мне ходу. Если бы к той сумме, которую вы согласились выдать мне из вашего фонда, мой отец не приложил еще своих денег, я не смог бы сюда приехать. Но теперь я здесь, в Риме, и я – ваш делегат. И уж я это использую, будьте уверены. Я еще покажу себя, господа ученые!»
Люди на трибунах что-то крикнули друг другу, поднялись с мест, все стали смотреть в одну сторону. С Палатина что-то спускалось, поблескивая, – большая толпа, глашатаи, пажи, свита, носилки. Поднялся и Иосиф, чтобы лучше видеть. Тотчас рядом с ним опять очутился гид, и на этот раз Иосиф принял его услуги. Оказалось – не император, даже не начальник стражи: просто сенатор или какой-то знатный господин, который пожелал, чтобы архитектор Целер показал ему новостройку.
Вокруг теснились любопытные, но полиция и слуги архитектора и его спутников сдерживали их напор. Ловкому гиду удалось пробиться вместе с Иосифом в первый ряд. Да, он сразу узнал по ливреям лакеев, пажей и скороходов, что это сенатор Марулл, пожелавший осмотреть цирк. Даже Иосиф знал понаслышке, что это за фигура; в Иерусалиме, как и повсюду в провинциях, об этом Марулле ходили чудовищные сплетни как об одном из первых придворных кутил, который руководил императором во всем, что касалось самых утонченных наслаждений. Впрочем, шел слух, что он – автор многих народных комедий, например дерзких обозрений, исполняемых прославленным комиком Деметрием Либанием. Жадно разглядывал Иосиф знаменитого вельможу, который, небрежно раскинувшись в носилках, слушал объяснения архитектора и время от времени подносил к глазу смарагд, служивший ему лорнетом.
Иосиф обратил внимание на другого господина: с ним обходились с особой почтительностью. Но можно ли было назвать его господином? Он вышел из своих носилок; одетый бедно и неряшливо, он, шаркая, бродил среди нагроможденных вокруг строительных материалов, толстоватый, с кое-как обритой мясистой головой и тяжелым взглядом сонных глаз под выступающим лбом. Рассеянно слушал он объяснения архитектора; то поднимет кусок мрамора, повертит его в жирных пальцах, поднесет к самым глазам, понюхает, опять отбросит; то возьмет у каменщика из рук инструмент, ощупает. Наконец он уселся на какую-то глыбу и принялся, кряхтя, затягивать развязавшиеся ремни обуви, сердито отстранив подбежавшего лакея. Да, гид знал и его: это Клавдий Регин.
– Издатель? – спросил Иосиф.
Возможно, что он и книгами торгует, но гиду об этом неизвестно. Он знает его как придворного ювелира. Во всяком случае, человек весьма влиятельный, крупный финансист, хотя одевается почти нищенски и нимало не заботится о численности и пышности своей свиты. И это очень странно: ведь он родился рабом, от отца-сицилийца и матери-еврейки, а эти выходцы из низов обычно любят пускать пыль в глаза. Уж можно сказать: для своих сорока двух лет этот Клавдий Регин сделал баснословную карьеру. При нынешнем предприимчивом императоре возникло множество коммерческих дел, крупных дел, и Клавдий Регин имеет в каждом свою долю. На его судах доставляется бóльшая часть хлеба из Египта и Ливии, его зернохранилища в Путеолах и Остии считаются достопримечательностями.
Сенатор Марулл и придворный ювелир Клавдий Регин разговаривали громко и без стеснения, так что первому ряду любопытных, в котором стоял и Иосиф, было слышно каждое слово. Иосиф ожидал, что эти двое людей, имена которых в литературных кругах всего мира произносились с почтением – ибо Клавдий Регин считался первым издателем Рима, – обменяются значительными мыслями об эстетической ценности нового сооружения. Он жадно прислушивался. Правда, уследить за их быстрой латинской речью ему было трудно, но он все же понял, что разговор идет вовсе не о вопросах эстетических или философских: они говорили о ценах, курсах, о делах. Отчетливо долетал из носилок высокий гнусавый голос сенатора, который спрашивал, весело поддразнивая собеседника, и притом так громко, что его слышали даже стоявшие в отдалении:
– А что, Клавдий Регин, на стройке цирка вы тоже зарабатываете?
Ювелир – он сидел в солнечных лучах, на каменной глыбе, положив руки на толстые колени, – ответил так же беззаботно:
– К сожалению, нет, сенатор Марулл. Я полагал, что при поставках для цирка наш архитектор взял в долю вас.
Иосиф мог бы услышать еще больше из беседы обоих господ, но ему мешали недостаточное знакомство с языком и отсутствие специальных познаний. Гид, и сам не вполне осведомленный, пытался ему помочь. По-видимому, Клавдий Регин, так же как и сенатор Марулл, в малозастроенных кварталах окраин заблаговременно скупил по дешевой цене огромные земельные участки; теперь, после пожара, император расчищал центр города для общественных зданий, и доходные дома были оттеснены к окраинам; поэтому трудно было даже точно определить, какую ценность приобрели эти окраинные участки.
– А разве членам сената не запрещено заниматься коммерцией? – вдруг спросил Иосиф гида. Тот растерянно взглянул на своего клиента. Некоторые из стоявших вокруг услышали, они рассмеялись; другие их поддержали, вопрос провинциала передавался дальше, и вдруг поднялся оглушительный хохот, хохотал весь огромный цирк.
Сенатор Марулл осведомился о причине. Вокруг Иосифа образовалось пустое пространство, он очутился лицом к лицу с обоими знатными господами.
– Вы чем-то недовольны, молодой человек? – спросил толстяк агрессивным, но не лишенным шутливости тоном; он сидел на каменной глыбе, вытянув руки вдоль массивных ляжек, словно статуя египетского царя. Ясно светило солнце, не очень жаркое, дул легкий ветерок, вокруг царило хорошее настроение. Многочисленная свита с удовольствием слушала беседу двух знатных римлян с провинциалом.
Иосиф держался скромно, но отнюдь не смущенно.
– Я в Риме всего три дня, – сказал он с некоторым трудом по-гречески. – Разве уж так смешно, что я не сразу разобрался в квартирном вопросе большого города?
– А вы откуда? – спросил не покидавший носилок сенатор.
– Из Египта? – спросил Клавдий Регин.
– Я из Иерусалима, – отвечал Иосиф и назвал свое полное имя: – Иосиф бен Маттафий, священник первой череды.
– Для Иерусалима недурно, – заметил сенатор, и трудно было понять, говорит он серьезно или шутит.
Архитектор Целер выказывал нетерпение, ему хотелось объяснить господам свои проекты, блестящие проекты, остроумные и смелые, и он не мог допустить, чтобы неотесанный провинциал помешал ему. Но финансист Клавдий Регин был любопытен от природы, он удобно сидел на теплом камне и выспрашивал молодого еврея. Иосиф охотно отвечал. Ему хотелось рассказать что-нибудь возможно более новое и интересное, придать себе и своему народу значительность. Бывает ли и здесь, в Риме, спрашивал он, чтобы здания заболевали проказой? Нет, отвечали ему, не бывает. А в Иудее, рассказывал Иосиф, это случается. Тогда на стенах появляются маленькие красноватые или зеленоватые углубления. Порой дело доходит до того, что дом приходится ломать. Иногда помогает священник, но церемония эта очень сложна. Священник приказывает выломать заболевшие камни, затем берет двух птиц, кусок кедрового дерева, червленую шерсть и исоп. Кровью одной из птиц он должен окропить дом семь раз, а другую птицу выпустить на свободу в открытом поле, за городом и тем умилостивить божество. Тогда считается, что благодаря этой жертве дом очищен. Стоявшие вокруг слушали его рассказ с интересом, большинство – без всякой насмешки, ибо их влекло к необычному и они любили все жуткое.
Ювелир Клавдий Регин серьезно рассматривал своими сонными глазами пылкого худощавого юношу.
– Вы здесь по делам, доктор Иосиф, – спросил он, – или просто хотите посмотреть, как отстраивается наш город?
– Я здесь по делам, – ответил Иосиф. – Мне нужно освободить трех невинных. У нас это считается неотложным делом.
– Я только боюсь, – заметил, позевывая, сенатор, – что мы в настоящее время настолько заняты строительством, что у нас не хватит времени разбираться в подробностях дела о трех невинных.
Архитектор сказал с нетерпением:
– Балюстраду в императорской ложе я сделаю вот из этого серпентина с зелеными и черными прожилками. Мне прислали из Спарты особенно хорошую глыбу.
– По дороге сюда я видел новостройки в Александрии, – сказал Иосиф, он не хотел, чтобы его вытеснили из разговора. – Там улицы широкие, светлые, прямые.
Архитектор пренебрежительно ответил:
– Отстраивать Александрию может каждый каменщик. У них просторно, ровная местность…
– Успокойтесь, учитель, – сказал своим высоким, жирным голосом Клавдий Регин. – Что Рим – это совсем другое, чем Александрия, ясно и слепому.
– Разрешите мне объяснить молодому человеку, – сказал, улыбаясь, сенатор Марулл. Он вдохновился, ему хотелось показать себя, как любил это делать император Нерон и многие знатные придворные. Он велел раздвинуть пошире занавески носилок, чтобы все могли его видеть – худое холеное лицо, сенаторскую пурпурную полосу на одежде. Он осмотрел провинциала сквозь смарагд своего лорнета. – Да, молодой человек, – сказал он гнусавым, насмешливым голосом, – мы еще только строимся, мы еще не готовы. Но и сейчас уже не нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы представить себе, каким мы станем городом еще до конца этого года. – Он слегка выпрямился, вытянул ногу, обутую в красный башмак на высокой подошве – привилегия высшей знати, – и заговорил, чуть пародируя манеру рыночного зазывалы: – Могу утверждать без преувеличения: кто не видел золотого Рима, тот не может сказать, что он действительно жил на свете. В какой бы точке Рима вы, господин мой, ни находились, вы всегда в центре, ибо у нас нет границы: мы поглощаем все новые и новые пригороды. Вы услышите здесь сотни наречий. Вы можете здесь изучать особенности всех народов. Здесь больше греков, чем в Афинах, больше африканцев, чем в Карфагене. Вы, и не совершая кругосветного путешествия, можете найти у нас продукты всего мира. Вы найдете здесь товары из Индии и Аравии в таком обилии, что сочтете тамошние земли навсегда опустошенными и решите, что населяющим их племенам для удовлетворения спроса на собственную продукцию придется ездить в Рим. Что вы желаете, господин мой? Испанскую шерсть, китайский шелк, альпийский сыр, арабские духи, целебные снадобья из Судана? Вы получите премию, если чего-нибудь не найдете. Или вы хотите узнать последние новости? На Форуме и на Марсовом поле в точности известно, когда в Верхнем Египте падает курс на зерно, когда какой-нибудь генерал на Рейне произнес глупую речь, когда наш посол при дворе парфянского царя чихнул слишком громко и тем привлек излишнее внимание. Ни один ученый не может работать без наших библиотек. У нас столько же статуй, сколько жителей. Мы платим самую высокую цену и за порок, и за добродетель. Все, что только может изобрести ваша фантазия, вы у нас найдете; но вы найдете у нас многое и сверх того, что ваша фантазия может изобрести.
Сенатор высунулся из носилок; его слушал широкий круг любопытных. Он выдержал до конца иронический тон, имитируя адвоката или рыночного зазывалу, но его слова звучали тепло, и все чувствовали, что эта хвала Риму больше чем пародия. Люди с восторгом слушали, как славословят город, их город, с его благословенными добродетелями и благословенными пороками, город богатейших и беднейших, самый живой город в мире. И, словно любимому актеру в театре, рукоплескали они сенатору, когда он кончил. Однако сенатор Марулл уже не слушал их, забыл он и об Иосифе. Он откинулся вглубь носилок, кивком подозвал архитектора, попросил объяснить ему модель нового цирка. Не сказал Иосифу больше ни слова и ювелир Клавдий Регин. Но когда поток толпы уносил Иосифа, он подмигнул ему насмешливо и ободряюще, и это подмигивание придало его мясистому лицу особое выражение хитрости.
Задумчиво, не замечая окружающего, наталкиваясь на прохожих, пробирался Иосиф сквозь сутолоку города. Он не все понял в латинской речи сенатора, но она согрела и его сердце, окрылила и его мысли. Он поднялся на Капитолий; жадно вбирал в себя вид храмов, улиц, памятников, дворцов. Из возводимого вот там Золотого дома римский император правил миром, на Капитолии сенат и римский народ выносили решения, изменявшие мир, а там, в архивах, отлитый из бронзы, хранился строй мира таким, каким его построил Рим. «Roma» означает силу. Иосиф несколько раз произнес это слово: «Roma», потом перевел на еврейский: «Гевура» – теперь оно звучало гораздо менее страшно; потом перевел на арамейский: «Коха» – и тогда оно потеряло всю свою грозность. Нет, он, Иосиф, сын Маттафия из Иерусалима, священник первой череды, не боялся Рима.
Он окинул взглядом улицы, становившиеся все оживленнее: наступали вечерние часы с их усиленным движением. Крик, суета, толкотня. Он впитывал в себя зрелище города, но реальнее, чем этот реальный Рим, видел он свой родной город, Каменный зал в храме, где заседал Великий совет, и реальнее, чем шум Форума, слышал он резкий вой гигантского гидравлического гудка, который на восходе и на закате солнца возвещал всему Иерусалиму и окрестностям, вплоть до Иерихона, что сейчас происходит всесожжение на алтаре Ягве. Иосиф улыбнулся. Только тот, кто родился в Риме, может стать сенатором. Этот сановник Марулл надменно взирает на людей с высоты своих носилок – рукой не достать, – ноги его обуты в красные башмаки на высокой подошве, с черными ремнями, – обувь четырехсот римских сенаторов. Но он, Иосиф, предпочитает быть рожденным в Иерусалиме, хотя у него даже нет кольца всадника. Римляне посмеивались над ним, но в глубине души он сам смеялся над ними. Всему, что они могут дать, эти люди Запада, – их технике, их логике – можно научиться. А чему не научишься – это восточной силе видения, святости Востока. Народ и Бог, человек и Бог – на Востоке едины. Но это незримый Бог: его нельзя увидеть, вере в него нельзя научить. Человек либо имеет его, либо не имеет. Он, Иосиф, носил в себе это ненаучимое. А в том, что он постигнет и остальное – технику и логику Запада, – у него не было сомнений.
Он стал спускаться с Капитолия. На его смугло-бледном худом лице удлиненные горячие глаза сверкали. Римляне знали, что среди людей Востока многие одержимы своим Богом. Прохожие смотрели ему вслед, кто – чуть насмешливо, кто – с завистью, но большинству, и прежде всего женщинам, он нравился, когда проходил мимо них, полный грез и честолюбия.
Гаю Барцаарону, председателю Агрипповой общины, у которого жил Иосиф, принадлежала в Риме одна из наиболее процветающих фабрик художественной мебели. Его главные склады помещались по ту сторону Тибра, в самом городе, лавка для покупателей попроще – в Субуре, и два роскошных магазина – на Марсовом поле под аркадами; в будние дни и собственный поместительный дом Гая в еврейском квартале, вблизи ворот Трех улиц, был набит изделиями его производства. Но сегодня, в канун субботы, от всего этого не оставалось и следа. Весь дом и прежде всего просторная столовая казались Иосифу преображенными. Обычно столовая была открыта со стороны двора; сейчас она отделялась от него тяжелым занавесом, и Иосиф был приятно тронут, узнав обычай своей родины – Иерусалима. Он знал: пока занавес опущен, каждый был в этой столовой желанным гостем. Но когда занавес поднимут и в комнату вольется свежий воздух, начнется трапеза, и кто придет тогда – придет слишком поздно. Освещена сегодня столовая была тоже не по-римски, а по обычаю Иудеи: с потолка спускались серебряные лампы, обвитые гирляндами фиалок. На буфете, на столовой посуде, на кубках, солонках, на флаконах с маслом, уксусом и пряностями сверкала эмблема Израиля – виноградная кисть. А среди утвари – и это тронуло сердце Иосифа больше всего – стояли обернутые соломой ящики-утеплители: в праздник субботы запрещалось стряпать, поэтому кушанья были приготовлены заранее, и их запах наполнял комнату.
Несмотря на то что окружающее напоминало ему родину, Иосиф был недоволен. Он втайне рассчитывал, что ему, как священнику первой череды и носителю высокого звания иерусалимского доктора наук, предложат место на одной из трех застольных кушеток. Но этому самоуверенному римскому жителю, как видно, вскружило голову то, что после пожара дела его мебельной фабрики идут так успешно, – он и не подумал предложить Иосифу одно из почетных мест. Наоборот: гостю предстояло сидеть с женщинами и менее почетными гостями за общим большим столом.
Непонятно, почему все еще стоят? Почему не поднимают занавес и не приступают к еде? Гай уже давно возложил руки на головы детей, благословляя их древним изречением: мальчиков – «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии!», девочку – «Бог да уподобит тебя Рахили и Лии!». Все охвачены нетерпением, проголодались. Чего еще ждут?
Но вот со двора, скрытого занавесом, раздался знакомый голос, из складок вынырнул жирный господин, которого Иосиф уже видел: финансист Клавдий Регин. Шутливо приветствует он на римский лад хозяина и древнего старика, отца хозяина – Аарона; он бросает и менее почтенным лицам несколько благосклонных слов, и Иосиф вдруг преисполняется гордостью: пришедший узнал его, подмигивает ему тусклыми сонными глазами, говорит высоким, жирным голосом, и все слышат:
– Здравствуй! Мир тебе, Иосиф бен Маттафий, священник первой череды!
И тотчас поднимают занавес, Клавдий Регин без церемоний занимает среднее ложе – самое почетное место, Гай – второе, старый Аарон – третье. Затем Гай над кубком, полным иудейского вина, вина из Эшкола, произносит освятительную молитву кануна субботы, он благословляет вино, и большой кубок переходит от уст к устам; он благословляет хлеб, разламывает его, раздает, все говорят «аминь» и только тогда наконец принимаются за еду.
Иосиф сидит между тучной хозяйкой дома и ее хорошенькой шестнадцатилетней дочкой Ириной, которая не сводит с него кротких глаз. За большим столом еще множество людей: мальчик Корнелий и другой сын Гая – подросток, затем два робких, незаметных студента-теолога, которые мечтают сегодня вечером наесться досыта, и прежде всего – некий молодой человек со смугло-желтым, резко очерченным лицом; он сидит против Иосифа и беззастенчиво разглядывает его. Выясняется, что молодой человек тоже родом из Иудеи, правда из полугреческого города Тивериады, что его зовут Юстом – Юстом из Тивериады – и что своим положением в обществе и своими интересами он до странности похож на Иосифа. Как и Иосиф, он изучал теологию, юриспруденцию и литературу. Но его главное занятие – политика; он живет здесь в качестве агента подвластного Риму царя Агриппы, и если род его по знатности и уступает роду Иосифа, то он с детства знает греческий и латынь; к тому же он в Риме уже три года. Оба молодых человека принюхиваются друг к другу с любопытством, вежливо, но с недоверием.
А там, на застольных ложах, идет громкая, непринужденная беседа. Обе пышные синагоги в самом городе сгорели, но три больших молитвенных дома здесь, на правом берегу Тибра, остались целы и невредимы. Конечно, гибель двух домов Божьих – испытание и великое горе, но все же председателей общин на правом берегу Тибра это втайне немножко радовало. Пять еврейских общин Рима имели каждая своего председателя; между ними шло яростное соперничество, и прежде всего между чрезвычайно аристократической Велийской синагогой на том берегу и многолюдной, однако неразборчивой общиной Гая. Отец Гая, древний старец Аарон, беззубо бранился по адресу надменных глупцов с того берега. Разве по старинным правилам и обычаям не следует строить синагоги на самом возвышенном месте, как построен Иерусалимский храм на горе, над городом? Но, конечно, Юлиану Альфу, председателю Велийской общины, нужно было, чтобы его синагога находилась рядом с Палатином, даже если из-за этого и пришлось поставить ее гораздо ниже. То, что дома Божьи сгорели, – кара Господня. И прежде всего кара за то, что евреи с того берега покупают соль у римлян, а ведь каждому известно, что римская соль красоты ради бывает смазана свиным салом. Так бранил древний старец всех и вся. Судя по обрывкам слов, которые Иосифу удавалось уловить в его бессвязном злобном бормотании, старец поносил теперь тех, кто ради моды и успеха в делах перекраивал свои еврейские имена на латинский и греческий лад. Его сын Гай, которого первоначально звали Хаим, улыбался добродушно и снисходительно; детям все же не следовало бы этого слышать. Однако Клавдий Регин рассмеялся, похлопал старика по плечу, заявил, что его с рождения зовут Регином, так как он родился рабом и ему дал имя его господин. Но его настоящее имя Мелех: Мелехом называла его иногда и мать, и если старик хочет, то пусть тоже зовет его Мелехом, – он решительно ничего не имеет против.
Смугло-желтый Юст из Тивериады тем временем подобрался к Иосифу. Иосиф чувствовал, что тот непрерывно за ним наблюдает, у него было такое ощущение, что этот Юст в душе над ним издевается, над его речами, его произношением, иерусалимской манерой есть, над тем, например, как он подносит ко рту душистую зубочистку из сандалового дерева, держа ее между большим и средним пальцами. Вот Юст опять задает ему вопрос этаким высокомерным тоном, присущим жителям мирового города:
– Вы, вероятно, здесь по делам политическим, доктор и господин Иосиф бен Маттафий?