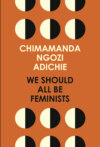Czytaj książkę: «Прощай, Анна К.»
* * *
© Манович Лера, 2021
© ТОО «Издательство „Фолиант“», 2021
Часть 1
Хочется любви
Будь тут, будь рядом
Я иду по черной тропинке, перешагивая мощные корни дубов. Из турбазовской столовой доносится запах котлет и свежеиспеченных булочек. Я ступаю неестественно медленно, как дрессированное животное. Сзади, с трудом переставляя негнущуюся ногу, ковыляет моя бабушка, главный бухгалтер Воронежского рыбзавода. Бывший главный. Это благодаря ей мы каждый год получаем путевку сюда, в маленький рай с огромными комарами, четырехразовым питанием и холодной речкой в пятнадцати минутах ходьбы.
– Вырубили бы давно к чертям собачьим! – бабушка зло тычет в корни палкой.
– Тогда деревья погибнут, – говорю я.
– Да и шут с ними! И так сырость – одно комарье. – Покраснев от напряжения, бабушка преодолевает очередной корень, своеобразно изогнутый, как щупальце осьминога.
Навстречу со стопкой чистого белья шагает мама. Веселая и легкая. Я с грустью думаю о том, что сейчас она заправит наши постели и уедет. А мы с бабушкой останемся.
В столовой аппетитная духота. Я быстро заканчиваю, ковырнув понемножку серую добротную котлету и салат. Бабушка ест жадно и подробно. Отдыхающие подобострастно здороваются с ней. Это в основном женщины, такие же низенькие и квадратные, как и бабушка, в босоножках на носок и в платьях с треугольным вырезом. По столам кочуют алюминиевые чайники с красной цифрой на боку. Из них в стаканы льется чай, крепкий и приторно сладкий. Наплевав на то, что у нее сахарный диабет, бабушка заканчивает ужин румяной булкой, обильно посыпанной сахаром.
Вся светская жизнь турбазы происходит вокруг столовой. Здесь есть площадка для игр, открытый кинотеатр и эстрада для танцев. Под навесом – шахматные доски на чугунных ногах, около досок толкутся мальчишки и сосредоточенно стоят с цигарками в зубах отдыхающие мужчины. Фигуры огромные и тяжелые, мальчишки услужливо перетаскивают их двумя руками. Каждый ход сопровождается ударом по металлу. Я подхожу ближе. Миттельшпиль. Моя любимая часть игры. Мужчина с глубокими морщинами ходит и ходит пешками, не замечая трехходовых выигрышных комбинаций. Я молчу. Я никого тут не знаю. Месяц назад я получила второй юношеский по шахматам. Наконец соперник морщинистого зевает ферзя и сдается.
– Кто следующий? – морщинистый удовлетворенно мнет окурок и бросает в урну.
Мальчишки мнутся возле угла доски, у g8h8. Выпихивают вперед тощего рыжего. Он жмется и прячется за их спины.
– Давайте я.
Мальчишки смотрят на меня, выпучив глаза.
Мужчина усмехается:
– Как ходить, знаешь?
– Естественно.
– Расставляйте, пацаны, – ехидно подмигивает морщинистый шахматист мальчишкам.
Мне дали белые. Как слабаку. Я решила не выпендриваться. Королевский гамбит. Просто и элегантно. Мой соперник начал терять темп с четвертого хода. На седьмом я выиграла пешку. На тринадцатом – слона.
Приковыляла, утирая потное лицо, бабушка. Долго смотрела на стол, но ничего не поняла. Спросила у мальчишек:
– Кто выигрывает-то?
Те с недоверием ткнули пальцами в мою сторону.
Самодовольно улыбаясь, бабушка обратилась к мужчине:
– Петь, ты не смотри, что она пигаль такой. Не обыграешь. Это внучка моя. У нее разряд.
Это сообщение, видимо, сломило волю моего противника, и на двадцать втором ходу он сдался.
Вообще я обаятельная. Это я не сама себя хвалю. Это статистика. Мужскому полу однозначно нравлюсь. Как-то один мужик ошибся номером. Я дома одна была. Ему скучно, мне скучно. Поговорили немножко. И он стал каждый день звонить. Ну, я привирала кое-что, все равно ж никогда не увидимся. А он заявил, что влюбился, и начал предлагать встретиться. Пришлось признаться, что мне двенадцать лет и все такое. Он не поверил. Не может быть, говорит, у тебя такой голос… сексуальный. В общем, у меня сексуальный голос и второй разряд по шахматам. И в математике я шарю будь здоров. Учебник для седьмого класса дали – так я его за вечер весь прорешала.
Еще у меня длинные волосы и джинсы. Правда, не голубые, а темно-синие, но все равно. Это мне бабушка привезла, когда ездила к родственнице в Серпухов. Кросы еще привезла. И майку махровую с широкими синими полосками. Я бы сожгла всю остальную детскую одежду и ходила только в этом. Бабушка ругается, что я порчу себе ноги в кроссовках, потому что на улице жара. Но после такой настоящей красоты просто нереально заставить себя ходить в детских босоножках фирмы «Прогресс» и ситцевом платье. Еще у меня голубые пластмассовые браслеты под цвет майки и пластмассовые розовые клипсы. Это мы с мамой купили в Прибалтике. Как будто ножницы вставлены в ухо. Все прямо офигевают и спрашивают: «Неужели вы так ухо прокололи?» А у меня даже дырок в ушах нет. Мама сказала. «Вот будет тебе восемнадцать лет – прокалывай что хочешь. Хоть жопу». И еще она сказала, что это сейчас немодно и только цыгане и всякая деревенщина прокалывают детям уши. Не знаю. Я очень завидую девочкам, у которых такие блестящие гвоздики в ушах. У нас в пионерлагере была Диана. Очень крутая. За ней все мальчишки бегали. У нее были гвоздики в ушах, а по вечерам она доставала пузырек с йодом и мазала шишки на больших пальцах. У нее, у ее мамы и у ее бабушки были огромные шишки на ногах. И она говорила, что их надо с детства мазать йодом, чтоб они не росли. Девочки, которые с ней дружили, тоже мазали ноги йодом. Я вспомнила, что у моей бабушки тоже есть эти шишки, но мазаться мне было неохота. Вообще, ту девочку звали Диана Иванова. Надо же так назвать.
Я пробовала приклеивать к мочкам ушей блестки, но они быстро отваливались.
Серега умный, но толстый. Макс шпингалет, меньше меня на голову. И переднего зуба нет. Остальные вообще мелочь пузатая. Лехе пятнадцать, он курит и все время улыбается, когда на меня смотрит. И в шахматы он проигрывает с улыбкой, не дергается и не злится, как остальные. Он ничего.
Бабушка клянет погоду и удобства на улице. Точнее, что их нет в домике. По ночам она ставит у двери железное ведро.
Я боюсь этого звука. Струя, бьющая в стенку ведра. Мне почему-то очень стыдно. Я зажмуриваюсь и затыкаю уши. Оно течет, течет, течет бесконечно долго и никак не кончается.
В общественном туалете по утрам дырки обсыпаны белым и пахнет хлоркой и лесом. Сидишь на корточках, комар, невидимый в тумане, с нежным писком садится на задницу. Кто-то скрипит досками и устраивается в мужской половине, за деревянной перегородкой. Хочется настоящей любви. Ну а что? Ничего смешного.
Эти идиоты дразнят нас с Лешей женихом и невестой и все время ошиваются около моего домика. Вчера мои трусы упали с веревки, и эти придурки их подобрали. Трусы были совершенно детские, ярко-желтые, и, как специально, они порвались по шву прямо на этом самом месте. Желтых ниток не было, и я зашила их черными. Довольно неопрятно. Думала, еще раз надену и выкину. И вот эти идиоты сперли старые желтые трусы, зашитые черными нитками. Стыдоба. У меня есть другие, новые, с цветочками. Немецкие. Я их потом демонстративно вывесила на то же место. Чтоб эти кретины поняли, что у девочки, носящей такие шикарные трусы, не может быть ничего общего с теми, желтыми. Можно было бы сказать, что это бабушкины трусы, но вряд ли они поверят.
Придурки долго бегали вокруг домика и спрашивали, не теряла ли я чего-нибудь. Я только презрительно поводила бровью. Перед ужином я увидела желтые трусы, они валялись под верандой. С королевской невозмутимостью я поддела их палочкой и выкинула в урну. У придурков был озадаченный вид.
Вечером шла с ужина. Трусы грустно лежали в урне. Мне стало их почему-то ужасно жалко, как будто я их предала.
Леша приглашает покататься на лодке. Бабушка сказала, что мы непременно перевернемся. Леша сказал, что он отлично плавает. Бабушка сказала, что эта пигалица (то есть я) плавает как топор, что было правдой, но все равно свинство так говорить. Я сказала, что надену на станции спасательный круг и буду сидеть в нем. Бабушка сказала, что разрешает только при условии, если она поплывет с нами. Я сказала, что тогда мы точно перевернемся. В итоге к бабушке пришла Лешина мама и все уладила.
После обеда мы поплыли на лодке. Я напялила самое красивое, что у меня есть: джинсы и кроссовки. Как специально, вжарило солнце. Мои ноги в демисезонных кроссовках стали совершенно мокрыми. Лешка был, как обычно, в клетчатой рубашке и стариковских просторных брюках. Он молча греб и щурился от солнца. Я ерзала на носу лодки. Мимо проплыло семейство с нашей турбазы. Леша помахал им рукой. Семейство ехидно заулыбалось. Я опустила руку в воду и, уцепившись за что-то склизкое, вытащила из воды лист вместе с длинным стеблем.
– Хочешь погрести? – спросил Лешка.
– Ага.
Мы поменялись местами, раскачивая лодку. Я села и стала шевелить веслами. Лодка ворочалась, как контуженая черепаха.
– Так, – сказал Лешка. – Меняемся назад.
– Нет, – сказала я капризно. – Научи меня.
На самом деле я отлично умею грести. Мы с родителями три года ходили на байдарках. Я даже знаю, что такое «табанить». Мне просто хотелось… ну, в общем и так понятно, что объяснять.
Он сел рядом, обхватил мои руки своими и сделал несколько гребков.
– А, – кивнула я. – Поняла.
И он сразу вернулся на корму. Я начала грести. Истерически быстро. Как будто с кем-то соревновалась. Ноги в кроссовках горели, под мышками вспотело.
Это была быстрая и неромантичная прогулка. Мы приплыли даже раньше, чем договаривались с бабушкой. Сдали лодку. Присели на скамейку на берегу.
Я посмотрела на свои ладони.
– Мозоль натерла.
Леха взял мою руку, оглядел по-хозяйски.
– Не страшно. Тут чуть-чуть.
Моя рука задержалась в его. В груди замерло.
– Видишь шрам? – Леша оттопырил большой палец.
– Вижу.
– Когда я родился, у меня был шестой палец.
– В смысле?
– Ну, такой типа палец еще. Только без костей. Как сосиска с ногтем. Его хирург – чик! – удалил и кожу зашил.
– А палец куда дели?
– Да никуда. Выкинули.
Я представила себе это все, и меня слегка затошнило. Леша улыбался и совал мне в лицо свой чертов палец. Он был редкостный болван.
– Пойду к бабушке, – сказала я.
За ужином бабушка выспрашивала, как мы поплавали.
– Нормально поплавали, – я распилила вилкой дымящуюся тефтелину.
– О чем говорили?
– О шестом пальце.
Бабушка удивилась:
– Это еще что такое?
– У Леши был шестой палец. Потом его отрезали. И выкинули.
– Страсть какая, – сказала бабушка недоверчиво и обратилась к нашему соседу по столу, старичку в обвислом пиджаке: – Андрей Ефимович, вам не кажется, что кефир несвежий?
Андрей Ефимович, поднося стакан к губам и предвкушая, чмокнул пустым, беззубым ртом. Отпил.
– Что-то, Анна Михална, не пойму.
Отпил еще с явным удовольствием.
После дня, полного разочарований, наступила страшная ночь.
Кефир был несвежий. Я изо всех сил делала вид, что сплю, пока бабушка с охами вставала, кряхтела, пытаясь взгромоздиться на ведро. Потом раздались звуки, по сравнению с которыми обычное журчание казалось симфонией. Я забилась под одеяло в надежде, что зло пройдет стороной. Но это было невозможно. Я была бабушкиным единственным близким человеком в лесу.
Сдерживая тошноту, спотыкаясь о корни деревьев, я бежала с ведром, в котором лежали огромные трусы и пострадавшая штора, к крану с водой, а в небе полыхали молнии и предгрозовой ветер срывал с деревьев листья.
Несмотря на раннее утро, было жарко. Как человек, которому после всего случившегося нечего терять, я надела ситцевое платье в мерзкий цветочек и сиреневые босоножки. Бабушка осталась довольна.
Издалека я увидела мальчишек, которые толклись у шахматного стола. Лешка играл с кем-то из отдыхающих. Судя по напряженному силуэту, он проигрывал. Макс и Серега уставились на меня, явно не узнавая. Леша смотрел на шахматную доску. Уверенная, что выгляжу как урод-переросток из детского сада, я все-таки подошла к ним. Макс и Серега захихикали. Лешка уставился во все глаза.
– Чё, играете? – непринужденно спросила я.
– Ага.
Лешка сделал короткую рокировку и снова уставился на меня. Я показала ему язык и сделала гадкий реверанс.
– Тебе в платье очень красиво, – сказал Лешка. И по глазам было видно, что он не врал.
Бабушка, чувствуя себя неловко после той ночи, стала мягче и даже отпустила меня вечером на дискотеку. Одну!
Весь день я жила в предвкушении вечера и даже зевнула ладью во время послеобеденной шахматной партии, которая стала традицией. Пришлось согласиться на ничью.
И вот наступил вечер. Я в джинсах и полной амуниции из браслетов, розовых клипсов-ножниц, с огромной пластмассовой заколкой-крабом в волосах, бежала в сторону светящихся огоньков, откуда уже доносилась музыка. Бабушка осталась в домике.
Вначале играли какие-то быстрые песни, и все, включая меня, одинаково переминались с ноги на ногу. Мальчишки принарядились в новые майки с яркими рисунками. Леша сменил рубашку на унылую коричневую водолазку. Но все равно был самый симпатичный. Серега и Макс толклись в танце вокруг меня и отпускали идиотские шуточки. Типа что я индеец тумбо-юмбо и прочее. Я не обращала на них внимания и все ждала, когда начнется медленный танец. И вот наконец, когда на улице стало темно, хоть глаз выколи, заиграл медляк. «Кавалеры приглашают дам», – объявил ведущий. Я как приличная дама отошла к стене. Эти придурки стали хихикать и толкать друг друга в бок. Но тут меня пригласил Лешка.
– Зимний сад, зимний сад, белым пламенем объят, ему теперь не до весны-ы-ы… – ныл из динамиков Глызин.
Лешка держал меня за талию, я еле дотягивалась до его шеи, и песня про зимний сад казалась мне самой прекрасной в мире. Танцевали всего три пары. Мы были как будто на театральной сцене. Из темных углов на нас смотрели завистливые глаза. Лешка прижал меня к себе, и я как-то машинально погладила его по спине. И тут раздался душераздирающий хохот. Я не обратила внимания, а хохот все усиливался. Казалось, человеку стало дурно.
Обернувшись, я увидела бабушку, которая сидела на скамейке, опираясь на клюку, а рядом с ней тетю Зою, нашу соседку по столику. Теть Зоя показывала на нас с Лешкой пальцем и истерично хохотала. Сконфуженная бабушка пыталась ее успокоить. Это был позор!
– Ба! Ты же сказала, что не придешь!
– Да я не собиралась, а потом смотрю, темень такая, а тебя все нет. А тут еще тетя Зоя зашла. Пошли, говорит, сходим на внучку твою поглядим. Ночь, а ты ее отпустила неизвестно куда.
Бабушка сидит, вытянув вдоль кровати негнущуюся ногу в перекрученном носке.
– А зачем она так смеялась? Она что – дура?
– Ей показалось очень смешным, что ты такая маленькая, а кавалер у тебя такой большой.
– Она меня опозорила! Вы вместе меня опозорили! – говорю я и отворачиваюсь к стене.
Я вижу бугристую грязно-желтую краску и присохших мертвых комаров. «Лампочка Ильича» уныло освещает комнату. Бабушка, отбрасывая на стену зловещую черную тень, снимает свой огромный бюстгальтер и вешает на спинку кровати. Потом с противным шелестом стягивает с потрескавшихся пяток носки и начинает мазаться вонючим лечебным кремом. Я зажмуриваюсь от ненависти. Я не хочу быть старухой.
Мы собираемся на речку. Стараясь не касаться бабушкиной кожи, я застегиваю бюстгальтер у нее на спине, покрытой бородавками. Отпускаю. Застежка пропадает в складке кожи.
Медленно ползем до речки по влажной тропинке. Все обгоняют нас, здороваясь. Бабушка вспотела, и ее облепили комары. Я обмахиваю ее полотенцем. Мы приходим последними. Я в мамином купальнике. Мне он очень идет. Вот только надо следить, когда выходишь из воды. У него старые резинки, и, когда он мокрый, трусы сползают вниз. Я в первый раз не заметила, зато Макс с Серегой заметили, что у меня там волоски. Радости были полные штаны. Идиоты.
Лешка купается в красных семейных трусах. Он широкий и гладкий. Рассматривать его мне почему-то неловко. Макс и Серега, в модных узких плавках, смеются над ним. Бабушка говорит, что он деревенский. Что деревенские не понимают плавок. Но он живет в городе.
Сегодня на речке я не могла понять, влюблена я в него или нет.
Льет дождь, и приехала мама. Точнее, они с отцом приехали, но он побыл совсем немножко и решил съездить к своему приятелю, который работает электриком в санатории неподалеку. Папа не любит общаться с бабушкой.
Я сижу и рисую человечков. Всяких королей и принцесс с трагической судьбой. Рядом пририсовываю их детей, которые быстро вырастают, быстро женятся и быстро сходят в могилу. Я придумываю, как они влюбляются и женятся. Я бы с удовольствием нарисовала какую-нибудь любовную сцену, но за спиной ходят мама и бабушка. Думаю о Лешке, и в животе приятно замирает. Но все равно Лешка – это что-то не то. Вот у меня есть нарисованные принц и принцесса, которые будто созданы друг для друга. А Лешка… Он хороший, но создан для кого-то другого. Не для меня. Не знаю, откуда я это знаю. Мама, словно угадав мои мысли, спрашивает:
– Ну и что этот Леша? Нравится тебе? – И смотрит внимательно.
– Угу.
– В смысле тебе с ним интересно, или что?
– Интересно.
– И ему с тобой интересно?
– Угу.
– Просто диву даюсь, что он в этом свистке нашел, здоровый такой, – подключается бабушка.
Свисток – это я. После случая на дискотеке я не хочу обсуждать с бабушкой свою личную жизнь.
– А учится он в каком классе? – миролюбиво спрашивает мама.
– Окончил восьмой и собирается в ПТУ, – возмущенно говорит бабушка. – Забубённый малый с Левого берега. А наша… двенадцать лет, отличница, шахматистка.
– Бабушка! – не выдерживаю я. – Я что, замуж за него собралась?!
Мама улыбается:
– Не собралась?
– Нет, – сердито говорю я и замалевываю принца.
– А зачем он тебе? – опять с улыбкой говорит мама.
– Так… развлечься, – отвечаю я.
Бабушка садится на табурет:
– Нет, ну ты слышишь, что городит? Забирайте эту пигалицу к свиньям собачьим!
Разумеется, ни к каким собачьим свиньям никто меня не забрал. Мама и папа сплавили нас обеих на две недели и не готовы были отказываться от удовольствия пожить без бабушки. А заодно и без меня. Я слышала, как мама сказала бабушке, что уверена в моем благоразумии. Бабушка сначала долго и обиженно сопела, а потом заявила, что на следующий год со мной не поедет.
Сегодня предпоследний день смены. Завтра в два часа приедет автобус и развезет всех домой. До этого нужно будет подмести пол и сдать грязное белье, сложив все в наволочку.
Мы с Лешей лежим над обрывом, под раскидистым кустом. Внизу, как серебряный удав, изогнулась река Воронеж. Моторные лодки, которые сверху кажутся крошечными, бегут по ней, оставляя легкий след в виде острого угла.
– Когда я был совсем маленький, моя мать была худенькая и красивая, – сказал Лешка. И добавил: – Как ты.
– Она же блондинка, – сказала я, недоумевая, как полная женщина с кирпичным румянцем могла хоть когда-то быть похожей на меня.
– Она была как девочка. Как ты.
– А.
Лешка стал рассказывать про мать. Как она полюбила Лешкиного отца. Как родился Лешка. Как отец потом начал пить и совсем ушел. И как мать стала толстой и некрасивой. Я не знала, зачем он это говорит и какое отношение это имеет к нам. Но я сказала:
– Понятно.
– Что понятно? – спросил Лешка.
– Ну, все.
Лешка протянул руку и подложил мне под голову. Я чувствовала мягкую ткань его старой рубашки и легкий запах пота.
– А кем она работает? – спросила я.
– Кто?
– Твоя мать, кто еще.
– Маляром.
– Кем?
– Маляром, – смущенно повторил Лешка. – Она классный маляр.
– А зачем на рыбзаводе маляр?
Лешка громко засмеялся. Потом замолчал. Мне было все равно, зачем на рыбзаводе маляр. Мало ли. Может, они жирными руками хватаются за стены, и их надо все время белить.
О чем думал в этот момент Лешка, я не знаю. Мне казалось, что в его плече под моей головой билось сердце. Быстро-быстро. Он потрогал мое лицо. Шею, щеку, губы. Провел по губам пальцем, и от этого мое сердце тоже забилось быстро-быстро. Он приподнялся на локте, наклонился надо мной. Я прикрыла глаза. У поцелуя был вкус обеда, сигарет и чего-то еще. Не противного, но совсем чужого. И больше ничего. Лешка взял мою левую руку, провел ею по себе, я почувствовала под пальцами пуговицу на его брюках. Потом он вложил мне в руку что-то, я вздрогнула и резко села.
– Прости-прости, – сказал Леха чужим, испуганным голосом и застегнулся.
На реке три раза прогудел пароход. В столовой над обрывом хлопнуло окно. Запахло булочками. Мне почему-то захотелось туда, в звенящую вилками и ложками духоту с белыми скатертями, к горячим пронумерованным чайникам и некрасивым официанткам. Еще я подумала, что скоро сентябрь, а я решила только две шахматные задачи из шестидесяти, заданных тренером на лето. И что пойду осенью в шестой класс. Все было просто и понятно. И мне вдруг захотелось все это решать, читать и делать. Страшно признаться, мне захотелось к бабушке.
И тут же, будто она услышала мои мысли, сверху раздался ее вопль:
– Лера? Лера, ты где?
Я выглянула из-под куста и увидела знакомую палку и исковерканный артритом родной башмак.
– Я здесь! Ба-а! Я здесь! – заорала я и, цепляясь за траву руками, выдергивая ее с корнями и песком, стала карабкаться наверх.