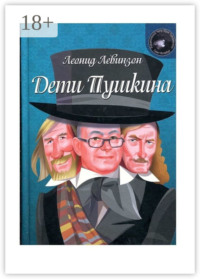Czytaj książkę: «Дети Пушкина»
© Леонид Левинзон, 2022
ISBN 978-5-0055-9719-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дети Пушкина
Я ехал в автобусе и среди одетых по-зимнему людей увидел девочку в зябкой жёлтой кофточке. Хвостик волос сзади, бледные очёчки, она с любопытством посматривала по сторонам. На тонкой шее для красоты чёрная узкая нейлоновая ленточка, аккуратно отделяющая верхнюю часть шеи с головой от жёлтой кофточки и голых по плечи рук, держащихся за поручень переднего сиденья.
– Дяденька, а где улица Штерн? —
– Ещё две остановки, а кто, девочка, там у тебя живёт?
– Я пирожки бабушке везу, видите, корзинка на коленях. Ещё тёплые, мама только что испекла.
– Я там выхожу, могу проводить. А в каком доме бабушка?
– Ой, спасибо! В тридцать девятом.
Мы спрыгиваем в потёки глины от раскопанной рядом траншеи. На автобусной остановке, одна из сторон которой сожжена, две бабки жмутся друг к дружке.
– Мой муж, – говорит одна, – лысый. И сын лысый. И другой сын лысый. И внук лысый.
– А у меня муж лысый, – говорит другая.
– Кто лысый? – Вдруг не понимает первая.
И обе озадачено смотрят друг на друга.
– Ну, пойдём? – Спрашиваю я.
Но девочка бросается к одной из старух:
– Бабушка, я тебе пирожки привезла!
Бабка недоумённо смотрит:
– Ты кто? Чья?
– Я пирожки от мамы привезла! – Кричит девочка. – Ты моя бабушка!
– Глупости, какие! – говорит бабка. – Иди отсюда. Какие пирожки?
Девочка ревёт во весь голос, и я увожу её в подъезд, где на стене низко и криво висит зеркало в коричневом пластиковом ободке.
– Я помогу тебе, – шепчу, – не расстраивайся, я сам съем твои пирожки и выведу тебя с улицы Штерн. Я даже могу быть твоей бабушкой, если хочешь, и за это мне ничего не надо: ни твоё детское дыхание, ни трогательное расположение к незнакомому человеку, ничего кроме. Ты просто снимешь и подаришь мне эту притягивающую внимание ленту и поклянёшься никогда больше не украшать себя чёрными полосками. Я же сделаю из ленты бант. Куплю венозные розы с длинными колючими стеблями, оберну их в шелестящий целлофан и прикреплю на него чёрный бант с твоей шеи. Я понесу цветы на кладбище в Гиват-Шауль, над которым в небе летает и каркает вороньё, на могилу одной девушки. Она писала странные стихи та девушка и кололась. Знаешь, девочка, я её не знал. Я с ней ни разу даже не разговаривал. От стихов и наркотиков она подурнела, груди её, заполненные той жидкостью, которую она закачивала себе в вены, обвисли, её, верно, трахала всякая блядь. А теперь, девочка, снимай ленту, не задерживайся, а пирожки можешь выкинуть в помойку, там им самое место.
Девочка резко отшатывается и со всей силы кричит, отражаясь в зеркале:
– Дурак, все дураки! Я вырасту и вам покажу!
Скатываются солёные лёгкие слёзы. Трёт кулачками глаза.
– Глупая, – смеюсь, – зачем испугалась? Посмотри на меня, ну же? Ведь моя фамилия – Андерсен!
Но девочка опрометью выбегает. Теперь она будет бежать, а потом, запыхавшись, идти вверх между склонов холмов, где впритык друг к другу стоят нелепые, на ходулях, дома с высунутыми языками подъездов, и сладковатый запах переполненных помоек будет бить ей в ноздри. Ей встретится по дороге сгоревшая до дыр машина у пятьдесят четвёртого дома и толстый старик, благостно сидящий на подушке у пятьдесят восьмого, и через каждые пятьдесят метров квадратные странные, закрытые ржавыми дверьми, сооружения – бывшие мусоросборники. Сверху на этих мусоросборниках растут какие-то дикие злаки, поздней весной и осенью приобретающие пронзительный жёлтый цвет. Добрые жители кидают в эти тонковыйные, шелестящие сухим треском при ветре растения высококалорийный белый хлеб, и омерзительные голуби жрут его сутками.
– Девочка, – продолжаю я вслед, – ты благополучно окончишь школу, поступишь в университет, будешь много читать с экрана компьютера, найдёшь престижную работу, и никогда, слышишь, никогда не вспомнишь ни о чёрной ленте, ни об этой встрече.
Девочка вздрагивает и оборачивается. Взгляд её встревожен. Губу закусила. Но сзади только нескончаемая разрытая траншея и горбом красная земля из неё. Какой-то старик поднял руку и машет, машет…
То ли ей, то ли нет? Может зовёт, может отталкивает?
Почему же я подошёл? В зимнем автобусе, одетая в тоненькое платьице и кофточку ты напомнила мне о будущем. О нём пока ещё никто не знает. И я не знаю… Слышите? Всё громче, громче кричит птица Зиз.
Пора!
1.
Чёрная корова-ночь со звёздами на животе опустилась. От сосцов её, от вымени её духота и влажность. И только тёмная роскошная масса воды, откликающаяся своими волнами на призыв одинокого маяка в в старом Яффо, приносит ветер и облегчение. С женщиной Жанной мы сидели на пляже, опираясь спиной на сложенные шезлонги, и её горячее колено касалось моей ноги. Мы только что познакомились в монструозной центральной автостанции, наполненной бэушными шмотками и дешёвой русской музыкой, и прошли, раздвигая ночь плечами, по улице, названной в честь английского генерала, к морю. Купили две бутылки холодного росистого пива. Сели.
– Что такое Хайникен? – Я спросил.
Жанна искоса посмотрела и облизнула губы.
Хайникен, не Хайникен, какая к чёрту разница? Я поцеловал Жанну и она ко мне придвинулась. У Жанны были маленькие тёплые груди и весьма удобная короткая юбочка для последующих действий. Я так скажу, в Тель-Авиве всё просто. Поэтому Хайникен, не Хайникен, какая к чёрту разница?
Исчезли звёзды, я закурил. Жанна сидела молча, рассеяно набирая в ладонь песок.
– Когда-то у нас была замечательная свадьба, – неожиданно сказала, опустив голову, – все танцевали, веселились, около нашего стола сидели огромные собаки и таращили глаза. Было смешно и сладко. – Стряхнула песок и разровняла. – Вчера ночью прижалась к мужу, а он вдруг оттолкнул и рявкнул: отставить! – Опять набрала песок, и песок просыпался сквозь пальцы. – Он у меня долго был военным.
– Ты хоть позвонишь? – Спросила на остановке.
Я замялся.
Она дёрнула плечом и села в тесноту маршрутного такси, отправлявшегося в Бат Ям.
Я поднял руку. Жанна мимолётно улыбнулась, преобразив своё узкое лицо, и оставила меня наедине с освещёнными витринами.
Ночь дышала, невидимое, но ощущаемое море подпитывало влажностью, вовремя появившийся ветерок приятно обдувал лицо. Взяв сандалии в руку, босыми ногами я шёл по Алленби. Вокруг кружили огни, взрывалась и отдалялась музыка баров, девчоночьи духи щекотали обоняние. При этом не оставляло ощущение огромного молчаливого взгляда, в котором утопало биение собственного сердца и весь безумный танцующий город.
Я остановился и набрал номер.
– Матвей, ты где?
Медленный с запинкой голос:
– В гостях. Приходи.
– А куда?
– Думаешь, я знаю?
– Ну, опять… – Я улыбнулся.
Матвей со своим сильно вылепленным немолодым лицом, замедленными движениями, печальными глазами, распространяющий поле молчаливого обаяния, из-за пристрастия к водке и женщинам постоянно умудрялся попадать в невозможные ситуации. Вся его жизнь была невозможной ситуацией, которую он с успехом усложнял и усложнял.
– Здравствуйте, Алёша! – Мягким тембром. – Мы живём около центральной автостанции, чуть налево по Левински, дом двадцать девять, позвоните, когда будете подходить. Как вас узнать?
– По глазам.
Недоумённое молчание.
– Ладно. Не важно. – Решила женщина. – Я выйду.
Я купил ещё бутылку Хайникена и пошёл, держа сандалии, к центральной автостанции. Но, по мере того, как гигантское здание вырастало из темноты узких восточных улочек, меня охватил страх – это исполинское чудовище с бордово-красными колоннами-ногами было ужасно. Казалось, сейчас оно выхаркнет из себя всю напиханную внутрь суетливыми тараканами бэушную шелуху, двинется, сминая коричневые сырые дома с отставшей штукатуркой, и стекло будет весело сыпаться на мостовую. Поведёт вокруг открывающимися налитыми кровью глазами и заревёт так, что где-то далеко-далеко не менее страшным криком ему откликнется птица Зиз.
– Так, спокойно, спокойно… – Сказал я себе, отшатнувшись от далеко выброшенного вперёд окаменевшего языка, по которому днём скатываются зелёные, так легко взрывающиеся, автобусики. – Я просто здесь не пойду.
И, опасливо посмотрев, надел туфли – вдруг, что случится, а я босиком.
Взял резко влево, обошёл по дуге, минуя ночные лавки с их хитрыми как змеи и простыми, как решётки на окнах, хозяевами, позвонил, женщина показалась. Здравствуйте! – Мило сказала. Чуть картавит, надо же…
– Алексей.
– Мила.
– Сюда?
– Да, мы уже год здесь живём.
Открыли дверь, ударил свет.
Матвей спал на диване, два каких-то мужика перебивали друг друга. Телевизор мигал.
– Котлеты будете?
– Нет.
– Что значит – нет? Конечно, будете!
– Между прочим, гость пришёл! – Обратилась к мужчинам.
Те повернулись.
– Костя – Молодой парень со смешным чубчиком.
– Алик. – Мятый длинный мужик с начинающими редеть кудрявыми волосами. Усишки, майка неопределённого цвета, узкие клетчатые брючки настолько подтянуты, что видны грязные белые носки.
– Вкусные котлеты, Мила.
Мила улыбнулась. У неё приятное лицо, у Милы, и ждущие глаза. Под глазами усталые тени. С левой стороны побольше, и чуть щека опухла.
– А ваш Матвей пришёл и спит. – Сообщила.
– Да он всегда так.
Мила опять улыбнулась. Повернулась к своим.
– Ну вы, – пристыдила, – гость пришёл, прервитесь!
Парень с чубчиком опять протянул руку:
– Костя.
Я прислушался:
– Жизнь это молекула, – хитро подмаргивая маленькими глазками, треснувшим тенором сообщал мятый Алик.
– Я в Суздале продавал огурцы, – поддерживал Костя и бил себя в грудь рабочим кулаком.
– Ещё котлетку? – Спросила Мила.
– Меня в голову петух клюнул… – Голос Алика.
– А я там не мог жениться, а здесь уже три года с Милой… – Голос Кости.
– Давайте, Мила я вам анекдот расскажу.… Ползут две змеи…
Мила послушала, подумала, потом начала смеяться, сначала тихо, потом всё громче, громче, потом опять тихо. Она вообще очень нетороплива, эта женщина. Дёрнула Костю за чубчик:
– У меня тост.
Мы встали. Мила торжественно объявила:
– Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
– Какой хороший тост! – Затрещал Алик. – Как приятно ужинать вот эдак, запросто…
Мила гордо улыбнулась.
– …Как приятно ужинать вот этак, запросто, в тесном кругу! Милочка, ваши чудные котлетки, и вы сами, как котлетка, ох, Костик, – Алик облизнулся, – повезло тебе!
– Вы друзья?
– Да нет, – Мила пожала плечами, – Костя сегодня у магазина познакомился.
– Выходит, Матвея вы тоже не знаете?
– Нет, конечно.
– Мила, – начал я осторожно, – а вы не боитесь, что к вам могут прийти не те люди?
– К нам плохие люди не попадают!
Я ошарашено замолчал и начал будить Матвея.
– Матвей вставай, хватит!
Выспавшийся Матвей бодро открыл глаза:
– Лёшка? – Удивился.
– Пошли, ладно?
– Передавайте привет! – Вскочил и затряс руку Алик. – Вы в хоре поёте? Нет? Жаль! А привет, так и скажите – от Алика… Случайно шляпочку не забыли? – Продемонстрировал засаленную кепку.
– Я вас провожу, – неожиданно решила Мила.
Рассвет. Надо же, досидели. Над домами посерело, и в этой дымке стал виден пустынный пляж, размножившиеся маленькие улицы, редко-редко машина проедет, одиноким жёлтым перемигиваются светофоры.
И вдруг заалело, покатилось ленивым ветром. Встающее солнце, изломав над прищуренным глазом, бровь, оглянуло владения. Рыжий кот под роскошно заваленной коробками мусоркой проснулся, открыл зелёный хитрый глаз, бомж на скамейке облегчённо вытянул ноги, повернулся на другой бок. Шабатное утро: закрыты кафе и дискотеки, кошерные и некошерные магазины, за крепкими запорами спрятан припудренный воздух пип-шоу и массажных кабинетов.
– Мила, забрать с собой Алика?
Пренебрежительно махнула рукой:
– Сама справлюсь.
– А можно дать вам совет?
– Дайте.
– Никогда не приглашайте к себе неизвестных.
– А то что?
– А то придёт тьма со Средиземного моря и накроет.
– Да, ладно.
– Безумие какое-то… – Пробормотал я, когда она ушла. – Или все ненормальные, или только я один. Матвей?
– Что?
– Вокруг что-то не правильно! Будто ненастоящее, как сминающаяся бумага. И в этой шуршащей реальности ходят биороботы. Простые желания, понятные инстинкты. Но много испорченных! Знакомишься – всё нормально, разговор, движения, потом хлоп и задёргался. Что скажешь?
– Ну, не знаю… – Матвей зевнул и потёр обеими руками своё удлинённое крупное лицо.
– Мог бы уже и выспаться.
– Мешали…
Руки в карманах, показался навстречу маленький худенький человек в мешковатой, больше на размер, одежде. Добрёл, поздоровался. Глаза тревожные.
– Привет, Саша, не спится?
– Доброе утро, Матвей.
– Саша, это Алексей, мой друг.
– Очень тонко. Вы знаете, Алексей… – неожиданно взялся за пуговицу на моей рубашке. – Иду я вчера, вижу, собачка за мной бежит, и долго так бежит. Я уже всё Алленби прошёл, а она бежит и бежит – пристала. Каких-то мужиков, как своя, облаивает. Ну, надумал я от неё избавиться. Перескочил дорогу, глядь – она за мной, и не успела, попала под такси. Лежит, скулит, я плачу, поднял, отнёс под дом. А оттуда хозяин выскочил: Убери, – кричит, – что ты падаль принёс.
Вздохнул:
– Пойду я.
– Пока, Саша.
Я посмотрел вслед:
– Как он выживает вообще?
– У него квартирка в Яфо.
Мы свернули на Шенкин. Семь ступенек вверх – и вот желаемый солидный дом с внушительной дверью между двумя высокими кирпичными вертикалями.
Хлопнула дверь, и наружу показался лысый худощавый старик с длинным острым носом, одетый в настолько грязный халат, что обтрёпанные рукава и верхние полы его залоснились до черноты, и начал такой же грязной тряпкой протирать мраморные поручни.
– Доброе утро, Семён! – Сказал Матвей.
– Доброе… – Пискляво отозвался старик и высморкался в ту же тряпку, которой протирал мрамор.
Мы вошли в тёмный коридор, в беспорядке заполненный всякой дребеденью – сломанными стульями, сломанными вешалками, какими-то огромными тазами. С середины потолка на длинном проводе свисала люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожей на шерстяной кокон, в котором сидит червяк. Сразу потянуло гнилостным запахом.
– Никогда не подумаешь, что это миллионер, – сказал я.
– Ты о Семёне?
– А о ком же ещё?
Несмотря на непрезентабельный вид, Семён действительно был миллионером. Ему принадлежал не только этот четырёхэтажный дом на престижнейшей улице Тель-Авива, но ещё три дома в Хайфе и Нетании.
В Израиле Семён появился в семьдесят первом и, не справившись с трудностями абсорбции, быстро перешёл ночевать на скамейки в парках. И наверняка там бы и остался, если бы его не нашли два холёных, с невозмутимыми физиономиями адвоката, объявивших о наследстве и заполучивших доверенность об управлении делами. Вот только в жизни самого Семёна за тридцать лет миллионерства ничего не изменилось. Дойдя до крайней степени скупости, он проводил время, роясь в помойках и таская к себе все, что мог найти. Семёну много раз предлагали продать его имущество, окружённое ночными клубами и современными бутиками, но домовладелец упрямо отказывался.
– Я только смотритель, – хитро сощурившись, говорил своим писклявым голоском, – что вы от меня хотите, я только смотритель.
Но была у Семёна слабость: следуя каким-то окликам из прошлого, он любил русскую нищую богему, и его скупость удачно уживалась со снисходительностью к людям, говорившим на одном с ним языке. За гроши он сдавал им квартиры, прощал долги, а как-то даже поселил в своём доме целый русский цирк, который обманули менеджеры, бросив в Израиле без денег и билетов на обратный путь. Вот только мало кто мог выдержать длительное соседство с грязным, пропахшим потом и свалками стариком.
– Лёшка, давай выпьем?
– Матвей, сколько можно?
– Помянуть надо, – глухо объяснил Матвей.
– Кого?
– Ольгу, ты её не знаешь. Мой друг по Питеру. Она приезжала недавно, читала стихи. Мне не понравились её стихи. Делала фотографии, мне не понравились её фотографии. Выпустила книжку, мне не понравилась её книжка. Торопливо всё это. Но она умерла. А я её знал. И относился к ней.
Сутулясь, открыл, налил.
Потом я лёг. Сначала никак не удавалось заснуть, а когда заснул, приснился мне вопрос:
Почему в пите щель?
Серьёзный вопрос, а ответа нет. Сколько мне ни втолковывали, объясняли – мол, разница температур, где-то что-то отслаивается, отходит, где-то склеивается, пристаёт, не понимаю. Физика не моя наука. А что моя наука? Нет таковой. Начинаю что-либо учить, бросаю. Опять начинаю. Зато сны. Вот и сейчас – лечу в самолёте, отсвет бортовых огней, стюардессы чай разносят. Но вдруг наш самолёт начинает снижаться. Становятся видны деревья, дороги, машины движущимися точками, одинокий шлагбаум на переезде, быстро бежит земля, касаемся колёсами, подпрыгиваем, опять касаемся, свист ветра, едем, замедляемся, остановились. Я выхожу: Что это!! Какая-то деревня? Снег, редкие мужики, как озябшие кукушки, около сельпо трактор. Сзади гул. Я оборачиваюсь: Батюшки мои! Мой самолёт улетел! Что тут поделаешь! Захожу в сельпо, на полках берёзовый сок в трёхлитровых банках, консервы со шпротным паштетом, сухие грибы, банные веники висят у притолоки, в углу к портрету Ленина ружьё прислонено. Спрашиваю у пьяненькой продавщицы, далеко ль до Питера? Она с изумлением смотрит:
– Ты что, дядя, с глузду съехал?
Я обозлился, выхожу, а за мной пацан увязался.
– Дядь, дай рубль?
– Пацан, далеко ль до Питера?
– Дай рубль, скажу!
– Ну, на.
– Год, если пешком.
Косит пацан глазом, шмыгает, нос рукавом вытирает.
Вот, думаю, сейчас пожалуюсь в милицию, что самолёт улетел, и тут же мысль – я иностранец, у меня доллары, вдруг заберут? Нет, не буду я никуда заходить, пойду себе в Питер. Выберусь за околицу и с Б-гом! Открываю чемодан, и где тут мои валенки?
Чёрно-белый сон начинает рваться. Рвётся как в старой кинохронике – полосы, полосы. Порвался, и вот: на побережье ям-суф живет чернокожий народ маленького роста. Они засевают свои поля, и когда приходит время созревания, к ним прилетает птица Зиз. Она пожирает посевы, нападает на чернокожих и ранит их в глаза.
2.
На самом деле, я живу в Иерусалиме на улице Штерн. У меня комната с большим окном и выходом в садик из одного дерева. Вот мы с Жориком Карениным в ней и живём. Жорик Каренин это чёрный большой котяра, наглый и хитрованистый, как всё его племя. Жалюзи на окне полуопущены, в комнате полутемно, я в кровати, только что проснулся и сонными глазами осматриваю свою комнату. Каждый раз так, просыпаешься и будто родился вновь. А с тобой вместе рождаются твои вещи: компьютер, два стареньких кресла, коврик на полу и панно из Юго-Восточной Азии с победительным рыжим тигром.
Но хватит, пора вставать, сегодня у меня важный день, я записался на приём к заместителю мэра, её зовут Алина, и эта Алина не совсем чужой человек, два года назад я ходил в её литературный клуб и мы даже здоровались. Замечательное было место – зал с полукруглыми окнами, в которых видны стены и башни Старого города, мягкие кресла. Доклад о Пушкине, доклад о Чехове, доклад о Бунине, и в разгорячённые голоса угасающим звуком вплетается звон колоколов.
Бунин с молодой женой был в Иерусалиме. Написал рассказы светлыми жаркими словами. До сих пор в глубине улицы Яфо стоит двухэтажное здание, служившее тогда гостиницей. На первом этаже мастерская краснодеревщика, на втором, если подняться по мраморным ступеням и пройти через балкон, мастерская Славы Коппеля – моего любимого художника.
В бытность существования клуба я работал в ресторане, с румынским рабочим мыл посуду. Приходишь после пара и объедков – Пушкин. А эта Алина плюс ко всем её достоинствам ещё и пела. Красивым ртом выводила песни Окуджавы. Нет, жаль, что кончилось.
На улице ранняя июльская жара, а перед глазами моя извилистая тесная улица с чередой мусорных ящиков. О, автобус! Я напрягся, добежал до остановки. Лениво распахнулись двери, я зашёл, а внутри ребёнок плачет, захлёбывается. Уже сипит от надрыва.
Я порылся в сумке, протянул шоколадку.
– Спасибо, спасибо! – Горячо отреагировала мать в платке, закрывающем малейшие признаки волос. Взяла шоколадку, сунула всхлипывающему дитятке, тот с размаху выбросил.
Все едут, на полу точно посередине шоколадка в надорванной упаковке.
– Вот, так всегда! – Чётко выговаривая слова, посочувствовал рядом человек в сером костюме. – Хочешь помочь и получаешь с размаха.
Протянул руку. Рукопожатие крепкое:
– Будем знакомы – Мессия.
Я опешил.
– Что, удивлены? – Рассмеялся собеседник. – Не удивляйтесь. Я ведь тоже всего два года, как осознал. До этого был точно такой, как вы. Работал себе кочегаром. Работал, работал, и вдруг…
– Что вдруг? – Я осторожно спросил.
– Да как обычно: проверил давление, лёг покемарить. И вдруг меня что-то дёрнуло! Открываю глаза – батюшки! На стене кочегарки, как живое, изображение бородатого старца. Смотрит и улыбается. Я сразу понял – Авраам! Потом вижу – со лба старца до моей головы протянулся золотой луч. Я сразу понял – неспроста! И тут Авраам гулко так мысли стал передавать: Мы, мол, через звёзды общаться будем. Давай езжай в Израиль, строй царство. – Вот как раз с этой ночи, – собеседник победоносно посмотрел, – меня будто подменили! Я начал читать Библию, пророков, Нострадамуса, расшифровывать смысл. Наконец, приехал в Израиль, и здесь на меня снизошло откровение, – скоро будет построен Третий Храм!
– Может вам в ешиву обратиться?
– Обращался.
– И что?
– Выслушать – выслушивают. Потом ходят, внимания не обращают. История повторяется, народ наш, как был жестоковыйный, так им и остался!
Автобус сделал поворот, я поднялся на выход.
– Вы обо мне можете почитать! – Крикнул человек вдогонку. – В газете «Следопыт» за две тысячи третий год! Я там интервью дал!
Мэрия у нас расположена напротив старого города. Её отстроили, фонтанчики, пальмы, в их густых кронах кошки сидят, горячий ветер обдувает охранников. Внутри, как в советских райкомах, красные дорожки.
– Алина у себя?
– Занята! – Взвизгнула секретарша. – Ждите.
То же мне, шавка.
Час прошёл. На самом деле я хотел попросить денег на водку – мы же здоровались? Эта визгливая не хотела меня записывать, но я настоял. А сейчас вдруг очень ясно дошло, что денег мне не дадут. Матвей был прав. Что тогда меня стукнуло? И что я скажу? Ходил в клуб, дайте денег? Я вас очень уважаю, дайте денег? Я к вам, профессор, и вот по какому делу…
Вызвали.
Алина злющая как чёрт, рот крепко сжат. Петь явно не хочет.
– Слушаю!
– Я к вам, и вот по какому делу…
– Я помогаю только своим! – Перебила. – Здесь муниципалитет, вы не по адресу пришли. Да и вообще, зачем вам деньги?
– Ну как, – я удивился, – а на водку?
– Все на водку хотят! Какая мне в этом выгода?
Я немножко подумал и подмигнул:
– Раз денег не будет, то может споём? В два голоса? Виноградную косточку в тёплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву… и друзей созову…
Алину перекосило.
– Да кто ты такой?!!
– Андерсен.
Алина вскочила. Её прекрасное лицо превратилось в волчью морду, она стремительно начала обрастать шерстью. Напружинилась, вскочила на стол. В рычании угадывалось:
– Вон!
Я расхохотался и, рванув на себя дверь, пробежал мимо визжащей, норовящей вцепиться в ногу шавки. Уже шагом спустился по широкой лестнице и вышел на площадь с пальмами. А вот здесь мне стало грустно. Нет, дело не в деньгах. Просто грустно и всё. Состояние неуловимо изменилось. Может солнышко виновато? Оно у нас яркое, щедрое.
Я немедленно забыл Алину, свои просьбы, и растворился в лете, одевающем стены Старого города в прозрачное марево. Напротив этих стен на торце яффского дома памятью о войне за Независимость выщерблины от пулемёта. Как там Бунин писал?
«Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почиет она в тысячелетнем забвении, возвратится ко дням патриархов».
Прошло чуть больше ста лет, и меня, гражданина и совсем не алкоголика, выгоняют из муниципалитета с новыми красными дорожками. Кругом израильские флаги, полицейские штрафуют за неправильную парковку, блестят витрины, а со Старого города печальный звон колоколов – напоминание, предостережение, предвидение? Но, стоит лишь чуть отойти, и уже не слышно – новый город, автобусы, магазины, кафешки на каждом углу. Всё эфемерное, лихорадочное – жизнь.
Так как от работы я отпросился, то первое дело зайти к Славе Коппелю. Бунинский дом спрятался в глубине улицы, загородившись автостоянкой, перед подъездом дорожка заросла неряшливыми колючими кустами, сам подъезд насквозь, с другой стороны дома мирно ходят куры, а между ними, не обращая на них внимания, во весь рот зевает лохматущая собака. На втором этаже дверь в мастерскую полуоткрыта.
– Слава?
– Да-да…
Красками пахнет. Всю жизнь хотел быть художником, эх, да что уж тут.
– А, Алёша, заходи!
Огромный Вячеслав в задумчивости у мольберта. Спиной к нему около своего рисунка полная женщина, видимо, ученица. На стенах Славины работы, и свет из окна ощутимо вытягивается как у Рембрандта, расширяя сырое глубокое пространство комнаты, заставляя играть краски. И на подоконнике подхватываются светом, обрисовывающим до малейшей шероховатости мощную грубую их фактуру, отмокающие кисти в керамической посудине.
– Хочу петуха нарисовать! – Мощно прогудел Слава. – Чтобы глаз был свирепый! Что б орал на весь мир! Ну, что у тебя?
– Пиво, Слава.
– Пиво?
– Рыбку ещё сушённую взял, но не знаю, можно ли в мастерской, ещё запачкаем…
– А ты что? – Подозрительно нахмурил кустистые брови художник. – Воблой собираешься в мои картины швыряться?
– Да вроде нет. Ещё шоколадка есть.
– Разворачивай. Вчера вот тоже сидели, Игорь приходил, пока всё цело. Лида, Лидочка, – позвал своим гудком собирающуюся ученицу, – смотри, вот мой друг Алёша пришёл, шоколадку принёс, хочешь шоколадку?
– Нет, нет. – Отозвалась.
– На диете сидишь? Брось, Лидочка, от шоколада только худеют.
Лидочка покраснела и полезла в сумку.
– Вячеслав Григорьевич, вот деньги.
– Доллары? – Слава по-детски улыбнулся. – Помахал бумажкой. – Надо же, в первый раз ученик долларами рассчитывается. Так что, не хочешь шоколадку? Зря, зря. Алёша, представляешь, кто у нас Лида? Дисти… дистибьютор! Деловая женщина – машину водит, самолётами в отпуск летает, а всё равно чего-то не хватает, приходит рисовать. Просто так ведь человек рисовать не будет. Это вроде глупости, да? Зачем, когда кругом компьютеры? А ведь приходит.
Лида надела солнечные очки.
– Так не хочешь шоколадку?
– До свидания, Вячеслав Григорьевич. – Железно сказала Лида.
– Да-да.
Я сделал глоток.
– Слава, а где вы натуру берёте?
– Где беру? – Огромный Слава усмехнулся. – А нигде! Пойми, Алёша, художник не должен копировать действительность, ведь, сколько не копируй, природа богаче. Ты обязан преобразовать окружающий мир, внести в него свои краски, увидеть новое.
С неоконченного Славиного холста безумным выкаченным глазом смотрел прямо на меня ярко красный петух, казалось, он вырывается из надоевшей плоскости, чтобы заорать, закричать на весь мир, и уже знает, что кричать, с нетерпением и яростью толкает то крылом, то ногой невидимую плёнку, ждёт завершающих мазков, чтобы освободиться.
– На пиво не надейся! – Предупредил я петуха на всякий случай, и пересел от его взгляда в другое место.
Через два часа выйдя от Славы, я посмотрел вверх и застыл поражённый: краски выливались потоком из окна маленькой мастерской, расцвечивали ультрамарином воздух, глубоким коричневым мостовую, бордовым небритые лица едоков в ближайшей фалафельной, в переменчивом освещении от огня жарящейся шавармы уши людей горели жёлтым. Араб с чёрными усами снисходительно посвистывая, нарезал мясо, думая, что огонь это собачка в цирке. Но неожиданная вспышка, ещё одна! Араб схватился за опалённые усы, жующие отшатнулись, у хозяина-бухарца затряслись руки, и чтобы успокоиться, он сам себе заплатил пять шекелей. Всё, – мастерская, разбегающиеся прохожие, дома – потонуло в глубокой синеве, и лишь мерно вращалась шаварма, освещённая всполохами не успокоившегося огня.
Рядом остановка, подошёл автобус, водитель высунулся из окна и спрашивает:
– Паспорт?
– Я в своей стране! – Гордо выпрямляюсь. – У меня проездной!
Зашёл внутрь, а на полу шоколадка в надорванной упаковке.
Ночь. Я сижу за компьютером как молюсь. Стираю и опять пишу, стираю и опять пишу.
Ну что, люди, первая сказка.
Стояла осень…
Но что значит – стояла? Ещё важно ложились лопухи возле дороги, и подсолнух гнулся под солнцем, полный чёрных созревших семечек, и простодушные ромашки любопытно выглядывали из травы, на пустырях рос лиловый иван-чай, и загоревшие за лето мальчишки бесстрашно ныряли со старого моста на кто лучше, а потом ловили упрямых щиплющихся раков, также жглась крапива, и коровы медленно мычали своё вечное му-у-у и звякали колокольчиками, а за ними ходил с хворостиной какой-нибудь парубок с непослушными русыми волосами и с независимым видом вертел соломинку в зубах. Но уже всё чаще дул холодный ветер, от которого рябило траву, и появились первые ещё робкие жёлтые листочки, и облака затягивали небо, хотя солнце, рассердясь, рассталкивало их и посылало волны тепла, в котором купались стрекозы, и занятые пчёлы, басовито гудя, деловито сновали от цветка к цветку.
Так вот, сидел дядя Костя на скамеечке, низко вкопанной в землю и, опёршись широкой мягкой спиной на старательно вырезанное, но уже потемневшее от времени «Оля плюс Вася = любовь», разговаривал с тётей Настей, быстрой, ловкой, оторвавшейся на минутку от шумного выводка своих детей, и готовой вскочить и ринуться обратно на помощь и спасение.
– Вот, Настюха, – говорил дядя Костя, блаженно вытянув больные ноги в валенках, – а знаешь ли ты, что cкоро у наших сусидив-евреев Судный день?
– Кто ж цёго не знаэ, – отвечала Настюха и кидала беспокойный взгляд на дверь подъезда, – кажысь, завтра.
Тут надо отметить, что скамеечка, на которой и проходил этот очень заурядный, на самом деле разговор, стояла во дворе трёхэтажного кирпичного дома прямо напротив магазина «Свитанок», а кто ж в Коростыне не знает «Свитанок»? Сам двор был заполнен детьми, уже не одно поколение которых неспешно вытягивалось под ласковым солнышком и придирчивым взглядом дяди Кости.
– Да, так вот, – продолжал дядя Костя, – а знаешь ли ты, что в кажный Судный день чёрт тырит одного еврея и швыряет в болото.
– Ой, – испугалась Настя, перекрестилась и закрыла рот платочком.
– В яке ж? – Полюбопытствовала, на мгновение забыв о детях.
– В Полежаевском недалече, там ещё, помнишь, трактор утоп.