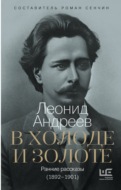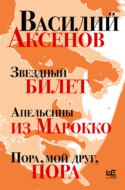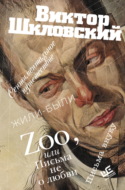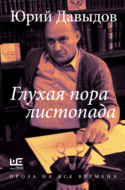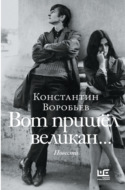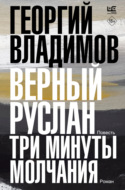Czytaj książkę: «В холоде и золоте. Ранние рассказы (1892-1901)»
* * *
© Сенчин Р.В. Составление, предисловие.
© Бондаренко А.Л. Художественное оформление.
© ООО «Издательство АСТ».
До славы
Сложная судьба у произведений Леонида Андреева. Первый же сборник рассказов, вышедший в 1901 году, принес ему редкую, настоящую славу. Книгу сметали с полок, за последующий год ее переиздали четырежды, а затем, пополнив новыми рассказами, еще несколько раз. Общий тираж составил почти 50 000 экземпляров. Огромный по тем временам.
Андреев был одним из самых известных и модных писателей в России вплоть до Октябрьской революции. Впрочем, многие собратья по цеху постепенно разочаровывались в нем. В 1907-м дала трещину дружба с Максимом Горьким из-за рассказа «Тьма»; симпатизировавший Андрееву Лев Толстой, прочитав «Тьму», отреагировал так: «Его хвалят, и он позволяет себе писать Бог знает как»; Александр Блок, еще недавно трепетавший перед автором «Красного смеха» и «Тьмы», в статье «Ответ Мережковскому» (1910) сказал об Андрееве: «Он стал пародией своей собственной муки…»
После начала Первой мировой войны поддерживавший ее (правда, со своих позиций) писатель потерял и оставшихся товарищей, в прессе его новые произведения или ругали, или обходили молчанием, хотя книги по-прежнему раскупали – на зависть многим.
После революции Андреев оказался в своем огромном доме на территории обретшей независимость Финляндии; Петроград, в который он несколько раз приезжал в конце 1917-го – начале 1918-го, вскоре сделался недоступен – в апреле граница была закрыта.
О нем и его произведениях, многие из которых словно бы предсказали ужасы, обрушившиеся на Россию, стали забывать.
В 1930 году в Советском Союзе вышел последний сборник рассказов Андреева перед продлившимся больше четверти века молчанием. В годы оттепели его прозу и драматургию стали переиздавать, но далеко не всю; однако и это не всё породило всплеск интереса к его творчеству. Необычный, сильный, страшный писатель. Зарождавшуюся вновь моду на Андреева пригасили – кроме выпущенного в 1971 году, к столетию со дня его рождения, двухтомника «Повести и рассказы» – большинство сборников до начала 1990-х повторяли друг друга. Многие экзистенциальные его произведения советскому читателю известны не были.
В основном это рассказы 1898–1903 годов, вписывавшиеся в рамки русского критического реализма, плюс «Красный смех» об ужасах империалистической войны (в данном случае Русско-японской), «Рассказ о семи повешенных» о жестокости царских палачей по отношению к революционерам, «Полет» о смелом авиаторе. Школьникам был рекомендован рассказ «Кусака».
В конце 1980-х – начале 1990-х, когда на территории гибнувшего СССР вновь стал гулять «красный смех» и запахло новой революцией, об Андрееве вспомнили.
Написанные почти за век до этого произведения Андреева оказались своевременны. Его вновь стали называть пророком, человеком, заглянувшим, а то и вглядевшимся в бездну; оказалось, что он родоначальник не только русского, но и мирового экспрессионизма в литературе, что задолго до Камю и Сартра описал экзистенциальный кошмар, что его неоконченный роман «Дневник Сатаны» повлиял на европейскую и американскую литературу двадцатых-тридцатых годов.
В 1994 году вышли разом две книги неизвестных у нас публицистических произведений Андреева «SOS» и «Верните Россию!»; были опубликованы фрагменты дневников.
В 1990-м в издательстве «Художественная литература» начали выпуск первого с дореволюционной эпохи собрания его сочинений в шести томах. У этого собрания непростая история – издание растянулось на семь лет. Тиражи ярко демонстрируют, как вновь падал интерес к Андрееву. Если тираж первого тома, в который вошли по большей части хорошо известные, многократно переиздававшиеся рассказы и повести, составлял 300 000 экземпляров, то шестого, куда вошли малоизвестные и неизвестные произведения, – 20 000.
Поражает и такое в выходных данных шестого тома: «Сдано в набор 11.02.91. Подписано к печати 26.01.96».
Правда, у нового собрания (издательство «Наука»), на сей раз «Полного собрания сочинений и писем», академического, судьба еще сложнее. Первый том вышел в далеком уже 2007 году. С тех пор выпущены – почему-то вразнобой – тома пятый, шестой, тринадцатый, четвертый и последний на данный момент (если не ошибаюсь) – седьмой в 2022 году. Тираж не указан, найти эти книги в продаже очень сложно, а некоторые тома и невозможно…
Так что большинству читателей Леонид Андреев известен по давно сложившейся обойме произведений – «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Иуда Искариот», «Красный смех», «Большой шлем», «Жизнь Василия Фивейского», «Жизнь человека», «К звездам» и еще десятку повестей, рассказов и пьес, которые, перетасовывая, регулярно выпускают различные издательства.
Это лишь вершина айсберга, по которой узнать творческое наследие Леонида Андреева и его самого как личность – практически невозможно.

История совершает очередной виток. И вместе с этим витком возвращаются произведения Андреева, вроде бы давно потерявшие свою значимость и актуальность. Например, повесть «Иго войны», вышедшая впервые в альманахе «Шиповник» весной 1916 года («без последующей перепечатки») и переизданная в шестом томе собрания сочинений в 1996-м. Примерно тогда я – двадцатипятилетний, еще бессемейный – ее прочел и, оценив как недостоверную, слабую, перекачанную этой пресловутой, теперь уже абсолютно искусственной андреевской мукой, казалось, о ней забыл.
Повесть, написанная в форме дневника, показывает мысли и эмоции сугубо гражданского человека, немолодого и не вполне здорового, во время войны. Страх, стыд, недоумение, горе, патриотический подъем, депрессия, попытка покончить с собой, просветление, скорее всего, временное и ложное…
На третьем году СВО я вспомнил об «Иге войны». Перечитал и поразился, насколько точно Андреев показал в том числе и мое состояние. Да, в том числе… Заглянул в интернет, увидел свежие отзывы на эту повесть: «Невероятно сильная книга. Особенно сейчас», «Это самое сильное, что я прочитала в последнее время. Вроде бы никаких сверхдел, сверхтрагедий. Какой-то служащий, его мысли, его непринятие происходящих событий. Но буквально с первых страниц я себя поймала на мысли, что он озвучивает мои мысли, очень неправильные и неудобные».
А на портале «Горький» недавно вышла большая статья Ивана Слепцова, посвященная повести, приводятся обширные и щемящие сердце цитаты. Да, «Иго войны» предельно злободневно сегодня. К сожалению…
Новый всплеск (а может быть, это будет более продолжительный период) интереса к Андрееву произошел совсем недавно в связи с выходом в «Редакции Елены Шубиной» книги Павла Басинского «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо».
В центре внимания автора детство, юность и молодость Андреева, которая закончилась со смертью его музы и первой жены Александры Велигорской в 1906 году.
Кроме известных, переиздававшихся произведений своего героя, Павел Басинский упоминает или останавливается на тех, что не входили в андреевские книги – «В холоде и золоте», «Он, она и водка», «Розочка», «Из записок алкоголика», «После государственных экзаменов»…
Я предложил «Редакции Елены Шубиной» выпустить сборник ранних рассказов и повестей, которые сам Андреев не включил в прижизненное собрание сочинений; нет их и в собрании сочинений 1990-х. Думаю, читателям будет интересно, с чего начинал один из лучших русских писателей рубежа позапрошлого и прошлого веков, что он посчитал недостойным переиздания, а то и публикации. Но что бережно, в отдельных папочках хранил до конца жизни.
Согласие было получено, и вот сборник выходит.
Что же найдет в нем читатель?

Принято думать, что Леонид Андреев оказался в литературе почти случайно. Дескать, писал для московской газеты «Курьер» судебные очерки, однажды ему предложили сочинить пасхальный рассказ, и он сочинил. Вернее, взял случай из своего орловского прошлого. Так появился «Баргамот и Гараська», после публикации которого Андреев проснулся знаменитым. И рассказы, повести посыпались как из рога изобилия.
На самом деле он мечтал (и готовился) стать писателем с юности. Девятнадцатилетним написал в дневнике: «…Я хочу в своей книге подействовать на разум, на чувства, на нервы человека, на всю его животную природу. Я хотел бы, чтоб человек бледнел от ужаса, читая мою книгу, чтоб она действовала на него как дурман, как страшный сон, чтоб она сводила людей с ума, чтоб они проклинали, ненавидели меня, но все-таки читали ее…» (Дальше цитировать по нынешним временам небезопасно.)
Такой будущей книгой виделась не беллетристика, а философия. Андреев был увлечен Шопенгауэром, Гартманом, трактатом «В чем моя вера?» Толстого.
Но в итоге все же шагнул в беллетристику – в 1892 году в петербургском еженедельном журнале «Звезда» (которую за легковесность материалов называли «Звездочкой») был опубликован рассказ студента-первокурсника юридического факультета Петербургского университета Леонида Андреева «В холоде и золоте».
Рассказ был подписан «Л. П.», что можно расшифровать как «Леонид Пацковский», по девичьей фамилии матери. Позже Андреев подпишет этим псевдонимом рукописи рассказа «На избитую тему» и сказки «Оро». Рассказы «Он, она и водка», «Загадка», «Чудак», напечатанные в «Орловском вестнике» в 1895–1896 годах, подписаны «Л. А.». С такими криптонимами славы ожидать, конечно, сложно.
В своей книге Павел Басинский делает интересное замечание – литературный дебют Андреева совпал с дебютом Максима Горького – публикацией в газете «Кавказ» рассказа «Макар Чудра». (Кстати, Горький отстал на полгода.) Но будущий «буревестник революции» сразу занялся писательством всерьез и спустя шесть лет, когда появился андреевский «Баргамот и Гараська», встретил молодого автора в ранге почти классика.
Сюжет, герои Андреева отсылают к «Бедным людям» и «Униженным и оскорбленным» Достоевского. (Через два десятка лет он заявит: «Из ушедших писателей мне ближе всех Достоевский».) Герои – забитые нуждой мать и ее сын-студент. Денег платить за квартиру нет, сын идет по объявлению наниматься репетитором. Дом оказывается богатый, действительно – в золоте. «Господи, роскошь-то, роскошь какая!» – восклицает мысленно студент. На его удивление хозяйка дома встречает его ласково, даже дает аванс. Но тут появляется ее муж и заявляет, что репетитор уже найден; студент уходит, оставляя аванс на столике. А муж выговаривает жене за то, что принимает «прощелыгу». Далее автор настойчиво показывает нам, что хозяйка дома находится здесь в золотой клетке, муж ее мучает, правила света ей тягостны. Ей жаль и юношу-студента, и себя, и из глаза ее выкатывается слезинка…
Для двадцатилетнего человека рассказ вполне неплох. И его публикация Андреева поначалу воодушевила.
В письме своей орловской знакомой Дмитриевой он сообщает: «Ну, голубушка моя, кажется, в моей жизни наступает поворот к лучшему. Есть два факта. Один, о котором я вскользь упомянул Вам, состоит в том, что рассказ мой будет напечатан. Это было моим первым опытом – и, к счастью, удачным. Теперь я с уверенностью последую своей склонности и займусь не на шутку писательством. Я уверен, что меня ожидает успех». И добавляет, что писал рассказ «всего 4 дня».
Радуется публикации и в дневнике, по своему обыкновению подробно описывая чувства и планы на будущее:
«…Как должна будет радоваться мать, так как, помимо этих невещественных радостей, рассказ даст ей радость самую реальную: деньги. Чего доброго, гордиться мною начнет. Хорошо все это и потому, что составит лишнее побуждение к дальнейшему труду в той же области, а успех зависит вновь именно от того, насколько я хочу работать. У меня уже явилась тема нового рассказа…»
За первый рассказ начинающий литератор получил гонорар – «всего» 20 рублей. (Лев Толстой за «Детство» в «Современнике» не получил ничего.)
Позже Андреев не будет упоминать ни об этой публикации, ни о последующих (в «Орловском вестнике»). Кажется, лишь трижды он обмолвится, что писал беллетристику до «Баргамота и Гараськи». Первый раз в 1903 году на страницах «Журнала для всех», вспоминая свою жизнь в Петербурге: «Тут я написал свой первый рассказ о голодном студенте. Я плакал, когда писал его, а в редакции, когда мне возвращали рукопись, смеялись».
То есть о публикации ни слова, только о том, что «написал свой первый рассказ». Впрочем, есть предположение, что до «Звезды» Андреев носил «В холоде и золоте» в существующую тогда газету «Неделя». Или, может быть, носил другой, не дошедший до нас рассказ…

Дебют от второй публикации отделяют три с лишним года – рассказ «Он, она и водка» вышел в газете «Орловский вестник» в сентябре 1895-го. Черновиков (за исключением набросков будущего рассказа «Загадка») не сохранилось, а может быть, их и не было. Дневник за 1894–1896 годы считается утраченным. Не исключено, что Андреев не пробовал писать рассказы. Да и жизнь его в те годы была очень запутанной и сложной. Любовные драмы, тяжелый перевод из Петербургского в Московский университет, вторая попытка самоубийства (первая случилась в феврале 1892-го), переезд к нему в Москву матери и младших братьев и сестер, пьянство… Видимо, было не до писания.
Но после публикации второго рассказа, в котором, по оценке самого автора, было «больше опечаток, чем достоинств», литератор в нем пробудился по-настоящему. Через неполные три месяца в трех номерах той же газеты печатается рассказ «Загадка», еще через полгода там же – «Чудак».
Весной 1896 года Андреев отправил в петербургский «Северный вестник» рассказ «Скриптор», который затерялся в недрах редакции, и до нас дошел один лист черновика, на котором Скриптор ищет Мефистофеля.
Почти через год Андреевым окончен большой и сложный по заложенным в нем смыслам рассказ «На избитую тему», который он предлагает во все тот же «Северный вестник». В то время журнал, где не так давно печатались Глеб Успенский, Чехов, Короленко, стал трибуной декадентов. И хотя рассуждения героев Андреева вполне можно назвать декадентскими, сюжет более чем реалистический.
Кстати, со слов самого писателя известно название и некоторые эпизоды его самого первого или второго (после «В холоде и золоте») рассказа «Обнаженная душа», написанного между сентябрем 1891 и сентябрем 1893 года.
«Сколько я разбираюсь теперь в явлениях, – приводит слова Андреева критик Александр Измайлов в книге „Литературный Олимп“ (1911), – это был характерно декадентский рассказ и – любопытно – написанный тогда, когда еще декадентство почти вовсе не заявляло себя ничем. Я помню, что здесь был изображен глубокий старик, достигший трагической способности читать в человеческих сердцах, так что для него не было ничего сокровенного ни в ком.
Разумеется, чем более эта обнаженная душа соприкасалась с людьми, тем трагичнее были ее впечатления, и, сколько помнится, этому человеку не осталось, в конце концов, ничего иного, как кончить самоубийством. Между прочим, помню подробность: этот старик видел человека, бросившегося под поезд. Ему отрезало голову. И вот, он видел то, что думает мозг в отрезанной голове.
Я отослал рассказ в „Северный вестник“, и помню письмо критика А.Волынского, которым он отказывал мне в помещении рукописи, ссылаясь на то, что это „слишком фантастично, слишком необычайно“, – что-то в этом роде».
Наталья Скороход в биографии Леонида Андреева в серии «ЖЗЛ» сожалеет:
«Увы, эти, отправленные в „Северный вестник“, ставший в 1890-е годы своеобразным „рупором символизма“, рассказы были отвергнуты или просто выброшены в корзину, что – на некоторое время – отучило автора иметь дело с фантастическими материями. Для меня же в этих неуютных сюжетах, как будто в капле животворящего бульона, растворены образы, которые через много лет возникнут на страницах Булгакова и Олеши. И как мне кажется, в самом вхождении Андреева в литературу была заключена коллизия. Ведь даже согласно законам земного тяготения – гораздо проще спускаться с неба на землю, чем, мучительно преодолевая притяжение, осуществлять „марш-бросок“ в противоположном направлении, что в будущем и проделал наш герой – Леонид Андреев».
Не соглашусь – неудачи не отучили его «иметь дело с фантастическими сюжетами». В конце 1897-го – начале 1898-го он работает над сказкой «Оро».
«…С легионами других злобных и мрачных демонов Оро восстал против власти. Огненными мечами архангелов мятежные духи были рассеяны по бесконечному пространству. С диким ревом и визгом уносились они, как бешеный поток, в непроглядный мрак бесконечности, где холодным светом мерцали отдаленные светила. И долго, смолкая, доносился до врат рая этот нечеловеческий, страшный визг».
Сказку (так Андреев сам определил это произведение) он принес в редакцию газеты «Курьер», которая печатала его судебные очерки. Принес не просто так, а после предложения редакции дать что-нибудь беллетристическое (было это то ли за месяц, то ли за полгода до «Баргамота и Гараськи»). Сказку прочитали и вернули.
Она осела в архиве «Московского вестника», куда Андреев отправился после отказа в публикации в «Курьере», и увидела свет в 1920 году. «В рассказе „Оро“… чувствуется уже будущий андреевский бунт и слышатся бутады самого Анатэмы», – вспоминал публикатор сказки, бывший заведующий редакцией «Московского вестника» Осип Волжанин.
«Оро» Андреев опубликованным не увидел, но очередная неудача не убила в нем живущего параллельно с реалистом, скажем так, не-реалиста. Вслед за этим произведением он пишет очень странные рассказы «Исповедь умирающего» и «Нас двое» (остались в рукописи); пройдет года три, и появятся в печати рассказы «Ложь» (который Лев Толстой посчитал «началом ложного рода»), «Стена», затем «Так было», «Жизнь человека»… Да, по сути, на протяжении всего творческого пути у Андреева будут чередоваться реалистические и не-реалистические произведения. Впрочем, почитатели реализма до сих пор считают его неправильным реалистом, а почитатели модернизма неправильным модернистом.

Казалось бы, после успеха «Баргамота и Гараськи» в апреле 1898-го, который был закреплен рассказами «Из жизни штабс-капитана Каблукова», «В Сабурове», «У окна», «Петька на даче», «Большой шлем», «Ангелочек», «Молчание» Андреев должен был поверить в себя, писать чуть ли не набело. На деле же требовательность его к себе только повышалась.
С апреля 1898-го по декабрь 1899-го были опубликованы шестнадцать рассказов (три из них, «Любовь, вера и надежда», «Случай» и «Памятник», не включенные Андреевым в собрание сочинений, представлены в этом сборнике), десять, сюжетно завершенных, остались в архиве писателя. Еще одиннадцать рассказов были брошены на стадии черновиков.
О чем они?
Автор предисловия находится в затруднительном положении: начнешь пересказывать сюжеты, и можно отбить у читателя желание знакомиться с оригиналами. Скажу так: в большинстве рассказов студенты, жажда любви, проститутки, жажда жизни, граничащая с желанием покончить с собой, водка, бедность, самопожертвование и эгоизм.
Позже Андреев вернется к некоторым сюжетам, с которыми, как показалось ему тогда, он не совладал. Например, рассказ «Мать» в 1916 году будет переработан в повесть «Жертва», мотив рассказа «Держите вора!» будет использован (в очень сокращенном виде) в рассказе 1901 года «Случай» (не путать с одноименным рассказом 1899-го), в рассказе 1902 года «Иностранец» использованы детали и персонажи наброска «После государственных экзаменов», мотив «Грошового человека» будет развит в написанном через год «Рассказе о Сергее Петровиче»…
Конечно, и «Жертва», и «Случай», и «Иностранец», и «Рассказ о Сергее Петровиче» в техническом плане совершеннее неопубликованных и недописанных предшественников. Но, как это часто бывает с опытными, набравшимися мастерства литераторами, в их произведениях становится меньше жизни, искренности. Они знают, что нужно, а что не нужно тащить в литературу, следят за композицией, динамикой, а искренность, непосредственность, в хорошем смысле безыскусность при этом вянут и блекнут.
С произведениями Леонида Андреева такое нередко происходило.
В этой книге можно увидеть будущего знаменитого писателя, который уже почувствовал свои темы, нащупал свой язык, свои типажи, но еще не научился правильно писать. И поэтому во многих рассказах немало того драгоценного сора, который мастер из своих произведений выметает.
О студентах Андреев писал на протяжении всей жизни. Но в рассказах 1897–1899 годов они по-настоящему живые, слышна их речь. Потому что писал он почти с натуры. Как и о юношеской любви, пьянстве, жителях Пушкарной улицы в Орле… Писать по памяти и с натуры – разные вещи.
Большинство произведений от третьего лица. При этом, даже не зная биографии автора, чувствуешь, что многие предельно автобиографичны, а персонажи списаны с реальных людей. Термина «автофикшн» в то время, конечно, не существовало, но направление такое было. И сам Андреев признавался: «совсем сочинять не могу», страдал от этого. Позже смог научиться…

Завершает наш сборник рассказ «Буяниха», написанный в конце 1901 года, вскоре после выхода первой книги, в момент, когда известность Андреева стремительно перерастала в славу.
«Буяниха» – одно из самых страшных его произведений. Вскоре будут написаны «Бездна» и «В тумане», но в них больше искусства, а здесь именно рассказ, не прикрытое стилистическими виньетками повествование. Почти репортаж о событии на Пушкарной улице, где Андреев вырос и где происходит действие его предыдущих рассказов – «Баргамот и Гараська», «Алеша-дурачок», «У окна». Те рассказы можно воспринимать как гуманистические, в них можно увидеть если не свет, то хотя бы просвет, а в «Буянихе» мрак реальности сгущается до беспросветности.
Павел Басинский в своей книге, по-моему, необычно трактует идею рассказа «Баргамот и Гараська»:
«Повинуясь христианскому чувству, он (Баргамот. – Р.С.) совершил ошибку: впустил „тьму“ в свой „свет“. „Порядок“ как основа баргамотовского мироздания дает трещину. Дух Гараськи навсегда поселился в доме Баргамота – в памяти его жены и детей в виде сального пятна на белоснежной скатерти. Все в доме будет уже не то и не так.
Это станет сквозной темой творчества Андреева: контраст „света“ и „тьмы“, ощущение хаоса, бушующего за тонкими стенами гармонии и постоянно угрожающего ее разрушить. Это будет в „Бездне“, „Молчании“, рассказах „В темную даль“, „Призраки“, „В тумане“, „Жизнь Василия Фивейского“ и других „знаковых“ произведениях раннего Андреева».
В принципе, согласен. Но если исходить из этой теории, то в «Буянихе» «тьмой» становится чистый и светлый мальчик Коля, который нарушает и разрушает привычный мир проститутки и пьяницы Маши, которую все кличут Буянихой. От этой мысли рассказ становится еще безысходней.
Может быть, поэтому Леонид Андреев и не опубликовал его. Но зачем-то сохранял в своем архиве.
Итак, вот ранние, не входившие в собрания сочинений (кроме нынешнего, академического, снабженного множеством сносок, примечаний, вариантов) рассказы Андреева. Надеемся, благодаря этой книге многим знакомый и любимый автор «Кусаки», «Ангелочка», «Жизни Василия Фивейского», «Иуды Искариота» откроется по-новому.
Я позволил себе тронуть некоторые произведения – восстановить полное написание тех слов, какие автор умышленно сокращал в рукописи; в рассказе «Держите вора!», где отчество одной из героинь сначала, два или три раза, Станиславовна, а потом Даниловна, везде сделал Даниловна, так как Андреев явно выбрал этот вариант. Надеюсь, ученые, заглянув в эту книгу, строго меня не осудят.
Роман Сенчин
2025