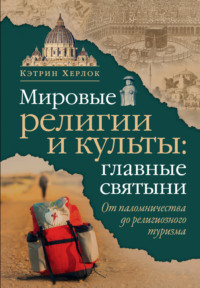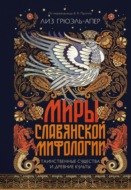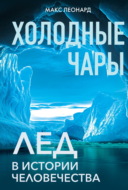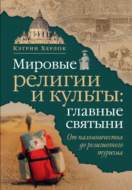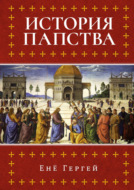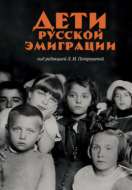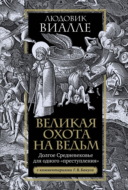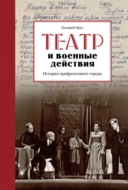Czytaj książkę: «Мировые религии и культы: главные святыни. От паломничества до религиозного туризма»

Kathryn Hurlock
HOLY PLACES
How Pilgrimage Changed the World
© Kathryn Hurlock, 2025
© Обатуров Е. О., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
КоЛибри®
* * *
Кэтрин Херлок – историк средних веков, получила степень PhD в Университете Уэльса, с 2008 г. преподает на факультете истории, политики и философии Манчестерского университета (Великобритания), с 2023 г. возглавляет там Центр исторических исследований.
Kathryn Hurlock
«В этой книге я выбрала места, опираясь на то, что они расскажут о роли паломничества в мировой истории: как оно может создавать или разрушать политические режимы, побуждать миллионы людей молиться об исцелении, создавать и объединять общины, вдохновлять строительство глобальной инфраструктуры или воплощать идентичность народа. Без сомнений, многие из них вам уже знакомы – Рим, Иерусалим, Сантьяго, Сикоку. А другие менее известны, но не менее важны для понимания многообразия способов паломничества людей и влияния, которое оно оказало на них, их общества и весь остальной мир».
Кэтрин Херлок
Введение
Мир паломничества
Зимой 1171 года король Англии Генрих II, направляясь в Ирландию через Уэльс, решил совершить короткое паломничество. Поездка в Ирландию была сугубо политической, ведь базирующаяся в Уэльсе нормандская знать недавно завоевала ее часть и монарху нужно было лично встретиться с ее представителями и тем самым утвердить свои притязания на территории. Других причин посетить весьма отдаленный регион Пембрукшир у короля не было, однако сейчас у него появилась прекрасная возможность совершить паломничество к самому важному религиозному объекту страны – малому собору Святого Давида. За полвека до этого папа римский заявил, что два паломничества к этому собору духовно равнозначны одному паломничеству в Рим, поэтому предложение было заманчивым. Было также мудро помолиться о безопасном проезде, ведь Генрих II собирался пересекать Ирландское море зимой. Раньше он таким же образом путешествовал к своим землям во Франции. Пока монарх находился в Уэльсе, он преподнес собору дары (две мантии и немного серебра), чтобы продемонстрировать открытость своих намерений. У его паломничества могла быть и третья причина: король недавно поссорился с Рисом ап Грифидом, правителем того региона Уэльса, и паломничество явилось бы символом мира. И пока Генрих II путешествовал, ему было нужно, чтобы Рис в это верил.
На следующий год король вернулся из Ирландии и высадился в гавани Сент-Юстиниан, всего в трех километрах от собора. Он пришел туда «пешком, опираясь на посох, и одетый как паломник». В отличие от его паломничества на пути в Ирландию этот визит был очевидно религиозной направленности, поскольку он приехал без своей семьи, которую отправил дальше на юг, в порт Милфорд-Хейвен. Плюс к этому монарх решил, что нанесет свой визит сразу после Пасхи. По прибытии Генриха II тепло встретили каноники (в отличие от одной местной женщины, которая предсказала, что он погибнет), и он зашел внутрь, чтобы помолиться и получить тем самым духовную награду за второе паломничество. По ощущениям, именно это ему и было нужно. В декабре 1170 года его бывший друг, архиепископ Томас Бекет, умер мученической смертью, согласно преданиям, по приказу самого Генриха II. Поэтому король очень нуждался в отпущении грехов1. Удаленность собора Святого Давида и его скромные размеры давали неверное представление о его значимости. Генрих II верил, что это место паломничества обеспечит ему безопасность во время морских путешествий, взаимодействие с другими правителями и подарит бессмертие его душе. Один лишь факт, что он туда приехал, становился свидетельством его могущества, ведь Южный Уэльс не всегда тепло принимал английских королей.
Тысячелетиями люди по всему миру совершали паломничества в поисках помощи и исцеления у своих богов, святых и духов, когда им была необходима защита и успокоение души; с желанием поблагодарить их или сделать какое-то политическое заявление. Для некоторых это означало преодолеть тысячи километров за месяцы, если не годы, чтобы добраться до святого места. Но большинство могли совершить паломничество за один день. Многие паломники, как Генрих II, раз за разом отправлялись в паломничество по разным причинам, ведь в каждом святом месте можно было найти что-то свое.
Паломничество как практика, принятая в большинстве мировых религий, всегда было отражением последних событий вне зависимости от того, кто совершает это путешествие, будь то приверженцы основных религий, небольших сект или люди, не принадлежащие никаким конфессиям. Каждый мусульманин, у которого есть возможность, обязан хоть раз в жизни посетить Мекку. Для христиан паломничества добровольны, но достаточно традиционны. Индуистов и буддистов призывают к паломничествам, а для индейцев Великих равнин и цыган в Европе это важная веха и неотъемлемая часть жизни. Однако с течением времени в разных уголках планеты ответы на связанные с паломничествами вопросы «как?», «когда?» и «почему?» менялись в зависимости от внешних факторов – от военных действий до погоды. В свою очередь, паломничества совершались по самым разным причинам – от личного исцеления и духовного роста до поиска одобрения политических решений или получения поддержки со стороны имперского правления. На сегодняшний день паломничества в первую очередь являются возможностью поразмышлять о вере и благополучии или поспособствовать их обретению, но у многих в древности сочетание духовного и земного было очень крепким, почти неразделимым. Древние греки регулярно консультировались у оракулов по вопросам политики и войны, в Древнем Китае ожидали одобрения высших сил природы при смене правящей династии, средневековые короли искали духовной поддержки во время войн и возносили благодарность в местах паломничества, когда одерживали победы на поле боя. Какой могла бы быть история, не будь паломничество частью политического мира? И оно ведь не менее важно и на личном уровне: пока медицина не стала доступна широким слоям населения, что бы делали тысячи паломников, искавших исцеления в святилищах, у святых источников и религиозных мест по всему миру? Куда бы они обратились в тяжелые времена?
Некоторые места паломничества существуют уже тысячи лет, например священные горы Китая или почитаемые во всем мире реки или иные водоемы. Другие места появляются, но исчезают из-за конкуренции, ведь возникают новые центры притяжения паломников со своими достопримечательностями и особенностями. Больше чудес, более могущественные боги, более крупные здания – все это побуждает паломников выбирать новые святые места. Места с меньшей притягательностью, с меньшими доходами и проходимостью остаются в стороне. Некоторые паломничества прекратились, поскольку изначально привлекательные для этого места либо пришли в упадок, либо попросту исчезли. На протяжении истории святыни и захоронения разрушались природными стихиями, враждебными правителями или захватчиками. Иногда это лишь сопутствующий ущерб, но если центры паломничества играют определяющую роль в суверенитете населенного пункта или всей страны, нападения на них могут быть целенаправленными и политическими. Именно политические трения привели к разрушению святынь суфиев и алидов в Иране и Центральной Азии в Средние века, а также храмов в Индии во время европейской колонизации. Ввиду изменений убеждений и идеологий места паломничества были разрушены, и даже само паломничество порой запрещали. В период Реформации были снесены святыни в Британии и Нидерландах, тысячи зданий были заперты; статуи, раки и живописные изображения были уничтожены и расплавлены, а паломничество фактически стало противозаконным, ведь католицизм был подавлен.
Далее мы увидим, что новые места для паломников все же создаются. Люди, ищущие более тесной связи с божественным, приняли все: от пещер до священных рощ, от тел святых до картин. Благодаря новым религиям появляются места паломничества в связанных с основателями этих верований локациях, подобно тому, как это происходило и происходит у всех основных религий. В официальной доктрине Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (или мормонов), религии XIX века реставрационистского происхождения, нет паломничества, но именно оно является причиной появления новых сторонников этой веры. Все больше верующих привлекают места, связанные с основателем мормонизма Джозефом Смитом: например, храм, где у него было первое видение, или локации, где он с последователями останавливался во время своего трехмесячного похода по штату Юта. Похожую картину можно наблюдать по всему миру: причины появления новых центров для паломников столь же разнообразны, как и лежащие в их основе новые верования.
Перемещаясь по миру, приверженцы более древних религий – торговцы, колонизаторы, миссионеры – всегда строили новые храмы и святилища так, чтобы быть ближе к богам. Именно это и произошло в Гоа: иезуитские миссионеры из Португалии построили там церковь, куда перевезли мощи одного из основателей их ордена, Франциска Ксаверия, скончавшегося в 1552 году на пути в Китай. Этот великолепный памятник, базилика Бон-Жезуш, находится в самом сердце построенного португальцами города Старого Гоа и является одним из семи чудес португальской колониальной архитектуры. Это свидетельство того, как миссионеры и колонизаторы распространяли паломничество и проповедовали свою веру, создавая новые центры. Но также это лишь одно из сотен мест во всем мире, которые люди всех вероисповеданий использовали для создания новых общин, центров паломничества и обращения в свою веру. Влияние подобных мест увеличивалось, а параллельно с этим росла значимость других центров паломничества, и это позволяло им становиться частью локальной (если не национальной) идентичности.
Иногда доступ к местам паломничества затруднялся или вовсе ограничивался: всемирная история паломничества также является историей политического и демографического контроля. Например, во время Второй мировой войны из-за нарушения повседневной жизни и дезорганизации путешествий совершать паломничества стало сложнее. Тем не менее именно в это время многие люди искали спасение в вере, поэтому паломники так или иначе находили способы путешествий к святым местам. Неудивительно, что в паломничествах люди молились о мире и помощи против врага, а доступ к местам паломничества был закрыт оккупационными силами, намеревавшимися лишить побежденных их идентичности и успокоения, которые паломничество дарило всем без исключения. Немецкие оккупанты переименовали аллею Пресвятой Девы Марии в городе Ченстохове, являющуюся объектом паломничества и ведущую к Ясногорскому монастырю, где хранится икона «Черная мадонна» («Царица Польши»), в аллею Адольфа Гитлера, чтобы придать городу немецкого колорита2. В последнее время паломничества также используются для обеспечения политического и светского контроля в мирное время. В конце 2020 года китайские власти ввели запрет на паломничества в Мекку для уйгурских мусульман. Лондонская газета «Таймс» даже выпустила статью с заголовком «Китай запрещает хадж3 для мусульман, не прошедших тест на патриотизм», поскольку были обнародованы планы подвергнуть потенциальных паломников обучению и проверкам перед выдачей им разрешений на поездку в Саудовскую Аравию под наблюдением сопровождающих4.
За последнее столетие термином «паломничество» все чаще стали обозначать все сколько-нибудь значимые путешествия: марши протеста против безработицы или требования права голоса; отпуск в домах знаменитостей, например Элвиса Пресли; поездки памяти и траура на Западный фронт Первой мировой войны; поездки в японские лагеря для интернированных времен Второй мировой войны. Всегда существовала спорная связь между паломничеством и туризмом, которая выдвигается на первый план, когда термин «паломничество» ассоциируется с побегом от стресса современной жизни, временем, проведенным на природе, или возможностью побыть вместе с семьей. Это признак секуляризации5 общества, однако религиозное паломничество также продолжает набирать обороты. Казалось бы, мотивация к паломничеству изменилась. Несмотря на это, многое из того, что побуждает паломников путешествовать, никуда не делось, и порой удивительно, что это продолжает влиять на современный мир.
На страницах этой книги всемирная история паломничества будет изучена сквозь призму девятнадцати мест паломничества. Также мы изучим их роль в мировой истории и понаблюдаем, как они формировали общество, культуру и политику от Античности до наших дней. Путь начнется на востоке, с двух величайших мест паломничества в мире, древних колыбелей цивилизации: горы Тайшань в Китае и реки Ганг в Индии. Затем мы отправимся на запад, в греческие Дельфы, в храм оракула, который консультировал древнегреческих политиков и полководцев. После этого нас ждут четыре наиважнейших для сохранения и продолжения величайших традиций мирового паломничества города: Иерусалим, центр паломничества трех основных мировых религий; Мекка, главный священный город мусульман; Рим, центр католицизма, и Стамбул – город, который в разное время находился под контролем православных христиан, католиков, а теперь и мусульман.
Оттуда мы переместимся в два места, которые отражают более узкие и личные традиции паломничества, хоть и по-разному. Айона, маленький остров на западе Шотландии, в Средние века был важным центром паломничества для Королевства Островов6, но теперь это место экуменизма7 и центр для членов международного сообщества Айоны. Город Кербела (Ирак), напротив, является местом крупнейшего мусульманского паломничества в мире, однако там царит та же комфортная, семейная атмосфера, что и на Айоне.
Далее мы отправимся в город Чичен-Ицу в Мексике и к холму Беар-Бьютт (США). Это два религиозных места индейцев с практиками, чуждыми европейцам, которые с ними столкнулись. А в городке Мушима (Ангола) ситуация обратная: захватчики и колонизаторы основали это поселение и построили там церковь, где насильно крестили рабов. Такой произвол противоречит заявленному посылу мирного паломничества. Примерно в то же время на севере Индии, в городе Амритсаре, был создан новый центр паломничества. Не принудительным заселением, не колонизацией – путем покупки земли с целью создания святого места для паломников.
В последних шести главах будут охвачены самые разные паломничества – всемирно известные, малоизвестные и, вероятно, языческие. Их объединяет то, что они отражают современные идеи паломничества и разнообразие принимаемых им форм. Лурд и Сент-Мари-де-ла-Мер – два святилища на юге Франции, где поклоняются женщинам, которые радикально отличаются друг от друга. Первое посвящено Деве Марии, и это образец традиционного католического паломничества: больных сопровождают священники, монахини и волонтеры, которые совершают акты веры, помогая больным и сопровождая их. Другое же – место встречи цыганских паломников, музицирующих и празднующих до глубокой ночи так, что их более консервативные визави в Лурде наверняка будут шокированы, а также поклоняющихся Черной Саре, которую Католическая церковь не причисляет к лику святых. На следующих двух паломничествах, в городке Ратана Па (Новая Зеландия) и в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, чествуют деятелей XX века, которых, несмотря на значительные противоречия, почитали как при жизни, так и после смерти. Эти паломничества тесно переплетены с политикой этих стран, и продолжающие приезжать туда паломники делают это с целью или получить политическую поддержку, или выразить свой протест. В последних главах мы охватим два великих паломнических маршрута мира: круговой маршрут по острову Сикоку в Японии протяженностью около 1200 километров и 770-километровую «Дорогу французских королей» в город Сантьяго-де-Компостела на севере Испании. Несмотря на то что в обоих случаях паломники двигаются по заданному маршруту, они проходят их по-разному: предметом вечного спора о том, что вообще значит быть паломником, является выбранный им способ передвижения – пешком, на велосипеде или на машине.
Я бы с легкостью могла выбрать около сотни мест паломничества в одной стране, и все равно я бы мучилась из-за тех мест, которые пришлось опустить. Сотни маленьких церквей, крошечных источников и отдаленных горных святилищ жизненно важны для тех, кто живет в непосредственной близости от них, но на этом их влияние заканчивается. На каждую Мекку или Лурд, куда съезжаются миллионы паломников со всего мира, найдутся тысячи малоизвестных мест, посвященных людям, о которых вы никогда не услышите, но которые ежегодно посещает группа паломников. Для них эти места невероятно важны, в нас же они пробуждают некоторое любопытство. Также можно отметить, что существуют важные центры паломничества с глобальным охватом, но я о них не расскажу, потому что они схожи с историями избранных мной локаций. Вероятно, для них найдется место в другой книге. А для этой я выбрала места, опираясь на то, что они расскажут о роли паломничества в мировой истории: как оно может создавать или разрушать политические режимы, побуждать миллионы людей молиться об исцелении, создавать и объединять общины, вдохновлять строительство глобальной инфраструктуры или воплощать идентичность народа. Без сомнений, многие из них вам уже знакомы – Рим, Иерусалим, Сантьяго, Сикоку. А другие менее известны, но не менее важны для понимания многообразия способов паломничества людей и влияния, которое оно оказало на них, их общества и весь остальной мир.
Глава 1
Тайшань
Китай
В 1999 году в Китае начали вводить в обращение денежные знаки нового образца. Одним из главных изменений стал дизайн банкнот: если на прежних купюрах можно было видеть представителей различных народностей Китая, то на лицевой стороне новых банковских билетов был изображен портрет бывшего лидера страны Мао Цзэдуна, написанный художником Лю Вэньси. На другой стороне власти решили показать культурно или исторически значимые для китайского народа места: на банкноте в 100 юаней изображен Дом народных собраний в Пекине, здание парламента; а реверс банкноты в десять юаней занял невероятно красивый регион «Три ущелья» на реке Янцзы. Для купюры в 5 юаней было выбрано изображение горы Тайшань (Тай), самого почитаемого священного пика Китая8. Это высочайшая гора в провинции Шаньдун. Она расположена в 500 километрах к югу от Пекина и возвышается более чем на 1500 метров над городом Тайань. Более резкий контраст, чем между портретом Мао и изображением горы Тайшань, придумать было сложно. С одной стороны, отец-основатель китайского коммунизма, который придерживался антиимпериалистических взглядов и отвергал традиционную «отцовскую власть» и почтение к предкам, а его главным стремлением было сделать поклонение коммунистическому народу и строю основной идеологией. С другой – место, символизирующее императорскую власть (отвергнутую коммунистами) и сыновнюю почтительность (поклонение предкам), в значительной степени подавляемую коммунизмом. Однако она занимала важнейшее место в культуре и обществе Китая на протяжении нескольких тысячелетий.


Банкнота достоинством в 5 юаней образца 2005 года. На новых банкнотах изображены объекты национального значения в Китае, например гора Тайшань, избранная для самой распространенной банкноты в обращении
В Китае пять священных гор: Хуашань на западе, Тайшань на востоке, две горы Хэншань – одна на севере, другая – на юге – и Суншань в центре. Каждая из них олицетворяет пять элементов (землю, воду, дерево, огонь, металл), которые, по общему убеждению, образуют всё во вселенной9. Все пять пиков являются объектами паломничества. Несмотря на то что некоторые из них выше, Тайшань является важнейшим из них: ввиду расположения на востоке пик освещается солнцем, источником жизни, раньше других. И действительно, ночное восхождение – это популярный способ посетить Тайшань, ведь у паломников появляется возможность наблюдать за восходом солнца с самой вершины. Вероятно, на эту гору поднимаются чаще, чем на другие склоны мира, а поклоняться ей начали уже в эпоху неолита, хотя самые ранние свидетельства паломничества датируются 219 годом до н. э., когда восхождение совершил первый император10.
В то время Тайшань привлекал величайших лидеров Китая, а также ученых, философов, судебных чиновников, крестьян и беднейшие слои населения. Они приходили по множеству причин, связанных с верой, философией и иными жизненными обстоятельствами. Тайшань для даосов – дом бога природы, приносящего столь необходимый дождь, а он сам своим размером и присутствием олицетворяет стабильность в тяжелые времена11. Для других людей это источник жизни или место, куда возвращаются души и где дух горы Тай правил царством мертвых. На Тайшане поклоняются многим божествам, в том числе и дочери бога горы, Бися Юаньцзюнь, однако и саму гору считают богом с большой властью над судьбами людей12. На Тайшане люди поклоняются природе, паломники молятся за детей или умерших и находят помощь, как и во многих других местах по всему миру. По политическим причинам гора привлекала китайских лидеров, среди которых было по меньшей мере 12 императоров и более 90 царей Древнего Китая.
Паломники преодолевали около 6700 ступеней от Северных ворот до вершины, следуя по тропе, усеянной небольшими храмами и святилищами, 11 воротами и 14 арками, проходя мимо увековечивающих визиты предыдущих паломников надписей, высеченных на скалах. Они приезжали со всех уголков Китая и представляли самые разные слои общества. В 1313 году один чиновник пожаловался:
В наши дни благородные господа, крестьяне, ремесленники, купцы, и даже бегуны, борцы, актеры и блудницы… ради молитв об удаче и исполнения своих обетов пренебрегут своими делами, но при этом соберут деньги и товары, золото и серебро, вазы и тарелки, лошадей и седла, одежду и шелка, и соберутся со всех уголков мира; должно быть, тут собираются десятки тысяч человек, и гвалт несколько дней не прекращается… А раз существует такая толпа простых и сбитых с толку людей, должны быть и люди хитрые, злые. И это приведет не только к однозначному осквернению божественного разума, но и, боюсь, к возникновению всевозможных неприятностей13.
Ведущая вдоль склона горы тропа часто была заполнена посетителями: особенно в теплые месяцы толпы были настолько плотными, что их сравнивали с роем насекомых. Чиновник Ван Шичжэнь, посетивший это место в 1550-х годах трижды, считал, что поднимавшиеся по этой извилистой горной тропе перед рассветом паломники с фонарями напоминали «большой рой светлячков»14. На вершину горы также направлялось огромное количество паломников, чьих имен мы не знаем: к 1600 году, возможно, оно уже достигло миллиона человек в год15.
Со временем появлялись новые сакральные сооружения. Например, храм у бассейна Нефритовой Девы (XV век) или кипарис, посаженный, чтобы увековечить паломничество императора У-ди (правил в 141–87 годах до н. э.). Сейчас их стало настолько много, что паломников теперь предупреждают, чтобы они по пути наверх не останавливались слишком часто, иначе до вершины никогда не дойдут. Большинство паломников идут пешком, хотя на протяжении нескольких столетий состоятельные граждане платили за то, чтобы их несли в паланкине. А с 1983 года паломники ездили на автобусе и по канатной дороге (до того момента, пока гору не добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и эти варианты передвижения не убрали)16.
Экономика процветала, поэтому росла необходимость обслуживать все большее количество паломников к горе Тайшань. Ученый и чиновник Чан Тай в XVII веке во время своего визита засвидетельствовал наличие на маршруте паломничества гидов, которые размещали людей и принимали у них плату за доступ к горе, управляли носильщиками паланкинов и даже могли предоставить наложниц для желающих. Для паломников устраивались большие пиры с музыкой и пением, а гиды получали немалую прибыль с 8–9 тысяч паломников, ведь именно столько людей приходило к горе ежедневно, по словам Чан Тая. Перед храмом Дунъюэ паломники XVII века также могли насладиться петушиными боями и борьбой, посмотреть пьесы, послушать рассказы или сделать покупки в многочисленных киосках и павильонах.
За несколько веков на маршруте к пику Тайшань появилось множество торговцев и компаний, обслуживающих паломников17. Неприятное впечатление на Чан Тая произвели бедняки, просящие милостыню вдоль всего маршрута, и надписи на склоне горы. «Нищим гора Тай нужна только ради денег, а победители пользовались ей лишь ради славы», – жаловался он, когда его несли в паланкине мимо протянутых рук бедняков18. Их все еще оставалось на маршруте немало, когда в паломничество в 1930-х годах отправилась американская художница Мэри Малликин. Один из них специально оборудовал кровать на обочине дороги, а другой смастерил чучело самого себя, которое усадил рядом с чашей для подаяний, пока сам занимался другими делами. Игнорировать сидящих посреди толпы нищих было невозможно19.
Важность горы Тайшань определяет то, что она символизирует. Горы – это главный символ паломничества в Китае. В отличие от других частей света центры паломничества в Китае, как правило, находятся не в городах, а вокруг природных объектов. На самом деле, в китайском языке нет прямого эквивалента слову «паломничество». Вместо этого люди говорят «чаошань», что означает «отдать дань уважения горе», «цзяньсян» или «шаньсян» («предложить благовония»), то есть это обычный религиозный ритуал паломников, странствующих в горах20. Горы были и остаются важной составляющей многих практикуемых в Китае верований – даосизма, буддизма, конфуцианства, народных религий. То же самое можно сказать о курильницах для благовоний в форме горных хребтов или пиков, продающихся по всему Китаю. Приверженцы разных религий могут поклоняться своим богам и богиням в этих местах, а также верить, что именно они несут ответственность за различные аспекты человеческой жизни. Несмотря на это, главной остается сама гора. Французский историк Эдуар Шаванн сказал: «В Китае горы – это божества»21.
Паломничество как долг
Одним из убеждений, определяющих китайское общество, является важность сыновней почтительности – ключевого принципа конфуцианства и даосизма. Сыновняя почтительность охватывает множество поступков и принципов поведения, но к главным из них относятся почтительное отношение к предкам и беспрекословное подчинение им, забота о них и способность обеспечить наследников мужского пола для продолжения рода. Эти принципы свойственны почти всем китайским верованиям и действуют на протяжении уже нескольких тысячелетий. Сыновняя почтительность была настолько важна в истории Китая, что еще в период правления династии Тан (VII–X века) законом осуждалось оставлять своих родителей или недостаточно скорбеть по ним. Между тем недавняя демографическая политика Китая (один ребенок на одну семью) приводила к случаям принудительных абортов по половому признаку, детоубийств и отказов от детей, поскольку родители отчаянно хотели именно мальчика. Однако сыновняя почтительность – это нечто большее, чем семейная ценность. Верность предкам отождествлялась с верностью империи, поэтому принципы сыновней почтительности пропагандировались на протяжении большей части истории имперского Китая22.
Паломничества во имя предков были настолько популярны, что со времен Средневековья о них писали стихотворения, пьесы и романы, которые становились поучительными историями о важности истинного сыновнего почтения. Согласно этим верованиям, живые обязаны выражать почтение предкам мужского пола с помощью подношений и молитв, а духи предков взамен помогут живым в трудные времена. Паломники могли обратиться к мертвым на Тайшане, ведь гора была для них воротами. Китайцы верили, что души покойных отправлялись на небольшой холм у подножия горы, где их судьбы вершило ее божество. Благодаря этому Тайшань является идеальным местом общения с предками, ведь там их было легче найти. И гора действительно настолько сильно ассоциируется со смертью и предками, что некоторые придавали могилам усопших форму гор. Неудивительно, что «восхождение на вершину Тайшаня» стало метафорой смерти23.
Род не должен был прерываться, чтобы живые могли молиться за умерших и оставаться в безопасности, зная, что в будущем их потомки смогут таким же образом молиться за них. Это означало, что паломничество на Тайшань было связано и с предками, и с потомками, ведь в дополнение к почитанию умерших мужчина также мог молиться о своем сыне, который продолжил бы выполнять семейные обязательства после смерти главы семьи. Если мужчина не мог завести сына, это означало, что он подвел своих предков24. С XIII века на гору Тай начали подниматься женщины, верившие, что это принесет им и их семье наследника мужского пола. Бездетным женщинам не было места в китайских семьях, поэтому необходимо было родить сына, чтобы сохранить свое место в роду и гарантировать безопасность в доме в течение их жизни. Принцессы и супруги императоров просили на пике горы сына, наследника, «чтобы обеспечить прочность государства»25. Пожилые женщины с забинтованными ногами ходили молиться за внуков, а жены – за сыновей, сжигая свои подношения в надежде, что это поможет. В первую очередь они молились дочери бога горы, Бися Юаньцзюнь, которая играла (и продолжает играть) особую роль богини плодородия и славилась тем, что даровала беременность парам без наследников. Несмотря на то что сыновняя почтительность уже не так сильно влияет на китайское общество в наши дни, женщины по-прежнему поднимаются на гору в надежде, что у них или их детей получится зачать мальчика, там они сжигают бумажные деньги и благовония, как и на протяжении многих веков.
В Китае женщины-паломницы долгое время вызывали подозрение. Вероятно, из-за того, что они использовали паломничество, чтобы избежать строгих и ограничивающих рамок китайских общественных нравов. В середине XVII века магистрат по имени Хуан Лю Хун составил известное в Китае руководство для своих коллег-судей, в котором утверждал, что женщины использовали паломничества как прикрытие для путешествий ради предосудительной деятельности, которую явно нельзя было назвать религиозной. Он предупреждал, что женщины «ищут связей с распутными юношами в секретных проходах монастырей»26. Он жаловался на оргии в святынях Тайшаня. Подозрительность к женщинам-паломницам – это лейтмотив в истории всех верований, и гнев Хуан Лю Хуна, вероятно, больше говорит о нем самом, чем о реальном поведении китаянок во время паломничества. Тем не менее его обвинения получили широкое распространение, и китайцы стремились принять законы, которые напрямую запрещали женщинам отправляться в паломничества. Правда, влияния они не оказали почти никакого27.