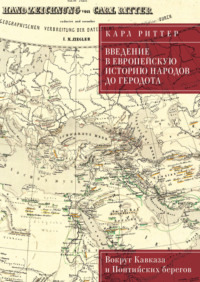Czytaj książkę: «Введение в европейскую историю народов до Геродота. Вокруг Кавказа и Понтийских берегов»
Carl Ritter
Die Vorhalle Europäischer Völkergeschichten vor Herodotus, um den Kaukasus und an den Gestaden des Pontus: Eine Abhandlung zur Alterthumskunde – 1820
© В. А. Ткаченко-Гильдебрандт, перевод на русский язык, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025

Издательство, а также автор вступления и переводчик книги выражают глубокую признательность за моральную и материальную поддержку Зазе Джемаловичу Хугаеву, сыну осетинского народа, о предках которого – иседонах, аримаспах, мидянах, меотах и асах – повествует выдающийся прусский географ и основоположник современной геополитики Карл Риттер.
Γελῶ δὲ ὁρέων γῆς περιόδους γράψαντας πολλούς ἤδη ϰαὶ οὐδένα νόον ἔχοντως ἐξηγησάμενον.
Геродот. IV. 36
Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания земли.
Геродот. IV. 36
Моим дорогим близким друзьям Августу Хольвег-Бетману, Dr. Jur. Utr. И Детмару Вильгельму фон Зоммеррингу, Dr. Мed. et Chir., со старой сердечной привязанностью, засвидетельствованной автором
Поэтика геофилософии
Вступительное эссе переводчика
«Quī gentis annālēs ēdidērunt, nūmen populāre memorant, Crodum quendam, messōris speciē, quī cīnctum līneum gestat, dexterā ferēns vāsculum rosīs replētum, sinistrā ērectā rotam currūs. pedibus nūdīs īnsistit piscī squammōsō et asperō, quem percam vocāmus».
Alexander Rossen «Unterschiedliche Gottesdienste in der gantzen Welt», Heidelberg, [Nürnberg]: Endter1668
«Составители летописи сообщают о местном божестве, каком-то Кродо в образе сборщика урожая (косца, жнеца), который носит льняной пояс, правой рукой держа небольшой сосуд, наполненный розами, левой колесо двухколёсного плуга. Босыми ногами он стоит на покрытой чешуёй и шершавой рыбе, которую мы называем окунь».
Из книги Александра Россена «Различные богослужения по всему миру», Гейдельберг [Нюрнберг]: окончено в 1668 году
Тени трех выдающихся сербов и… Екатерина Великая
Если говорить о происхождении Карла Риттера, то оно не менее удивительное, чем и его книга «Введение в европейскую историю народов вокруг Кавказа и Понтийских берегов до Геродота», причем и происхождение, и книга стоят как бы особняком от его магистральной научной деятельности, заложившей как основы географии, преподаваемой в школе, так и главные положения будущей геополитики пангерманизма.
Итак, по происхождению Карл Риттер ассимилированный славянин, поскольку его предки были из крестьян Сербской области (Zerbster-Land) из окрестностей городка Цербст, что до сих пор на серболужицком языке Serbsk или Сербск, по крови и исторически принадлежа к частично истребленным и частично ассимилированным саксами полабским сербам. Вообще, как правило, средневековые саксонские колонисты селились по городам в славянских марках, а крестьянское население их округ, подвергшись германизации в религии и культуре, по крови оставалось славянским, о чем во многом свидетельствуют данные ДНК-исследований жителей Восточной Германии (бывшей ГДР), подчеркивающие их разительное отличие от тех же немцев Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга и др. западных областей.

Карл Риттер. Портрет кисти Фридриха Георга Вейча (1758–1828). Галерея великих немцев

Карл Риттер. Литография Рудольфа Гофмана от 1857 года
Семейство Риттер приобрело городское право, став мещанским, сравнительно поздно – только в период разрушительной для Германии Тридцатилетней войны. Ее первым представителем, вошедшим в бюргерское сословие, оказался полабский крестьянин Кристоф Риттер (1606 г. р.), ставший портным в княжеском городке Барби (Эльба), где его потомки занимали почетные должности городских советников.
Карл Георг Риттер родился 7 августа 1789 года в Кведлинбурге в ныне не существующем доме на Штайнбрюкке, 15, в семье лейб-медика и княжеского надворного советника Ангальт-Цербста Фридриха Вильгельма Риттера и Софии Доротеи, в девичестве Ольшлегер (Oelschläger). Кроме него, в семье воспитывалось еще пятеро детей, двое из которых братья Иоганнес и Генрих Август стали весьма известными людьми в своем отечестве. Первый долгое время служил управляющим книжным магазином Николаи в Барби, он женился на Лилли (+1840), дочери пастора и эфора гимназии в Кведлинбурге, а также теологического и педагогического писателя Августа Крамера (псевдоним Филопонус, 1745–1801) и его жены Иоганны Доротеи Юлианы N. (1753–1829); шурином Иоганнеса Риттера был налоговый инспектор в Гальберштадте Фридрих Крамер (1779–1836). Сын Иоганнеса и Лилли Риттер Франц (1836–1907) стал табачным фабрикантом в Бремене. Наследник его состояния и сын Герман Риттер (1878–1949) весьма преуспел в табачной коммерции, распространив деятельность своего предприятия акционерного общества «Мартин Бринкманн Табак» на другие немецкие города, в том числе Айзенах и Гейдельберг. С 1915 по 1922 гг. неоднократно занимал пост вице-президента и президента Бременской торговой палаты. С начала 20-х принадлежал к правой консервативной Немецкой национальной народной партии. После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году получил на короткий срок при правящем бургомистре чин бременского сенатора, а немногим позднее обрел статус государственного советника Бремена (Bremer Staatsrat) и в 1937 году вступил в NSDAP. В ту пору табачная фабрика Риттера считалась одной из крупнейших в Европе, поскольку на ней трудилось к 1933 году 4000 человек. Во время Второй мировой войны возглавлял в Берлине экспертную группу по табачной промышленности, состоя с 1937 года попечителем и так называемым продвигающим членом SS, отвечающим за финансовую поддержку данного института нацистской партии. Двое его сыновей Вольфганг (1905–1993) и Гельмут (1907–1968) удачно продолжили табачное дело своего отца, пережив денацификацию. Первый объединил отцовскую компанию с Rupert Group в 1967 году, а через год объявил о прекращении своей профессиональной деятельности, когда в целях налогообложения перебрался на местожительство в Швейцар ию. В 1970 году Вольфганг Риттер основал Фонд Мартина Бринкманна, который в 1981 году был переименован в Фонд Вольфганга Риттера, и с тех пор этот фонд совместно с Бременским университетом и Высшей школой Бремена за счет грантов обеспечивает ежегодную премию Вольфганга Риттера, присуждаемую ученым за исследования в области предпринимательства и рыночной экономики. Отметим, что потомки рода надворного советника из Цербста Фридриха Вильгельма Риттера есть только в этой ветви, поскольку в браке Вольфганга Риттера с Элизабет Фишль (Fischl) от 1946 года роди лось двое сыновей.

Гёттингенский профессор Генрих Риттер. Портрет кисти Эдуарда Ритмюллера (1805–1869)
Генрих Август, младший брат Карла Риттера, родился в Цербсте 21 ноября 1791 года и умер в Гёттингене 3 февраля 1869 года. Он закончил гимназию в родном городе, а с 1811 года изучал евангелическо-лютеранское богословие и философию в университетах Галле, Берлина и Гёттингена. Его обучение прерывалось Европейской освободительной войной против Наполеона I, на которую он пошел добровольцем и принимал участие на полях сражений неподалеку от родного города. В 1817 году он написал сочинение «О философском образовании на основе истории философии», где разобрал взаимосвязь между философией Декарта и Спинозы, отмеченное премией Берлинской королевской прусской академией наук. В 1824 году он уже доцент философии в Берлине, а в 1832, достигнув сорокалетнего возраста, становится членом Берлинской академии, а через год уезжает преподавать философию, как ординарный профессор, в университет Христиана-Альбрехта в Киле. Спустя четыре года он перешел на кафедру философии Гёттингенского университета Георга-Августа, где работал уже до своей смерти. По работоспособности и плодотворности он был подобен своему старшему брату Карлу Риттеру, основоположнику современной классической географии, как мы ее знаем из курса средней школы. Генрих Риттер является автором 12-томного фундаментального труда «История философии», выходившего в Гамбурге с 1829 по 1853 гг. Кроме того, его перу принадлежат следующие произведения: «Христианская философия по своему понятию, внешним условиям и по своей истории вплоть до новейших времен» («Die christliche Philosophie nach ihrem Begriff, ihren äußern Verhältnissen und in ihrer Geschichte bis auf die neuesten Zeiten»), 2 тома, 1858–1859 гг.: вышло как приложение к «Истории философии»; «Энциклопедия философских наук» («Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften»), 3 тома, Гёттинген, 1862–1864 гг.; «История греческой и римской философии по текстам источников» («Historia philosophiae Graecae et Romanae ex fontium locis contexta»), 1838 год, в соавторстве с замечательным немецко-российским эллинистом Людвигом Преллером (1809–1861); и др. Философское творчество Генриха Риттера пронизано спиритуализмом Фридриха Даниэля Эрнста Шлейермахера. Однако о достоинстве трудов Генриха Риттера свидетельствует тот факт, что они неоднократно переводились на многие европейские языки.

Александр фон Гумбольдт (сидит) на лекции Карла Риттера в Берлине
В 1785 году Карл Георг Риттер был принят вместе со своим домашним учителем Иоганном Кристофом Фридрихом Гутсмутом (1759–1839), благодаря которому в европейских школах появится предмет «гимнастики» и физической культуры, учеником лингвистической школы Зальцмана в Шнепфентале (район тюрингского города Вальтерсгаузена), где вскоре стал выделяться своим талантом безупречно штриховать и раскрашивать карты. Полагают, что уже в ту нежную пору над ним довлели влечения к классическим языкам и географии, которые он, объединив, выразил впоследствии в своей фундаментальной исторической географии. В 1795 году незаурядного юношу заметил франкфуртский олигарх, купец и банкир Иоганн Якоб Бетман-Хольвег (1748–1808), через год назначивший его воспитателем своих сыновей, что одновременно позволило Карлу Риттеру обучаться в университете Галле. С тех пор связь с этим могущественным семейством красной нитью прошла через жизнь и научную деятельность Карла Риттера, а его изыскания обрели пока еще сдержанный, но принципиальный характер пангерманизма. Так в творчество еще очень молодого ученого была внесена тенденциозность, развивавшаяся сообразно его недюжинному таланту, плоды которой реализовались в прусской и германской политике столетие спустя, лаконично сводясь к девизу «Drang nach Osten». В период с 1798 по 1813 гг., сопровождая сыновей олигарха Бетмана-Гольвега Иоганна Филиппа (1791–1812) и Морица Августа (1795–1877), совершил несколько образовательных путешествий по Швейцарии, Франции, Италии и Савойе, в одном из которых в 1812 году во Флоренции скоропостижно скончался старший сын франкфуртского купца Иоганн Филипп; тогда как младший сын, воспитанный и индоктринированный Карлом Риттером по заветам Иоганна Якоба Бетмана-Гольвега, становится выдающимся немецким юристом и прусским политиком, евангелическо-лютеранским фундаменталистом, членом Прусского ландтага и главой фракции либерально-консервативной партии в нем, а с 1858 по 1862 гг. министром культа Прусской монархии.

Мориц Август фон Бетман-Гольвег, воспитанник и ученик Карла Риттера. Портрет неизвестного автора
Итак, в 1819 году Карл Риттер получает место учителя истории в гимназии Франкфурта-на-Майне, а в 1820 навсегда покидает этот город, чтобы занять место первого профессора географии, страноведения, народоведения и обществоведения в Берлинском университете. Его лекции славились популярностью среди интеллектуалов прусской столицы: их посещали такие разнонаправленные личности, как Отто фон Бисмарк, будущий прусский военный министр Альбрехт фон Роон, сам написавший несколько работ по географии в духе Риттера, и Карл Маркс. Отметим, что универсалистский подход Карла Риттера, рассматривающий географию и уже картографию в контексте природоведения, человеческой истории, духовных начал и языкознания, был обусловлен, разумеется, эпохой немецкого романтизма и его выдающихся представителей – Гёльдерлина, Новалиса, Брентано, братьев Шлегелей, Шеллинга, Шлейермахера и др. Однако, в отличие от многих из них, даже порой поддаваясь поэтическому вдохновению, что видно по представленному нами его произведению, посвященному Кавказу и Понту, он, подобно античным философам, платоникам и неоплатоникам, никогда не предавался мистическим спекуляциям, столь свойственным тевтонским писателям и философам, наверное, со времен Якоба Бёме. В этом плане Карл Риттер всегда рационален, как и христианский теософ, переведший на латынь свод еврейской Каббалы с книгой Зогар Христиан Кнорр фон Розенрот (1636–1689), поскольку для Риттера рельеф местности – это не просто физический рисунок, а определенный аркан, который необходимо раскрыть, используя масштаб, во времени и пространстве. Что уже, согласимся, география, переходящая прямо в геополитику или, точнее, в геофилософию, пусть сам Риттер и не называет данной дисциплины, отпочковавшейся от географии, основоположником которой по существу и является. С 1828 по 1859 гг. Риттер несколько раз избирался главой основанного им же Берлинского географического общества. Он старался путешествовать каждое лето, даже когда ему уже было под восемьдесят. Посетил все страны Европы, за исключением Испании и России. Впрочем, есть мнение, что он весьма предвзято относился к Российской государственности, отсюда и нежелание приехать в страну (даже на любимый им Кавказ, черноморское и азовское побережье Новороссии), ученое сообщество которой относилось к нему с благоговением. Бесспорно, умея мыслить объемно, он прекрасно разбирался в географии российского пространства, но что же в таком случае ему помешало посетить Всероссийскую империю? Ответ тут прост: его же вышеназванная геофилософия, поскольку в будущем он не рассматривал имперскую территорию в качестве русской, российской, даже славянской, хотя сам и происходил из полабских сербов. Другое дело Иран – его труды по земельному праву и землевладению персидских государств разных эпох не утратили своей ценности и для современной науки. Карл Риттер – автор фундаментального произведения «Землеведение в отношении к природе и истории человечества» (нем. Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen; оно начато в 1817, а при жизни ученого вышло 23 тома, посвященных Азии и Африке).

Кведлинбург. Памятник от 1904 года немецкому педагогу Иоганну Кристофу Фридриху Гутсмуту со своим учеником Карлом Риттером. Скульптор Рихард Андерс
Тем не менее, в 1836 году Карл Риттер стал иностранным почетным членом Санкт-Петербургской академии наук, а спустя двадцать лет он награжден по представлению Императорского русского географического общества Орденом Святого Станислава 2-й степени.
Гениальный географ и первый геофилософ Карл Риттер умер 29 сентября 1859 года в Берлине и был похоронен ученым сообществом прусской столицы на лютеранском кладбище Святой Марии и Святого Николая на аллее Пренцлау № 1 района Пренцлау-Берг берлинского округа Панков. В 1879 году выдающийся русский путешественник и географ Николай Пржевальский, считавший Карла Риттера своим учителем, назвал в честь него исследуемый русской экспедицией горный хребет в Наньшане (он же Дакэн-Дабан). К этому времени в Германии уже позабыли об основоположнике современной географии, вспомнив о нем лишь на исходе XIX столетия, когда термин геополитика ввел в научный оборот шведский социолог и политолог Юхан Рудольф Челлен (1864–1922), прямой последователь идей геофилософии Карла Риттера.
Изучая личность Карла Риттера, мне почему-то представились сербские янычары, не по своей воле сменившие веру и национальную принадлежность, верой и правдой служившие османским султанам, и уже ненавидевшие свой род и происхождение. Не то же ли самое произошло и с тремя другими сербами, на сей раз интеллектуальными янычарами – Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646–1716), Карлом Риттером и Николой Теслой (1856–1943), пусть оба первые положили свои жизни на будущее утверждение пангерманизма (Лейбниц вообще чудил и, получая деньги из русской казны, измышлял каверзы против русского царя Петра I на международном уровне), а третий оказался на содержании у семейства Морганов? Вот уж воистину, султаны разные, а янычарство такое же, как и в XVI столетии, будь оно интеллектуальным или военным. Для тех и других главное – возненавидеть своих чем больше, тем лучше. После этой мысли наступило успокоение: подобные вещи разрешаются всегда только парадоксальным образом, тем паче тени трех выдающихся янычарствовавших сербов, промелькнув в сознании, растворились, будто ничего и не было.

Крест на могиле профессора Карла Риттера в Берлине на кладбище Святой Марии и Святого Николая (Панков)
Дело в том, что городок Цербст, где служил лейб-медиком и княжеским надворным советником Фридрих Вильгельм, отец Карла Риттера, находился во владении младшей ветви княжеского рода Асканиев, из которой происходила наша императрица Екатерина Великая. Первым представителем этого саксонского аристократического рода, как выясняется, ведущего свое начало от знаменитых асов скандинавских саг, являлся Адальберт Балленштедтский, живший в X столетии и женатый на Хидде, дочери маркграфа Одо Лужицкого. Их сын Эзико (Азико), граф в Швабенгау и Гау Серимунте, унаследовал от своей матери крупные земельные угодья между реками Заалой и Лабой, ставшие основой феодального могущества семейства и населенные в ту пору вендами: сусельцами, галомачами и сербами, из которых и происходит крестьянская фамилия Риттер, спустя столетия обретшая городское право в Барби на Эльбе. Внук Эзико Оттон Богатый (+1123 год) первым восстановил древнее наименование своего рода, приняв титул графа Аскания или в латинской традиции Ascharia. Причем последнее совпадает с названием города Ашерслебена в саксонской части Восточной Германии на границе с бывшими славянскими марками. Современные этимологи-германисты полагают, что оно, как, впрочем, родовое наименование графов Асканиев, восходит к личному германскому имени Askgēr (от древневерхненемецкого «asc» – немецк. «Esche», ясень, и основы «gair», означающей по-древнесаксонски «gēr», копьё), причем название города имеет окончание родительного падежа «-s» и распространено в немецкой ономастике с корнем «leben» «земельная собственность, надел, наследство». Подобная этимология нам представляется очень сложной и все же мало соответствующей духу раннего и высокого средневековья. Со своей стороны, мы считаем, что Askgēr это не что иное, как название знаменитого Ас-гарда, Ас-бурга, на Азовском море у впадения в него Дона-Танаиса, откуда и пришли в Скандинавию и в Центральную Европу знаменитые асы (азы), давшие свое имя и городу (Ашерслебену как малому Асгарду), и роду графов Асканиев, к которому принадлежит русская императрица Екатерина Великая. Бесспорно, с нашей этимологией согласился бы и Карл Риттер, к чему, разумеется, пришел бы сам, продолжив свое исследование об асах и ванах, начатое во «Введении в европейскую историю народов вокруг Кавказа и Понтийских берегов до Геродота», перенеся их отношения на борьбу между саксами и вендами в некогда славянском сербском Полабье, когда первые асы, а вторые ваны, о чем писали немецкие и австрийские писатели, близкие по направленности пангерманизму и ариософии. К слову, в 1828 году Всероссийский император Николай I за бесценок (по 8 копеек за 1 га) продал немецкому герцогу Фердинанду Фридриху Ангальт-Кёттенскому, представителю немецкого рода Асканиев, для создания овцеводческой колонии герцогства Ангальт-Кётен участок целинной степи в 60 км на юго-восток от левого берега Днепра в направлении Крымского полуострова. В 1841 году эта местность была названа «Асканией-Новой» (лат. «Ascania Nova») герцогом Генрихом Ангальт-Кёттенским, братом уже покойного Фердинанда Фридриха (+1830). После смерти самого бездетного Генриха Ангальт-Кётенского его наследники из ветви Ангальт-Дессау продали имение «Аскания-Нова» в 1856 году семейству саксонских колонистов Фальц-Фейнов, где Фридрих Фальц-Фейн основал ставший всемирно известным заповедник дикой степной природы. Так имя Асканиев вернулось в херсонские приазовские степи, некогда населенные их предками – асами, асбургианами, аланами, меотами и скифами-аскеназами (асканиями). Как бы то ни было, но одним из первых, кто обратил внимание научного сообщества на все вышеуказанное, это Карл Риттер, постаравшийся раскрыть поставленную проблему своей геофилософией.

Цербст. Памятник Екатерине Великой – Софии Августе Фридерике Ангальт-Цербстской. Скульптор Михаила Переяславец. Отлит в 2009 году
О «жизненном пространстве» и тесном Франкфурте-на-Майне. Историк Александр Дитц
Современные немецкие источники о Карле Риттере, к которым нам доводилось обращаться, почему-то стыдливо умалчивают о принадлежности самого термина «Lebensraum» («Жизненное пространство») Карлу Риттеру. Само понятие появляется довольно рано в произведениях выдающегося географа и, на наш взгляд, было подсказано ему другой личностью, от которой, вероятно, и можно отсчитывать практическое осуществление идеологии пангерманизма, пускай не вполне еще кристаллизовавшейся. Несомненно, речь пойдет у нас уже о неоднократно упоминаемом Иоганне Якобе Бетмане-Гольвеге, поистине незаурядной фигуре, определившей интеллектуальные парадигмы, в рамках которых протекала вся последующая научная деятельность Карла Риттера, на рубеже столетий домашнего учителя сыновей франкфуртского купца и олигарха.
Дело в том, что во Франкфурте-на-Майне, в ту пору городе, шедшем в авангарде мирового капитализма, как свидетельствует замечательный немецкий историк начала XX столетия Александр Дитц (1864–1934), автор принесшей ему известность «Родословной книги франкфуртских еврейских фамилий с 1349 по 1849 гг.» (1907 год), соперничали между собой две олигархические финансово-промышленные группы – христианская немецкая и еврейская иудейская, причем основными активами среди первой из них обладали лютеране и кальвинисты (в основном франкоговорящие гугеноты). Надо ли говорить, что конкуренция между обеими сторонами была очень жесткой и, разумеется, не ограничивалась обычными судебными разборками. Представляется, что и корни государственного немецкого антисемитизма при нацистах восходят к борьбе на протяжении последних двух-трех веков до этого христианских франкфуртских купцов и содержателей крупных ремесленных мастерских против Юденгассе (немецк. Judengasse, Еврейский переулок – район еврейского расселения во Франкфурте-на-Майне). Надо ли говорить, что именно с Юденгассе вышли все крупные мировые предприниматели и банкиры, среди которых семьи Ротшильдов, Кунов, Лёбов, Шиффов, Гомперцев, Оппенгеймеров и др. Обе группы теснили друг друга с переменным успехом. Тем самым, как нам представляется, посреди узких улиц и переулков густонаселенного христианами и евреями Франкфурта-на-Майне и в условиях непрерывного конкурентного поединка в средоточии немецких купцов и состоятельных бюргеров и возникла идея жизненного пространства, причем, если франкфуртский еврейский космополитический капитал мог развиваться экстенсивно, направляя свою экспансию на молодые США, что он и сделал, то у немецких банкиров и промышленников подобной возможности не было: Прусская евангелическо-лютеранская монархия не имела значимых колоний, однажды по объективным причинам опоздав к желанному пирогу по их разделу. Вот отсюда и мечта об обетованной земле на Востоке Европы, которая по праву должна принадлежать немцам. Этой идеей, лелеемой германским предпринимательским людом Франкфурта-на-Майне и окрестностей, и был индоктринирован во время своего пребывания здесь через своего наставника и работодателя Иоганна Якоба Бетман-Гольвега молодой талантливый географ и домашний учитель сыновей последнего Карл Риттер, остававшийся верен ей до конца, отчего, на наш взгляд, и отказался от посещения России и своих почитателей в ней.

Бертель Торвальдсен. Скульптурная эпитафия на смерть Иоганна Филиппа Бетмана-Гольвега, воспитанника и ученика Карла Риттера (Либигхауз, Франкфурт)
Стало быть, отсюда, а не наоборот, как принято понимать, проистекает его концепция органической модели государства, под которой необходимо понимать, конечно, Прусское немецкое государство и никакое другое (даже не Австро-венгерское). Эта сформулированная Карлом Риттером научная концепция предусматривает поглощение одним более сильным государством территории другого государства или народа, в том числе и насильственное, поскольку оно обеспечивает биологическую потребность в росте самой сильной государственности. Чем вам не «Drang nach Osten», пусть современные немецкие источники и справочники, говоря о Риттере, умиляются его гуманизму в отношении африканских и азиатских народов с его принципиальной позицией, осуждающей рабство чернокожих как в США, так и на Африканском континенте. Но наша задача объективно рассмотреть мировоззрение великого геофилософа и подлинного отца германской геополитики, проведя разбор и деконструкцию его главных идей, а они, как видим, пока вполне укладываются во взгляды чересчур эмоционального психически неуравновешенного автора «Mein Kampf». Вообще, рассуждая о Риттере, ненароком приходит на ум немецкая кинорежиссер и актриса Лени Рифеншталь (1903–2003) своим магическим талантом снявшая фильм «Триумф воли» (1935 год), посвященный V съезду NSDAP в Нюрнберге, а в послевоенные годы, пережив денацификацию, увлекшаяся фотографией и блестяще запечатлевшая на пленку представителей полудиких вольных африканских народностей. Однако, согласимся, что ученый несет бо́льшую ответственность за свои идеи, нежели художник, зачастую отображающий средствами живописи, слова или кинематографа осуществление тех же идей ученого по прошествии десятилетий, а то и столетий.
Интегральный традиционализм… И здесь Риттер? Европейский Будда-Аристей. Кродо или Сатар – славянский Будда
Собственно, данное мировоззрение и направление философии связаны для нас с именем французского эзотерика, культуролога, историка идей, посвятительных сообществ и плодотворного эссеиста Рене Генона (1886–1951). Но вот внимательное прочтение публикуемого нами труда Карла Риттера «Введение в европейскую историю народов вокруг Кавказа и Понтийских берегов до Геродота» приводят к выводу, что идеи, якобы впервые высказанные Геноном и оформленные им в философию традиционализма, уже были озвучены на столетие раньше немецким ученым, отчего он и заслуживает в высшей степени звания геофилософа.
Главная концепция традиционализма по Генону предполагает, что некогда существовал материк Арктогея, на котором процветали примордиальные знания и примордиальная религия, составляющие примордиальную традицию, впоследствии распавшуюся благодаря исходу племен и народов с его территории, обусловленному различными обстоятельствами. С другой стороны, Карл Риттер, повинуясь научным мнениям своего времени, видит подобную прародину в Средней Азии – от Бактрии и Согдианы на юг до Бамиана, а там на восток до истоков Инда и Ганга в Гималаях. Но если у Рене Генона примордиальная религия весьма абстрактное понятие, то у Карла Риттера ее роль исполняет первоначальный буддизм, который он считал наиболее древним верованием на земле, пришедшим непосредственно от Бога и его Аватаров. Отсюда характерное сближение у Риттера слов: санскритского Будды, персидского Ходо, славянского Бога и германского Водана, которые, разделившись, продолжают обозначать преданного забвению народами Будду их изначальной религии.
Вообще, автором Гиперборейской концепции, которую использовал Рене Генон, бесспорно, является французский эзотерик и член Ордена тамплиеров Бернара-Раймона Фабре-Палапра (1773–1838) Антуан Фабр д'Оливе (1767–1825), протагонист полигенетической гипотезы происхождения человека и человеческих рас, которую связывает со всеобщим космогенезом. Обо всем этом он изложил в своем объемном сочинении «Философическая история Человеческого рода или Человека» (издана в 2018 году на русском языке, изд. «Алетейя», перевод В. Ткаченко-Гильдебрандта). К сожалению, замечательно владевший французским языком его младший современник Карл Риттер не был знаком с этим произведением французского эрудита и полиглота, в противном случае, не преминул бы использовать его для своего «Введения в европейскую историю народов вокруг Кавказа и Понтийских берегов до Геродота» (1820 год), пусть даже «Философическая история Человеческого рода или Человека» в двух томах и увидела свет двумя годами позже – в 1822. С другой стороны, французский эзотерик не принадлежал к академическим кругам, в которые входил Карл Риттер, отсюда его произведение, вероятно, не могло стать предметом их дискурса. Вместе с тем, и «Введение в европейскую историю народов вокруг Кавказа и Понтийских берегов до Геродота» Карла Риттера, и «Философическая история Человеческого рода или Человека» Антуана Фабра д'Оливе являются умозрительными гипотетическими реконструкциями, основанными на искусной интуиции обоих авторов, и, стало быть, возможность подтверждения в будущем их правдоподобности и вероятности весьма велика. Ну а пока вышеуказанные произведения обоих исследователей пребывают в качестве несущих конструкций основания философии интегрального традиционализма, в том числе ее геополитического направления, разработанной в XX столетии такими видными представителями европейской правой мысли, как Рене Генон, Юлиус Эвола, Луи Шарбонно-Лассэ, Карл Шмитт, Эрнст Юнгер, Ален де Бенуа, Мирча Элиаде и др.

Юрты у хребта Риттера в Наньшане (Китай)
Карл Риттер полагал, что примордиальная древняя буддийская религия пришла с берегов Понта и Малой Азии, распространившись по Европе через святилища или апобатерионы. Первым подобным местом он называет Бодону-Додону у Фессалоник, откуда и началось шествие первого миролюбивого Будды в Эпир, Иллирию и дальше в Альпы. Позднее эллинское завоевание Балкан, Фессалии и Пелопоннеса изменило характер этой монотеистической религии, превратив ее в систему политеистических греческих верований, известную нам по мифологии Эллады. Соответственно, греки частично уничтожили, а частично ассимилировали проторасу носителей стародавней монотеистической религии: от древнего народа, ее исповедовавшего, остались разные реликты, какое-то время еще обитавшие в Греции, в том числе пеласги, старые насельники Аркадии и Беотии, ранние фессалийцы, первоначальные фракийцы – те, кого греки называли прежними варварами. Это определенным образом соответствует с высказыванием графа Жозефа де Местра из «Санкт-Петербургских вечеров» (СПб., «Алетейя», 1998) того же периода, что всякий новый язык существует на развалинах старого наречия, создающего как бы для него питательную среду. Интерполируя это на древнегреческую цивилизацию, получается, что она поднялась на руинах ей же разрушенной пеласгической цивилизации и, позаимствовав у последней важные духовные и материальные вещи, она переработала их под себя, ассимилировала их, стерши свойственные им черты и на религиозном уровне. Так погибла, согласно Карлу Риттеру, изначальная буддийская цивилизация Европы, тем не менее, оставив по себе много следов, что видно и по эллинской мифологии. Согласимся, что последнее вполне соответствует ранее рассмотренной нами модели органического государства Риттера и нисколько не противоречит традиционализму, на ранних этапах к которому причисляют и христианского франкмасона графа Жозефа де Местра (1753–1821); тогда как предпосылкой для интегрального традиционализма XX столетия, его предтечей в прямом смысле, мог послужить консервативный немецкий романтизм, оказавший существенное влияние на самого Карла Риттера и последующую идеологию пруссачества с геополитикой рубежа XIX–XX вв. С другой стороны, подобное весьма авангардное для своего времени видение древнегреческой цивилизации могло произвести, если не революцию, то внести смуту в среду классических филологов и историков античной философии Прусской монархии, оттого книга «Введение в европейскую историю народов вокруг Кавказа и Понтийских берегов до Геродота» и осталась малозамеченной в академических сообществах, став достоянием разве что узконаправленных индоевропеистов, иранистов и религиоведов буддизма.