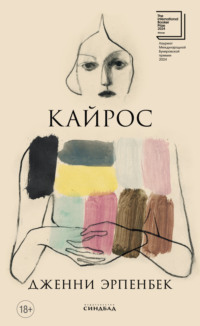Czytaj książkę: «Кайрос»

Jenny Erpenbeck
KAIROS
Copyright © Jenny Erpenbeck, 2021
All rights reserved
Published by arrangement with The Wylie Agency (UK)
Cover Artwork: Tina Berning represented by KOKO Art Agency, Inc.
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2025
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права» 
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2025
* * *
Пролог
Ты придешь на мои похороны?
Она опускает глаза на стоящую перед ней кофейную чашку и молчит.
Ты придешь на мои похороны, снова спрашивает он.
Ты пока как будто вполне жив.
Но он спрашивает в третий раз: Ты придешь на мои похороны?
Да, отвечает она, конечно, я приду на твои похороны.
У того места, которое я себе присмотрел, растет береза.
Хорошо, говорит она.
Спустя четыре месяца, в Питсбурге, она получает известие о его смерти.
В день ее рождения, еще до первого поздравления из Европы, ей звонит Людвиг, его сын, и произносит: Сегодня умер отец.
В день ее рождения.
В день его похорон она по-прежнему в Питсбурге.
В пять часов утра, или в десять по берлинскому местному времени, она просыпается ровно к началу церемонии, ставит свечку на гостиничный столик, зажигает и включает для него музыку из интернета.
Вторую часть концерта ре-минор Моцарта.
Арию из «Вариаций Гольдберга» Баха.
Мазурку ля-бемоль мажор Шопена.
Все эти музыкальные композиции время от времени прерываются на рекламу.
Нового «хендая». Банка, предлагающего кредиты на постройку дома. Средства от насморка.
Вернувшись спустя полтора месяца из Питсбурга в Берлин, она стоит у свежего песчаного холмика, под березой. Розы, которые по ее просьбе положил на могилу один ее друг, уже убрали. Друг рассказал ей, как прошли похороны. Исполнялась музыка.
Что именно? – спрашивает она.
Моцарт, Бах и Шопен, отвечает друг.
Она кивает.
Спустя полгода к ним приезжает какая-то женщина и вручает ее мужу, которого застает дома, две большие картонные коробки.
Она плакала, говорит ей муж, я дал ей платок.
До самой осени коробки стоят у Катарины в кабинете.
Когда приходит домработница, Катарина переносит их на диван, а когда та заканчивает уборку, – снова на пол. Когда ей нужно приставить к книжному шкафу лестницу, она отодвигает их в сторону. Места на полках для двух больших коробок у нее нет. Подвал недавно затопило, так что он тоже не годится. Не выбросить ли их прямо так, со всем содержимым, на помойку? Она открывает верхнюю коробку и заглядывает внутрь. А потом снова закрывает.
У Кайроса, бога счастливого мгновения, согласно мифу, ниспадает на чело локон, за который только и можно его удержать. Но едва бог с его трепещущими на лодыжках крылышками ускользает, как незадачливому смертному предстает его выбритый затылок, совершенно гладкий, ухватиться совершенно не за что. Был ли счастливым тот миг, в который она, тогда девятнадцатилетняя, встретила Ханса? Однажды, в начале ноября, она садится на пол и принимается лист за листом, папку за папкой, просматривать содержимое сначала одной, потом другой коробки. В сущности, перед ней руины прошлой жизни. Первые записи относятся к 1986 году, последние – к 1992-му. Она вынимает из коробки письма и копии писем, заметки, списки покупок, календари на давно ушедшие годы, фотографии и негативы фотографий, почтовые открытки, коллажи, попадаются и газетные вырезки. В руках у нее крошится кусочек сахара из кафе «Кранцлер». Выпархивают хранившиеся между двумя страницами разрозненные листы, к другим страницам присоединены скрепками паспортные фотографии, а в спичечном коробке лежит прядь чьих-то волос.
У нее тоже есть чемодан, полный писем, копий писем и всевозможных сувениров, по большей части «на плоских носителях», как принято называть подобные вещи на жаргоне архивистов. У нее тоже сохранились дневники и календари. На следующий день она взбирается по приставной лестнице и снимает с верхней полки этот чемодан, пыльный снаружи и внутри. Когда-то давным-давно бумаги из картонной коробки и бумаги из чемодана вели разговор друг с другом. А сейчас разговор они ведут со временем. В такой коробке, в таком чемодане, равнодушно покоятся бок о бок в накопившейся за десятилетия пыли конец, начало и середина, покоится то, что писалось как заведомая ложь, и то, что задумывалось как правда, покоится невысказанное и описанное словами, покоится, хочет оно того или нет, сложенное в тесноте, лист к листу, покоятся противоречивые чувства, онемевший гнев и онемевшая любовь покоятся вместе в одном конверте, в одной и той же папке, забытое точно так же пожелтело и помялось, как и то, что еще оживает в памяти, смутно или явственно. Глядя, как покрываются пылью ее руки, перебирающие старые папки, Катарина невольно вспоминает отца, неизменно показывавшего фокусы на ее детских днях рождения. Он подбрасывал в воздух целую колоду игральных карт, а потом выхватывал из них, порхающих вокруг, именно ту, что загадала она или кто-то из других детей.
Коробка I
Весь мир – лишь ты да я: не будет нас с тобой,
И Бог тогда не Бог – и Солнце станет тьмой1.
Ангел Силезский. Херувимский странник
I/1
В эту июльскую пятницу она подумала: Если он еще придет, меня не будет дома.
В эту июльскую пятницу он работал над двумя строчками, и так убил целый день. На жизнь-то зарабатывать труднее, чем может показаться, подумал он.
И поделом, так ему и надо, подумала она.
И сегодня из рук вон плохо, подумал он.
Может быть, пластинка уже пришла, подумала она.
У венгров наверняка есть Лукач, подумал он.
Она взяла сумочку и куртку и вышла на улицу.
Он потянулся за пиджаком и сигаретами.
Она прошла по мосту.
Он прошел по Фридрихштрассе.
А она, поскольку автобуса еще не было, заглянула на минутку в магазин старой книги.
Он перешел Францёзишештрассе.
Она купила книгу. И стоила эта книга двенадцать марок.
А когда автобус остановился, он вошел.
Деньги она приготовила заранее.
А как раз когда автобус закрывал двери, она выходила из магазина.
А увидев, что автобус еще ждет, бегом бросилась к нему.
И водитель в виде исключения открыл для нее заднюю дверь.
И она вошла в автобус.
Когда автобус поравнялся с Оперным кафе, небо затянуло тучами; когда доехал до Дворца Кронпринцев, разразилась гроза; когда остановился на Маркс-Энгельс-плац и открыл двери, до пассажиров долетели капли ливня. Несколько человек торопливо протиснулись внутрь, спасаясь от дождя. И потому ее, поначалу стоявшую у входа, оттеснили в середину.
Двери снова закрылись, автобус двинулся дальше, она схватилась за поручень.
И тут она увидела его.
А он увидел ее.
Снаружи обрушивался на землю настоящий всемирный потоп, внутри от мокрой одежды только что вошедших поднимался влажный пар.
Вот автобус затормозил на Александерплац, Алексе. Остановка находилась под мостом берлинской городской электрички.
Выйдя из автобуса, она остановилась под мостом и принялась ждать, когда кончится дождь.
И все остальные, кто тоже вышел из автобуса вместе с ней, принялись ждать под мостом, когда кончится дождь.
Он тоже вышел из автобуса и принялся ждать.
И тут он увидел ее во второй раз.
И он посмотрел на нее.
А поскольку из-за дождя стало холоднее, она надела куртку.
Она увидела, что он улыбается, и тоже улыбнулась.
Но тут она поняла, что надела куртку поверх ремня сумочки. Решила, что он смеется над ней, и застеснялась. Вытащила сумочку из-под куртки, оделась как надо и снова принялась ждать.
Потом дождь перестал.
Прежде чем выйти из-под моста и отправиться по делам, она посмотрела на него в третий раз.
Он ответил на ее взгляд и двинулся в том же направлении.
Через несколько шагов каблук у нее застрял в щели булыжной мостовой, и он тоже замедлил шаг. Ей быстро удалось вытащить каблук, и она пошла дальше. Он тотчас же снова двинулся за ней, в том же темпе, что и она.
Теперь они оба шли улыбаясь, не поднимая глаз.
Так они и шли – вниз по лестнице, по длинному туннелю, потом снова наверх, на другую сторону улицы.
Венгерский культурный центр закрывался в шесть часов вечера, то есть он опоздал на пять минут.
Она обернулась к нему и сказала: Уже закрыто.
А он ответил: Пойдем выпьем кофе?
И она сказала: да.
Вот и все. Все произошло так, как должно было произойти.
В тот день, 11 июля 1986 года.
Как ему отделаться от этой девицы? Что, если его с ней здесь кто-то заметит? И сколько же ей лет? Кофе я буду черный, думает она, и без сахара, тогда он примет меня всерьез. Развлеку ее светской беседой, а потом быстренько сбегу, думает он. Как ее зовут? Катарина. А его? Ханс.
Спустя десять предложений он понимает, что однажды уже видел ее. Она оказалась той самой маленькой девочкой, которая на первомайской демонстрации много лет тому назад кричала, хватаясь за руку матери. Точно, это же дочь Эрики Амбах. Она упоминает о «косе», которую ей тогда только что «отрезали», и отпивает маленький глоточек черного кофе. Ее мать, в ту пору аспирантка, работала в том же академическом учреждении, где размещалась и первая исследовательская лаборатория его жены. Вы женаты? Да-да. Вот теперь он точно вспоминает коротко стриженную девчонку, которая перестала кричать, только когда мать посадила ее себе на плечи. Изменение перспективы ее тут же успокоило. Он запомнил этот фокус и потом не раз поступал так со своим сыном. У вас есть сын? Да. И как его зовут? Людвиг. «Людвиг – изверг и злодей, он гроза других детей!»2, произносит она, надеясь, что он рассмеется. Он смеется и добавляет: А мое любимое – про зайцев: «“Ах, кто это меня обжег?” – и ложку в лапке уволок». В подтверждение этих слов он поднимает собственную кофейную ложечку. Всего-то лет десять тому назад мать еще садилась на краешек ее постели и читала ей «Степку-растрепку», пока она не засыпала. Он откладывает ложечку в сторону и берет сигарету. Вы курите? Нет. Отрезанную косу она еще помнит, помнит и демонстрацию, и как ей было стыдно в таком виде появиться на людях. Однако она забыла, что мать в утешение посадила ее на плечи и пронесла мимо трибуны. Странно, размышляет она, в памяти чужого человека все эти годы обитала частичка моей жизни. А сейчас он мне ее возвращает. А глаза у нее голубые или зеленые? Мне пора, говорит он. А она понимает, что он лжет, что сегодня его не ждут ни жена, ни сын? Его сыну четырнадцать, значит, ей лет восемнадцать-девятнадцать. Ведь уже в семидесятом его жена перешла в другой НИИ, а через год забеременела. Девятнадцать, произносит она и все-таки бросает кусочек сахара в черный кофе. А волосы с тех пор отросли. Да, слава богу. На вид ей шестнадцать с половиной. Не больше. Значит, вы еще учитесь в институте? Я учусь на наборщицу, в государственном издательстве, а потом хочу поступить на факультет прикладной и промышленной графики в Галле. Значит, выбрали что-то связанное с искусством. Ну да, если сдам профильный экзамен по рисунку. А вы? Пишу. Романы? Да. Настоящие книги, которые продаются в книжном магазине? Ну да, отвечает он и думает, что сейчас она спросит его фамилию. Ханс? А фамилия? – и вправду спрашивает она, и он называет ей свою фамилию, она кивает, но явно никогда прежде ее не слышала. Вы моих книг точно не читали. Откуда вы знаете, спрашивает она, и все-таки тянется за сливками. Когда вышла его первая книга, она только появилась на свет. Ходить он научился при Гитлере. Зачем девочке вроде нее читать книгу, речь в которой об умирании и смерти? Она думает, что, по его мнению, она из тех, кто читать не любит. А он думает, что ему страшно показаться ей стариком. А чем теперь занимается ваша мама? Работает в Зоологическом музее. А ваш отец? Профессор, уже пять лет преподает в Лейпцигском университете. Что? Историю культуры. Вот как. Произносятся еще несколько имен, упоминаются друзья ее родителей, ее друзья и их родители. Ему ли не знать все эти старые истории, у каждого с каждой что-то когда-то было, сначала они были молоды, потом сплошь обзавелись друг с другом детьми, переженились и снова развелись, снова влюблялись, ссорились, дружили, сближались или разрывали все связи с прошлым. Вечно одни и те же лица на праздниках, в кабаках, на вернисажах и на театральных премьерах. В такой маленькой стране, выехать откуда не очень-то просто, все неизбежно превращалось в подобие инцеста. Выходит, он сейчас сидит в кафе с дочерью этой Амбах. Солнце поблескивает в зеркальных окнах Паласт-отеля. Как в Нью-Йорке, произносит он. А вы там бывали? Да, по работе. Я в августе, может быть, поеду в Кёльн, говорит она, если получу разрешение. Родственники на Западе? Моей бабушке исполняется семьдесят. Кёльн – ужасная дыра, говорит он. Ну а как же Кёльнский собор, он уж точно не ужасный. Что такое Кёльнский собор по сравнению с церквями московского Кремля? Я еще ни разу не была в Москве. В какой-то момент чашки и маленький стаканчик водки, стоящий перед Хансом, пустеют, он оглядывается в поисках официанта. Но вот девушка оперлась подбородком на руки и снова устремляет на него взгляд. Таких ясных, прозрачных глаз. Чистых. Слово, которое вышло из моды. «Мой замысел чист, благороден и смел». «Волшебная флейта», первый акт. Какие у нее гладенькие плечики. Интересно, и все остальное такое же гладкое?
А теперь нужно поторопить официанта, чтобы он побыстрее принес счет.
Выходя, он решает не подавать ей руку на прощание и только говорит: Увидимся.
Три шага, отделяющие их от улицы, они еще проходят вместе, потом он кивает ей, поворачивается и уходит. Она тоже уходит, в противоположную сторону, но выдерживает только до светофора. Там она останавливается. Его фамилия ей известна. Адрес наверняка узнать нетрудно. Бросить письмо в почтовый ящик или дождаться его у подъезда. Звенит трамвай, машины летят по лужам, на светофоре зажигается зеленый свет, потом опять красный. Эта тоска отдается у нее болью даже в кончиках пальцев. Она все еще стоит, не двигаясь, на светофоре снова зажигается зеленый, потом опять красный. На влажном асфальте автомобильные шины то ли чавкают, то ли целуются взасос, такой получается звук. Ей никуда больше не хочется идти без него. Увидимся, сказал он. Увидимся. Даже не подал ей руки на прощание. Неужели она так ошиблась? Но внезапно он произносит, почти прикасаясь губами к ее затылку: Или все-таки проведем этот вечер вместе? Жена с сыном уехали с ночевкой к подруге в деревню.
От Алекса они едут на метро до района Панков, оттуда еще три остановки на трамвае, потом переходят площадь наискосок, под деревом с отпиленными ветвями. Странная у него прическа, у этого дерева, говорит он, она улыбается, но поскольку она и так уже все время улыбалась, разница незаметна, потом они входят в дом и поднимаются на пятый этаж.
В квартире пахнет духами. В передней ковер и сундук, на стене теснятся картины, рисунки, фотографии, «петербургская развеска», говорит он, она кивает и осматривается. Мы живем здесь уже двадцать лет, говорит он, заходите, я вам все покажу. Она вслед за ним доходит по узкому коридору, который поворачивает налево, до распахнутой двери. Кухня, говорит он, перед ней буфет, раковина, кухонный стол, покрашенный синей краской, и деревянная угловая скамья и за ней окно во двор. Даже нет ни единого дерева, говорит он, но каждое утро дрозд заливается, кто знает, почему ему именно здесь так понравилось. В раковине стоит кастрюля и несколько стаканов. Со стола еще не убрана посуда, оставшаяся после завтрака, и банка меда, на тарелках лежит яичная скорлупа, стоит белый эмалированный чайник, три чашки. Там спальня, говорит он на ходу, показывая куда-то во тьму, в глубине коридора, а здесь ванная, стучит он костяшками пальцев в маленькую дверь возле кухни. Напротив, на другой двери, висит написанная от руки табличка «Вход воспрещен». Это комната Людвига, говорит он и берется за ручку, но дверь не открывает. А потом назад, мимо петербургской развески, и дальше, на другую сторону квартиры. Дом же угловой, говорит он.
В большой комнате, куда он ее теперь приводит, стоит круглый деревянный обеденный стол и шесть стульев, все разные. На спинке одного висит дамская вязаная кофточка. В углу горка в стиле бидермайер, с чашками и тарелками мейсенского фарфора. Он подходит к окнам и широко открывает. Если распахнуть окна, кажется, что мы тут наверху почти как на небесах, говорит он. По широкому коридору слева он проходит в комнату, явно служащую гостиной, на полу ковер с синими узорами, стены белые, кожаный диван на шатких ножках, слева рядом с ним печка, справа торшер. Дизайн Лутца Рудольфа, говорит она, у нас дома такой же. Мы с ним дружим, говорит он, открывая окна и здесь тоже. Она стоит на пороге, прислонясь к дверному косяку. Надо запомнить, какая она красивая, когда стоит вот так, в небрежной, расслабленной позе. Он возвращается, проскальзывает мимо нее, стараясь не слишком уж приближаться, потом обходит обеденный стол, толкает пожелтевшую двустворчатую дверь, за которой оказывается другой коридор, ведущий направо. В глубине виднеется маленькая комнатка с книжными полками до потолка, умельца из меня не выйдет, кивает он на кое-как свинченные доски. Она подходит ближе. А книг со временем все больше и больше, говорит он и показывает на стопки, лежащие то тут, то там на полу. Вместе с ней он заглядывает в свою собственную комнату как в чужую. Письменный стол в эркере. Вы тут пишете? Вообще-то редко. У меня есть еще кабинет на улице Глинки, люблю работать не дома. А, произносит она. На улице Глинки хранятся и все мои материалы для работы на радио, там я официально служу. В каком качестве? Любопытная какая, а когда вот так спрашивает, становится похожа на белочку. В качестве автора передач – это называется «штатный свободный сотрудник». «Штатный свободный сотрудник»? За год я должен написать одну передачу, за остальные мне платят дополнительно. А какие передачи? Она снова становится похожей на белочку. Бывает, на исторические темы, когда на стадии предварительных исследований для книги вдруг обнаруживаю что-нибудь интересное, говорит он, а так о музыке, о композиторах, о музыкантах. Я же изучал музыковедение, вам это, наверное, не так интересно. Я люблю Баха, говорит она, и задумывается, а не слышала ли она какую-нибудь его передачу по радио. Я тоже, говорит он. Красного вина? – спрашивает он. И она отвечает: С удовольствием.
Пока он отправляется в кухню за вином, она на несколько шагов заходит в комнату и осматривается. На полках с книгами стоят маленькие фигурки и жестяные игрушки, к книжным корешкам прислонены почтовые открытки, к доскам приколоты кнопками фотографии: маленький мальчик верхом на пони, очевидно сын, безлюдный пейзаж с облаками, красивая женщина на качелях под навесом, вероятно жена, она улыбается фотографу, то есть, возможно, ему, Хансу, своему мужу, но теперь, навечно запечатленная на снимке, улыбается всякому, кто посмотрит на фотографию, а значит, и ей, гостье своего мужа. За ее спиной он звенит бокалами, он держит оба в одной руке, а в другой – бутылку, хотите, послушаем музыку? – спрашивает он и направляется в гостиную. Да, отвечает она и идет за ним следом.
Пока он выбирает первую пластинку, надевает очки, чтобы прочесть на обратной стороне конверта, какую по счету композицию поставить, затем вынимает черную пластинку из полиэтиленового пакетика, кладет на диск проигрывателя, смахивает щеточкой пыль с дорожек и ставит головку звукоснимателя точно в промежуток между двумя композициями, у нее наконец появляется время без помех его рассмотреть. Его узкие плечи. Его вихры. Торс слишком короткий по сравнению с длинными ногами и длинными руками, и потому движения у него всегда размашистые. Собственно, со спины он похож на подростка, ее ровесника, только когда он поворачивается и подходит к ней, снова превращается во взрослого. Его прямой нос, маленький рот, серые глаза. Она устраивается на шатком диване, он садится в кресло рядом. Очки для чтения он теперь опять снимает, убирает в карман рубашки и закуривает сигарету. Он налил вина в бокалы, но чокнуться они не успевают, ведь Святослав Рихтер уже заиграл мазурку ля-минор Шопена. Поставив ей свою музыку, он отдается ей во власть. Чувствует ли она это? Она сама играет на пианино, выучила несколько вальсов Шопена, но только теперь, слушая вместе с ним, осознает, насколько близко к краю бездны эта музыка подводит. Скерцо си минор, полонез ля-бемоль мажор, все это время они молчат, не проронив ни единого слова, не встретившись ни единым взглядом, они лишь согласно безмолвствуют. И только когда пластинка начинает медленно крутиться на холостом ходу и рычаг звукоснимателя со щелчком поднимается, он кивает ей, берет бокал и чокается с ней. Они выпивают по глотку, потом он встает поменять пластинку, и с улицы из открытого окна в наступившей тишине до нее доносится писк ласточек.
А теперь он ставит ей экспромт ля-бемоль мажор Шуберта, хроматическую фантазию Баха, сюиту ми минор и третью часть фортепианного концерта си бемоль мажор Моцарта. Иногда он покачивает головой в такт музыке, иногда произносит: Как же хорошо, ведь правда? Иногда она произносит: Чудесно. Иногда она спрашивает: Кто исполняет? Тогда он называет имена пианистов: Артур Рубинштейн, Гленн Гульд, Клара Хаскил. Между Бахом и Моцартом она сходила в туалет и увидела в ванной висящие на веревке вельветовые штаны его сына. А у зеркала стоял флакончик духов, которыми так приятно пахло в квартире, «Шанель № 5». И три зубные щетки в одном стаканчике. А на табурете ночная рубашка его жены, небрежно брошенная и забытая за повседневными делами. «Сойди к нам, май зеленый, цветами все усей»3, призывает фортепиано в самом конце, но сейчас уже июль, за окном летний вечер сменился летней ночью, красное вино выпито. Хотите есть? Да. Тогда пойдем куда-нибудь. Да.
Как хорошо идти рядом с ним, думает она.
Как хорошо идти рядом с ней, думает он.
Двадцать минут пешком, в ночной тьме. Он прекрасно знает этот ресторанчик, бывал там неизвестно сколько раз, официант как обычно посадит его за столик, отводимый завсегдатаям.
Она знает, что, прежде чем приступить к еде, салфетку нужно положить на колени, она знает, что, прежде чем отпить вина, нужно аккуратно промокнуть губы, она знает, что суповую тарелку нужно наклонять не к себе, а от себя, она знает, что нельзя ставить локти на стол, она знает, что нельзя резать ножом картофель. От любых страхов, от любых надежд, от всего, что нельзя предугадать и чего не хочется предугадывать, спасает знание о том, что нож и вилку после еды следует класть параллельно, расположив ручки с правой стороны тарелки. Глядя на этого человека, который во время ужина кажется ей необычайным счастьем, несчастьем и загадкой, она осознает: сейчас началась жизнь, а все прошлое было только подготовкой к ней.
А он думает: как она красива, даже когда жует.
А теперь?
А потом они, не сговариваясь, снова направляются домой. «Домой» и для нее теперь означает: назад, к нему.
Снизу они поднимают глаза на по-прежнему ярко освещенные окна.
Может быть, он вышел вместе с ней из дому только для того, чтобы вернуться. Чтобы предаться иллюзии, будто все, что ему так хорошо знакомо, привычно и ей тоже. Она уже совершенно уверенно, не дожидаясь его, первой направляется в гостиную, пока он идет в кухню за второй бутылкой вина. Когда он приходит в комнату, она стоит у окна. Подоконник такой низкий, что запросто можно выпасть, думает она. В доме напротив тоже кто-то еще не спит, говорит она. Наш друг, говорит он, художник. Она наверняка замечает, что он сказал «наш». Ничего, думает он, пусть знает, во что ввязывается. Она оборачивается к нему. Он держит в руке пластинку, в уголке рта у него свисает сигарета. «Да вынь же из пасти трубку, мерзавец и негодяй!»4 Вот это «Реквием». Наверное, он сейчас не очень подойдет, говорит она. Сейчас, сказала она. Мертвые, которые покоятся в земле, не спят, они ждут. Хорошая музыка всегда подходит, говорит он и вынимает изо рта сигарету. Тогда да, говорит она. Он вытаскивает пластинку из полиэтиленового конвертика и осторожно проводит щеточкой по бороздкам, а потом кладет на диск проигрывателя.
И тут все гробницы становятся прозрачны для взора, и они переносятся на усыпанное могилами кладбище, и остров живых оказывается не более чем клочком земли у них под ногами. Пока она снимает с него очки и откладывает в сторону, а он впервые заключает ее в объятия, человечество молит ниспослать ему покой и вечный свет. Она берет его лицо в ладони и целует, едва-едва касаясь. Тут к небесам возносится одинокий юный голос, он славит Господа, ведь если он восхвалит Господа, то Господь, быть может, пощадит его. Какое же гладкое на ощупь нагое девическое плечо, как точно оно входит в его ладонь во время этой молитвы, он до конца своих дней этого не забудет. «К тебе придет всякая плоть», да, именно так, еще успевает подумать он, а потом погружается в забытье. Поцелуи, хоры, ее волосы, миг перед самым концом Вступления, настойчиво повторяемая мольба живых о мертвых: «Даруй им свет вечный!»5 – затихающая под сводами пустой церкви. Ответ люди должны дать себе сами, мрак по-прежнему царит там, где живут они, их желания бессильны. Он прерывисто дышит, и она прижалась к нему щекой и тоже прерывисто дышит.
Но вот призванные в гробницах пробуждаются, стягивают на груди саваны, дабы прикрыть свои кости, которые вот-вот вознесутся к небесам, kyrie eleison, смилуйся, Господи, шепчет она ему и улыбается, а потом впивается зубами ему в плечо, она что, хочет вырвать кусок мяса, безумная? Мертвые воспаряют к небесам в своих клубящихся одеяниях, а два человеческих тела превращаются в единый ландшафт, который нельзя узреть, можно лишь осязать ладонями, в нем существуют бесчисленные пути и дороги, вот только бежать из него нельзя, ты же знаешь, говорит он, сейчас начнется «Dies irae», День Гнева, нет, говорит она и качает головой, как будто ей лучше знать, не начнется, и еще сильнее прижимает его к себе. «Господь, властвующий в эфире, скатывает небеса, точно книжный свиток. И на божественную землю обрушатся многоцветные небеса, и на море. И извергнутся на них бесконечные потоки пламени, и поглотят землю, моря и небесную ось, и расплавятся в них дни и самое творение, слившись воедино»6. Неужели все рожки, фаготы, кларнеты, литавры, тромбоны, скрипки, альты, виолончели, а также орган и вправду всецело подчиняются этому голосу? «Повсюду воцарится ночь, долгая, неукротимая и жестокая, и настанет она для всех, богатых и бедных. Нагими выходим мы из этой земли, и нагими возвращаемся в нее»7. Вина этого мира искупается огнем, но что, если никакой вины не существует? «Прекраснобедрая», вспоминается ему слово из одного рассказа Томаса Манна, когда его руки медленно скользят с ее талии вниз. «Воздыханья, плач и стон/ Землю огласят, и Он/ Суд свершит в конце времен». Он невольно подпевает, вторя латинскому тексту, а руки его тем временем, словно снимая слепок, охватывают ее ягодицы, убеждаясь, что в каждую помещается по одной. И тут трубы возвещают начало Страшного Суда, они уже вот-вот достигнут апогея, они уже так близки к нему, что хор умолкает и вместо этого слышатся отдельные голоса: бас произносит призыв, на который обязаны откликнуться все, безразлично, живые или мертвые, тенор воспевает потрясение, поразившее всю материю при мысли о том, что ей предстоит воскреснуть, альт открывает огромную книгу, в которой записаны все грехи, однако сопрано в самом конце возвышает голос в защиту каждого, отдельно взятого, из обвиненных: сколь плачевен будет мой жребий, когда придет мой черед признаться в грехах? Кто вступится за меня? Если даже праведник не может быть убежден, что судия оправдает его? Оба они по-прежнему стоят здесь, на синем ковре в гостиной, на своем островке, босые, сплетаясь, обвивая друг друга руками и ногами, и только изредка, выплывая из моря своего слепого блаженства, открывают глаза и смотрят друг на друга. Откуда у этой девочки берется такая уверенность? А потом они снова закрывают глаза, чтобы отчетливее видеть руками и губами.
Когда является Господь Сил, он вновь на миг приходит в себя, «rex tremendae majestatis»8, призывает Его хор, взгляд его падает на сигарету, которую он отложил в прошлой жизни, она превратилась в длинную палочку белого пепла. Рядом лежат наручные часы, когда это она успела их снять? Мы не должны принести друг другу несчастье, говорит он и тянется к ее лону. Она улыбается: вот до чего мы уже дошли. «Salva me, salva me»9. Ты должен со мной переспать, говорит она. Тут он берет ее за руку и ведет из комнаты, через столовую, через переднюю, в самую темную глубину коридора, мимо зеркала, в ту комнату, которую он ей еще не показал. Воспомни, Иисусе сладчайший, что это ради человека Ты принял крестные муки. Воспомни, как устал и измучен был Ты при конце пути Своего. Если сейчас Ты отвергнешь меня, все это было зря. Воспомни.
В супружеской постели он ложится с той стороны, где обычно спит его жена, оставляя девушке свою собственную. Ни с одной своей возлюбленной он еще не спал в супружеской постели. Кажется, говорит он, у меня не стоит, я слишком много выпил и слишком возбужден. Не важно, говорит она и берет его в руку. В гостиной, где небесные воинства и судимое Господом человечество остались теперь наедине, между тем совершается распределение: с левой стороны ожидает грешников пылающий адский огонь, с правой стороны уготовано блаженным будущее, в котором непрерывно длится один, непрекращающийся день и никогда не наступает ночь. «Voca me cum benedictis»10, поют призрачные голоса на черной пластинке, все еще вращающейся. Тот, кто теперь в последний раз обернется и из непреодолимой дали бросит взгляд на землю, увидит, как долог на самом деле путь от могилы до ответа на небесном суде. Почти две октавы он возносился ввысь медленно, полутонами, сквозь плотную массу надежды и страха.
Когда воздыхания и ропот сменяются безмолвием, оба тела, неподвижно вытянувшись, застывают рядом во тьме. Никогда больше не будет так, как сегодня, думает Ханс. Так теперь будет всегда, думает Катарина. Потом сон стирает все мысли, и то, что произошло с ними, записывается им на кору головного мозга, пока они спокойно дышат, лежа друг возле друга.