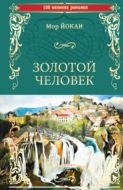Czytaj książkę: «Похождения бравого солдата Швейка»

Ярослав Гашек
Гашек и Швейк на войне с войной
Чехи
Чехом быть нелегко, но еще труднее быть великим чешским писателем. Хотя бы потому, что уже много столетий отношения чехов с большим миром преимущественно страдательные – они не творят больше Историю, а ее претерпевают. Потерпи и ты, читатель, полезные сведения и историческая эрудиция лишними не бывают.
В междуречьи Эльбы и Дуная западная ветвь славян обосновалась в VI веке н. э., вытеснив отсюда или впитав кельтское племя бойев (память о которых хранит название Богемия, данное этому краю римлянами). Чешская Богемия то входила в состав Великой Моравии, с которой просветители Кирилл и Мефодий начали свою миссию, то сама ее поглощала. В драматическом круговороте средневековой истории этими территориями правили попеременно могучие династии Пржемысловичей, Ягеллонов, Люксембургов, Габсбургов. Когда последние утвердились здесь окончательно, самостоятельная чешская история закончилась на несколько столетий. Дело в том, что по этому краю проходил фронтир, где сходились в своем вращении гигантские цивилизационные жернова славянского и германского миров, перемалывая судьбы людей и народов.
Будучи народом немногочисленным и простодушным, чехи за сто лет до Реформации оказались вовлечены в религиозные войны с католическим Римом и германскими императорами – так называемые «гуситские войны». После создания национальной и не вполне ортодоксальной чешской церкви и вероломного сожжения на костре Яна Гуса по приговору собора в Констанце чехи восстали. Они выбросили из окна пражской ратуши немецкого бургомистра – и в ответ получили крестовый поход. Рыцарей-крестоносцев били раз за разом, покуда умеренная часть чехов («чашники») не одолела повстанцев-«таборитов», и не договорилась с католическим Римом и германской Священной Римской империей о заключении мира на приемлемых условиях.
Двести лет спустя за очередной «наезд» на свою протестантскую веру и национальные права чехам вновь пришлось выбрасывать немецких марионеток из окна (такая казнь звалась «дефенестрацией», от немецкого Fenster – «окно»). В пражском замке Градчаны габсбургских наместников сбросили на кучу навоза, что выглядело более гуманно – или осторожно, это как посмотреть. Трагикомическое событие послужило поводом к началу в 1618 году общеевропейской Тридцатилетней войны, в которой германские государства потеряли треть населения, а чехи всю свою аристократию, превратившись, по существу, в обезглавленный и самый «онемеченный» из славянских народов. Как пишет историк Норман Дэвис в своей тысячестраничной «Истории Европы»: «Ко времени Моцарта чехи преимущественно были низведены на уровень крестьянской нации, не имевшей лидеров».
Безраздельно завладевшие Чехией Габсбурги оказались не худшими и довольно просвещенными господами. Под девизом «Пусть сильные развязывают войны. Ты, удачливая Австрия, женись» этой династии удалось создать уникальную славяно-германскую, многонациональную, веротерпимую и какое-то время процветавшую империю. Ее называли еще «славянской империей с немецким фасадом», а Меттерних говорил в шутку, что Азия начинается сразу за оградой его венского сада. К концу XIX века государственый гимн в Австро-Венгрии исполнялся уже на 17 языках, включая идиш. Три привилегированные нации, – австрийские немцы, венгры и поляки, – осуществляли власть над остальными, законопослушными и более или менее обездоленными народами. Один из тогдашних премьер-министров признавался: «Моя политика состоит в том, чтобы держать все национальности монархии в состоянии регулируемой неудовлетворенности». Покуда к концу Первой мировой войны не накопилось столько взаимных претензий и пресловутой неудовлетворенности, что осатаневшие нации разорвали в клочья лоскутную шкуру одряхлевшего габсбургского медведя. В результате на политической карте Европы возникли Чехословакия, Польша и ряд других государств.
Чехи обязаны были этим в первую очередь своей выращенной в австрийских университетах интеллигенции, возглавившей национальное возрождение, – общественным деятелям, историкам, литераторам, композиторам. Внес свою лепту в осуществление чешской мечты и Ярослав Гашек. Его книга «Похождения бравого солдата Швейка» говорит о нежелании чехов защищать империю, где они оказались низведены до положения прислуги и людей второго сорта. Уберите из нее войну, и останется лишь шедевр фельетонистики. Но нагрянула большая беда – и книга о похождениях Швейка превратилась в самый антивоенный роман в мировой литературе, написанный чехом, не желавшим воевать.
Гашек
Ярослав Гашек (1883–1923) родился в Праге в семье чешского школьного учителя и уже в тринадцать лет осиротел. Чтобы помочь матери, он оставил учебу и устроился на работу учеником аптекаря, но быстро заскучал и отправился с друзьями бродяжничать по стране, затем по соседним странам, и так пробродяжничал полжизни – не сиделось ему на месте. Выучил кучу языков. Поучился в чешской гимназии, где научился родину любить и с немцами и полицейскими драться на улицах Праги. Успешно окончил коммерческое училище, но в банке не прослужил и полугода. Зарабатывал фельетонистикой, писал очерки городских нравов, редактировал научный журнал «Мир животных» и со скандалом был уволен за неуместные мистификации. С жуликоватым компаньоном торговал дворнягами, сочиняя им родословную. С собутыльниками в пивной учредил и зарегистрировал Партию умеренного прогресса в рамках закона, с треском провалившуюся на выборах. Веселился, короче, и других потешал, за что читатели и завсегдатаи пражских пивных его обожали. Будучи в 1915 году призван в армию и отправлен в арестантском вагоне на Восточный фронт, продолжал прикалываться, симулировать, саботировать, пока не дезертировал и не сдался в Галиции в плен, где словно переродился.
Посидев в российских лагерях для военнопленных, бывший анархист Гашек вступил в РКП(б) и РККА и принялся воевать пером. В 1917 году в Киеве он издал книгу о похождениях бравого солдата Швейка в плену. Затем участвовал на стороне красных в Гражданской войне на Волге и в Сибири, агитировал легионеров Чехословацкого корпуса (кстати, отменно воевавших) переходить на сторону трудового народа. Дошел с Красной Армией до Иркутска, где собрался было поселиться навсегда со своей русской женой, которую звал Шулинькой. Купил там дом.
Но в 1920 году на пороге революции и гражданской войны оказалась сама родина Гашека. Его с женой и другими перековавшимися чешскими легионерами отправили глашатаями мировой революции в Прагу. Тем временем революционная ситуация в Чехии рассосалась, реакция победила. Скандально известному писателю и прежнему любимцу публики устроили обструкцию и травлю в печати. Собирались даже судить его хотя бы за двоеженство, да раздумали, поскольку это означало бы юридическое признание советской власти.
Гашек вернулся на круги свои, засел в пивных, где утром писал главы «Похождений Швейка», а после полудня пропивал гонорар за них с собутыльниками, воодушевленными своим участием в процессе творчества.
Однажды с похмелья и за компанию поехал в местечко Липнице (чешский аналог ерофеевских Петушков), где и был спустя полтора года похоронен. Жизнь в Липнице стала для Гашека его «болдинской осенью». Именно здесь он смог написать и сам же издать в Праге, отдельными выпусками с тремя-четырьмя допечатками, свой знаменитый неоконченный роман о похождениях Швейка. Слава сразу же вернулась к нему в невиданном прежде объеме. Местные жители его обожали, появились и деньги. Он выписал из Праги свою верную Шулиньку, за месяц до смерти успел купить дом.
В Праге никто не верил, что Гашек способен всерьез умереть, поэтому на похороны никто не приехал. Кроме сына от первого брака и того художника, с которым он когда-то за компанию сел в поезд до Липнице…
Швейк
Как выглядел герой самого известного антивоенного и самого чешского романа всем хорошо известно благодаря лубочным иллюстрациям к нему Йозефа Лады. Они, что называется, конгениальны тексту, притом что у Гашека почти ничего не говорится о внешности Швейка. Разве что о такой же круглой, как у самого писателя, физиономии, похожей на кнедлик. Лада, художник-самоучка из крестьян и приятель Гашека, вспоминает, как был разочарован при личном знакомстве с корифеем чешского юмора и сатиры: «круглое полудетское лицо». Но обманчивое простодушие и делает прозу Гашека неотразимой, король в ней всегда голый. Конечно же, это турки убили эрцгерцога, и портрет Франца-Иосифа мухи не «загадили», а за…ли! К сожалению, в русских переводах советского периода смягчался смачный простонародный чешский говор. В послесловии к первой части романа Гашек предостерегал от этого, но не помогло.
Позже всего Гашеку и Швейку стали ставить памятники, как ни странно, на их родине. Образованным чехам все-таки обидно, что во всем мире о чехах судят с оглядкой на роман Гашека о Швейке, и совершенно зря. Ведь недалекий саботажник Швейк вот уже добрую сотню лет сражается с войной и даже побеждает иногда. Его нерасчлененное «первобытное» мышление, ничуть не глупее, чем у англосаксонских судей, всему подыскивающих прецедент, а его философские умозаключения порой обезоруживают образованного и скрывающего свое чешское происхождение поручика Лукаша.
Разве не восхитителен швейковский парадокс: «Если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом»?
Игорь Клех
Предисловие
Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, ни к кому не пристает, и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно: «Швейк».
И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде – тот самый бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике.
Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии.
И этого вполне достаточно.
Автор
Часть первая
В тылу
Глава I
Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну
– Убили, значит, Фердинанда-то нашего, – сказала Швейку его служанка.
Швейк несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные.
Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени оподельдоком.
– Какого Фердинанда, пани Мюллерова? – спросил Швейк, не переставая массировать колени. – Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.
– Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного…
– Иисус Мария! – вскричал Швейк. – Вот-те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?
– В Сараеве его укокошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле…
– Скажите на милость, пани Мюллерова, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверно, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве! Сараево это в Боснии, пани Мюллерова… А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину… Вот какие дела, пани Мюллерова. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. Долго мучился?
– Тут же помер, сударь. Известно – с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа.
– Из иного револьвера, пани Мюллерова, хоть лопни – не выстрелишь. Таких систем – пропасть. Но для эрцгерцога, наверно, купили что-нибудь этакое, особенное. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога – штука нелегкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди сцапает полицейский.
– Там, говорят, народу много было, сударь.
– Разумеется, пани Мюллерова, – подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. – Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо – два лучше. Один присоветует одно, другой – другое, «и путь открыт к успехам», как поется в нашем гимне. Главное – разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям! С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите, пани Мюллерова, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя императора, раз уж начали с его дяди. У него, у старика-то, много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал: «Придет время – эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию, а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому – две. Потом его увезли в корзине очухаться… Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся! Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он – все свое: должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружье и – бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да еще наделала в канцелярии бед: раскололо бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги.
– А что стало с тем солдатом? – спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался.
– Повесился на помочах, – ответил Швейк, чистя свой котелок. – Да помочи-то были не его, он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать – не ждать же, пока тебя расстреляют? Оно понятно, пани Мюллерова, в таком положении хоть у кого голова пойдет кругом! Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел небось этого господина и подумал: «Порядочный, должно быть, человек, раз меня приветствует». А тот возьми, да и хлопни его. Одну всадил или несколько?
– Газеты пишут, что эрцгерцог был, как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны.
– Это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерова. Страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг: на вид игрушка, а из него можно в два счета перестрелять двадцать эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? Во какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет… Ну, я пошел в трактир «У чаши». Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши и, пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы.
В трактире «У чаши» сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Бретшнейдер. Трактирщик Паливец мыл посуду, и Бретшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор.
Паливец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо.
– Хорошее лето стоит, – завязывал Бретшнейдер серьезный разговор.
– А всему этому цена – дерьмо! – ответил Паливец, убирая посуду в шкаф.
– Ну и наделали нам в Сараеве делов! – со слабой надеждой промолвил Бретшнейдер.
– В каком «Сараеве»? – спросил Паливец. – В нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело – Нусле!
– В боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?
– Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами! – вежливо ответил пан Паливец, закуривая трубку. – Нынче вмешиваться в такие дела – того и гляди сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какое-то Сараево, политика или там покойный эрцгерцог – нас это не касается. Не про нас это писано. Это Панкрацем пахнет.
Бретшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир.
– А когда-то здесь висел портрет государя императора, – помолчав, опять заговорил он. – Как раз на том месте, где теперь зеркало.
– Вы справедливо изволили заметить, – ответил пан Паливец, – висел когда-то. Да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?
– В этом Сараеве, должно быть, скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..
– Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед к голове прикладывали.
– В каком полку вы служили, уважаемый?
– Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью, – ответил пан Паливец. – На этот счет я не любопытен. Излишнее любопытство вредит.
Тайный агент Бретшнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом:
– В Вене сегодня тоже траур.
Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:
– В Конопиште вывешено десять черных флагов.
– Нет, их должно быть двенадцать, – сказал Швейк, отпив из кружки.
– Почему вы думаете, что двенадцать? – спросил Бретшнейдер.
– Для ровного счета – дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит, – ответил Швейк.
Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув:
– Так, значит, приказал долго жить, царство ему небесное! Не дождался даже, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов – мертвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве небось тоже был какой-нибудь смотр. Помню, как-то на смотру у меня на мундире не хватило двадцати пуговиц, и за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как Лазарь, лежал связанный «козлом». На военной службе должна быть дисциплина – без нее никто бы и пальцем для дела не пошевельнул. Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!» Ну разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.
– Все это сербы наделали, в Сараеве-то, – старался направить разговор Бретшнейдер.
– Ошибаетесь, – ответил Швейк. – Это все турки натворили. Из-за Боснии и Герцеговины.
И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах: турки проиграли в тысяча девятьсот двенадцатом году войну с Сербией, Болгарией и Грецией; они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел – застрелили Фердинанда.
– Ты турок любишь? – обратился Швейк к трактирщику Паливцу. – Этих нехристей? Ведь нет?
– Посетитель как посетитель, – сказал Паливец, – хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай что в голову взбредет – вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, – мне все равно.
– Хорошо, уважаемый, – промолвил Бретшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. – Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии.
Вместо трактирщика ответил Швейк:
– Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Но он должен был быть потолще.
– Что вы хотите этим сказать? – оживился Бретшнейдер.
– Что хочу сказать? – с охотой ответил Швейк. – Вот что. Если бы он был толще, то его уж давно бы хватил кондрашка, еще когда он в Конопиште гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только – дядя государя императора, а его пристрелили! Это же позор, об этом трубят все газеты! Несколько лет назад у нас в Будейовицах на базаре случилась небольшая ссора: проткнули там одного торговца скотом, некоего Бржетислава Людвика. А у него был сын Богуслав, – так тот, бывало, куда ни придет продавать поросят, никто у него ничего не покупает. Каждый, бывало, говорил себе: «Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже небось порядочный жулик!» В конце концов довели парня до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву, потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, воду из него выкачивать… И все же он помер на руках у доктора, после того как тот ему впрыснул чего-то.
– Странное, однако, сравнение, – многозначительно произнес Бретшнейдер. – Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце скотом.
– А какое тут сравнение, – возразил Швейк. – Боже сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать! Вон пан Паливец меня знает, верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал? Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, имение в Конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет… Вот, например, в Зливе, близ Глубокой, несколько лет тому назад жил один лесник с этакой безобразной фамилией – Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника, Пепика Шалловица из Мыловар, ну и того тоже как-то раз прихлопнули. Вышла она в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили, а у нее уже от этих лесников круглым счетом было шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокую, и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яреша, сторожа с Ражицкой запруды. И – что бы вы думали? – его тоже утопили во время рыбной ловли! И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из Воднян, а тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в Писеке вешали, он укусил священника за нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя императора.
– А вы не знаете, что он про него сказал? – голосом, полным надежды, спросил Бретшнейдер.
– Этого я вам сказать не могу, этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя императора, какие спьяна делаются.
– А какие оскорбления государю императору делаются спьяна? – спросил Бретшнейдер.
– Прошу вас, господа, перемените тему, – вмешался трактирщик Паливец. – Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.
– Какие оскорбления наносятся государю императору спьяна? – переспросил Швейк. – Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе императоре, что, если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание: сына Рудольфа он потерял во цвете лет, полного сил, жену Елизавету у него проткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта, а брата – мексиканского императора – в какой-то крепости поставили к стенке. А теперь на старости лет у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю императору до последней капли крови! – Швейк основательно хлебнул пива и продолжал: – Вы думаете, что государь император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. «Убили моего дядю, так вот вам по морде!» Война будет, это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка!
В момент своего пророчества Швейк был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все у него выходило просто и ясно.
– Может статься, – продолжал он рисовать будущее Австрии, – что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет, больше я вам не скажу ничего.
Бретшнейдер встал и торжественно произнес:
– Больше вам говорить и не надо. Пройдемте со мною на пару слов в коридор.
Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз: собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невинен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.
Но Бретшнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена.
Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу:
– Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.
Бретшнейдер показал Паливцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил:
– Вы женаты?
– Да.
– А может ваша жена вести дело вместо вас?
– Может.
– Тогда все в порядке, уважаемый, – весело сказал Бретшнейдер. – Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.
– Не тревожься, – утешал Паливца Швейк. – Я арестован всего только за государственную измену.
– Но я-то за что? – заныл Паливец. – Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
– За то, что вы сказали, будто на государя императора гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы.
Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей обычной добродушной улыбкой:
– Мне сойти с тротуара?
– Зачем?
– Раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару. Я так полагаю.
Входя в ворота полицейского управления, Швейк заметил:
– Славно провели время! Вы часто бываете «У чаши»?
В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее:
– Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора?
Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал «У чаши», то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.