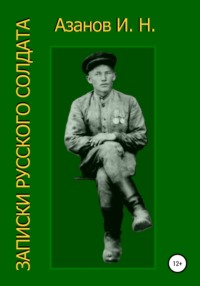Czytaj książkę: «Записки русского солдата»

Азанов Иван Николаевич (1919–1983)
Воспоминания рядового Великой Отечественной войны.
Писал осенью 1982 года.
Начало жизни.
Милые мои детки. Милые мои внуки. Давно мне хотелось рассказать о моём житье-бытье, да всё недосуг было. А то лень одолевала. Так вот по этим, наверно, причинам и не собрался до сего дня начать это доброе дело. Сегодня решил, и попробую. А вот удастся ли, сумею ли, пока и сам не знаю. А попробовать надобно. И вот по какой причине: я, например, о своём отце знаю очень мало, а о его отце и того меньше. Всё потому, что он говорить или не хотел, или не умел, или тоже времени не нашёл. Знать о его житье-бытье, хотелось, правда, ведь? Даже фотографии отца и мамы моей нет. Нет не только у меня, по моей вине нет – их ни у кого нет. И не потому, что их не сохранили, не уберегли. Их, милые мои, просто никогда не было! Я, пожалуй, не стану утверждать, по какой причине, потому как мне о том они не говорили.
Может греха боялись, может времени не нашли, а может фотографа не было. А может, какие другие причины. Так вот, мне – сыну их, трудно представить, вообразить их портрет, тем более их жизненный путь. А вам, наверно, совсем не подсилу такое. Так вот, чтобы не ставить внуков и правнуков моих в столь трудное положение, я и хочу рассказать хотя бы о своём жизненном пути. Пока ещё не забыл.
Так вот, с вашего позволения, я и начну. Родился я, по своей и божьей воле, в деревне, в мужицкой семье, да – у обыкновенного рядового деревенского мужика. Деревня Погорелка. Кто, когда и почему её так назвал, не знаю. Это в Пермской губернии, Оханском уезде, в Дворецкой волости. Это по дороге из села Дворец на завод Нытва. Если поедешь, так в пяти километрах от села Дворец и стоит эта деревня.
Она не просто так, рядовая деревня. Это деревня славная! Её далеко вокруг все мужики знали: потому, что в ней большая мельница есть. Мужики за тридцать и больше километров на эту мельницу приезжали зерно на муку молоть. Или перловую крупу делать. Или гречку от шелухи обдирать. Ещё многие привозили лес на доски пилить, или дуб толочь, чтобы потом, при выделке кож или овчин, было чем их дубить.
Так что деревню нашу люди широко знали. Мельница эта – водяная, от водяных колёс в то время, когда я родился, работала. Пруд, где вода скапливалась и хранилась, чтобы колёса было чем крутить. Монахи строили это давно, когда ещё мой дедушка не родился. Давно это было. Местные мужики, да даже девки и парни помогали. Землицы-то далеко возили, да и много. Кому-то и копать и возить было надо. Плотина та большая, чуть не полкилометра в длину будет. Да и высокая. Поди, метров шесть, а то и семь будет. Это на реке Нытва, что ниже плотины Нытвы. А выше плотины в пруд там три ручья собрались в одну точку: скресками называют это место-то. А как эти ручьи называются, если бы на карте посмотреть, то я не знаю.
Местные мужики так их рассохами называют, да и бабы тоже: Большая Рассоха, Малая Рассоха, и Средняя Рассоха. Ну, про пруд я потом расскажу. Если не забуду. А если забуду, так вы напомните. Да, по дороге, когда доедешь от села Дворец до Погорелки, так до завода Нытвы можно доехать по правому берегу через деревню Зеленята, деревни Казанцы, Еловики, Шумиху, Бабуши. Потом через Нытвенскую плотину и на Нытвенский базар. Можно и по левому, через деревню Зорино, Лебяжий лог, деревни Кукуй, Хлупово, Дубровино, Усть-Шерью, мимо деревни Патраков. А тут спустимся под Фаруткину гору и в самой Нытве окажемся. До базара рукой подать, совсем рядом.
Деревня наша не большая, но и не совсем маленькая. В окрест её далеко меньшие есть. В деревне нашей дворов тридцать, поди, наберётся, я точно-то не знаю, потому, что я из неё маленький ушёл. Меня унесли в другую деревню, соседнюю, Петрованово называлась она. Примерно в километре от Погорелки она стоит. Да, вот так. Завернули меня в тряпки разные, и унесли. На шутку, вроде бы, мол, если шибко плакать станет, так обратно принесём. А если не будет плакать, так пусть у вас и живёт. И я не знаю теперь, или я мало плакал, потому и оставили, не понесли к родителям. Или я плакал много, хорошо, добросовестно, да махнули на меня рукой, мол, поплачет да перестанет, два не будет. Да так и оставили.
Соорудили мне коровий рог с коровьей же титькой, вместо соски, да и стали меня через этот рог молоком кормить. Я помню, уж ходил хорошо, но с этим рогом не расставался. Соску настоящую-то купить надо, да ещё где её купишь, а тут всё под рукой. То хлеба жёваного в рот сунут. Ну а потом кашами да киселями разными подкармливать стали. Так я и прижился в чужой семье. Когда мне рог был не нужен или я сыт, или спать лягу, так его сунут в кружку с остатками молока и поставят на окошко, либо на стол. Он и стоит, пока снова не понадобится. Мухи в этом роге целым роем питаются. Понадобится рог, махнут рукой, разгонят мух, рог мне в рот сунут. А мух, какие в кружку упали, в молоко, какой-нибудь лучинкой, или соломинкой выбросят.
И давай мне в рог подливать, да приговаривать: «Ешь, давай, ешь да расти большой». Если мух тех сотни на моей посуде танцы разводили, да у каждой мухи на каждой лапе микробов тысячи, так вот и посчитайте, какие же числа микробов в мой желудок попадало? Но видимо, все они в моём желудке умирали, потому, как я-то не умер! А вот братья мои, да сёстры, а их у меня было много – я у мамы двадцать третьим родился. Да после меня ещё двое родилось. Всего-то нас у мамы было двадцать пять детей, из них я четвёртым в живых остался. У тех, двадцати одного ребёнка, микробам, видимо, хорошо жилось, потому мои братья и сёстры помирали. Редко кто из них до году доживал.
А больше всё младенцами умирали. Болеть-то я, правда, часто болел, да за жизнь крепко держался. Выжил. Теперь про рог расскажу, через который я маленький питался.
Уже шестьдесят с лишним лет прошло с тех пор, он у меня как сейчас перед глазами. Дело было вначале лета, на втором году моей жизни. Семья, в которой я теперь жил, несколько дней назад перебралась в летнюю избу, потому, как она была побольше зимней и светлее. Багажа, мебели было мало и я с удовольствием бегал вдоль по полу, резвился. Перед вечером моя новая мать принесла лукошко щепы и разных деревянных обрезков, чтобы утром протопить русскую печь, чтобы готовить обед на семью.
Эта новая для меня вещь привлекла моё внимание. Я подошёл к лукошку, заглянул, увидел там обрезки от досок и брусков разных размеров, конечно, заинтересовался ими. Стал их доставать из лукошка и складывать их на лавку, рассчитывал утром, как кубиками поиграть ими. Увлёкся этой работой, выронил, а может и положил свой рог в лукошко, чтобы не мешал работать. Наложил кучку обрезков, ну и занялся строительством. Забыл о своём милом роге. Потом пришла «мама», скидала щепу в печь вместе с рогом. Увидела мои запасы, схватила их и тоже бросила в печь, не смотря на мои просьбы и мольбы оставить их. Ну, я, конечно, расплакался. Плакал горько и долго, очень уж обидно было, что не дали поиграть такими хорошими кубиками.
Подошла бабушка, стала меня уговаривать, успокаивать, пообещала, что мы утром с ней пойдём и наберём ещё лучше этих. Ну и эти обещания успокоили меня, и я уснул у бабушки под боком. Когда проснулся утром, захотел кушать. Стали искать этот злополучный рог, его нигде не было. Потом я вспомнил, что он был в лукошке, сказал об этом бабушке. Подошли мы с ней к печке, а там уже догорали остатки от всего того, что было загружено в печь. Тут же мне соорудили другой, новый рог. Но ведь это же был не тот рог, к которому я привык! Этот новый я, конечно, не принял, ни разу не взял его в рот. Тот-то был почти белый рог, только с одного боку был чёрненький клинышек. А этот совсем чёрный. И титька та была изжеванная, мягкая, белая. А эта почти чёрная, твёрдая, маленькая. И вот с этого дня я стал пить молоко из кружки, через край и стал сам орудовать ложкой. С этой поры и помню я события, наиболее важные, или скажем значительные, которые касались меня или моих близких.
Родня
Например, в это лето 1921 года помер мой дедушка, Антон Васильевич, это отец моего отца. Я его как сейчас вижу живого и здорового. Последний раз я его видел зимой в морозную пору, сидящего на печи, ноги в худеньких валенках поставил на голбец. Локтями оперся на колени и разговаривал со мной. Я был на руках у мамы и смотрел на него немножко снизу – вверх. Его портрет: седые волосы, подстриженные, как говорится, «под горшок», лицо морщинистое, борода седая, длинная, клином. Усы не длинные, густые. Рубаха синепёстрая, опоясана красной покромкой. На похоронах я не был, потому не помню процедуры похорон. В это же лето померла бабушка Наумишна, это мать моего приёмного отца, её живую почему-то очень смутно помню. Лучше помню её одежду. Особенно хорошо помню один из последних эпизодов, связанных с ней: телега с запряжённой в неё маленькой чёрной лошадкой въезжает на Петровановский мост. На телеге стоит белый гроб. На гробу сидит её младшая дочь Арина. Я бегу с угора к мосту и плачу, хочу, чтобы меня взяли с собой в церковь и на кладбище. Но меня с бабушкой отправили домой.
В то же лето, я бегал по ограде. В ограде была наша чёрная комолая корова. И вот, что-то я не понравился ей! Она меня своей головой столкнула с ног! Когда я упал, она меня толкала по ограде, и я катался, как бочонок, кричал бабушку! Бабушка меня и выручила. А вот когда меня лягнула наша белая кобыла, этого я не помню. Помню только, что у меня очень болели губы, и помню, когда я смотрел в зеркало, так у меня через рассеченную губу виднелись зубы.
Говорили, что я был в шоковом состоянии и меня долго откачивали, пока я очнулся. В это же лето, перед уборочной, уже после сенокоса, бабушка пошла по какой-то надобности, к моей родной маме. Меня она не хотела брать с собой и от меня она хотела скрыть это намерение. Но я понял, что она идёт к моей маме, стал просить, чтобы меня взяла с собой. Тогда бабушка решила меня обмануть. Сказала мне: «Я сейчас схожу в верхний огород, ты подожди меня. Потом пойдём вместе». Я, естественно, поверил, остался под сараем и терпеливо ждал. Потом понял, что меня бабушка обманула. Через верхний огород косой тропинкой вышла на большую дорогу и ушла в Погорелку. Я пошёл следом. А ждал-то я долго, бабушка той порой ушла далеко.
Пока я бежал полем по косой тропе, а она шла по ржаному полю. Для меня это было не далеко, но я не мог видеть, я бежал молча. Когда же я вышел на большую дорогу, а бабушки не видно, я потерял уверенность, а сюда ли ушла бабушка? Я горько заплакал, и, всё-таки, бежал вслед за бабушкой. Навстречу мне шла девушка из соседней деревни Исаково, Марьяна Александровна. Ей в ту пору было двадцать слишком лет. А мне ещё два не исполнилось. И вот она меня встретила более чем в полукилометре от деревни, плачущего. И я у неё спрашиваю, не видела ли она мою бабушку? Отвечает: «Нет, не видела». В свою очередь спрашивает меня: «А ты Ваня, чей?» Ну, я, сквозь слёзы отвечаю ей: «Да я бабушкин!» Она-то меня знала хорошо и бабушку мою видела – она ей встречу попала. И разговор обо мне у них был.
И она меня убедила, что бабушка или дома, или ушла в другое место. Уговорила меня пойти домой и проводила до дому. Потом все посмеялись надо мной, что я «бабушкин»! И уже в школу ходил, то ходил мимо их дома. Частенько встречались с ней. Не знаю только, понимала ли она, что дороже у меня не было человека, чем бабушка. После нескольких подобных обманов я бабушке плохо верить стал. К речам же других людей вообще относился с недоверием. Мало стал разговаривать, на вопросы отвечал не сразу. Подумаю вначале, что ответить. Порой и совсем не отвечал. От чужих людей не брал никаких угощений. Стал молчалив и задумчив. То, что я жил в чужой семье, это я понял рано, как только стал соображать, смог оценивать отношение ко мне.
Чужой
Но я не знал ещё, что я чужой. Потому часто задумывался, почему же ко мне относятся не так, как к моим сверстникам в других семьях? Этот вопрос мучил меня с тех пор, как я стал себя помнить. И я всегда искал на него ответ. Порученное мне дело всегда стремился выполнить хорошо, добросовестно. Всегда стремился следить за своими действиями и поступками, чтобы не вызвать гнева окружающих меня людей. Потому, как часто за мои оплошности расплачивался телесными наказаниями. Вначале шлепками, тычками, затем и подзатыльниками. А когда подрос, то пошёл в ход отцовский ремень, чересседельник и прочие домашние вещи. А лет с семи-восьми пошло в ход всё, что под руку попадало: сковородник, ухват, полено дров и др.
Семья, где мне пришлось расти, состояла из следующих лиц: дед – глава семейства, Вшивков Ананий Фёдорович, в возрасте восьмидесяти лет. Среднего роста, широкоплечий человек, с отменным здоровьем. За жизнь свою ни разу не обращался в больницу. Всё время чем-то занятый человек, всегда в работе. Волосы темно-русые, подстриженные под горшок. Борода и усы – рыжие. Борода не длинная, но широкая. Нос и щёки с густым румянцем. Глаза серые, злые. Особенно, когда я окажусь на его пути. Или не во время попытаюсь заговорить с ним. Разговаривал редко, и то больше жестами. Правую руку вытянет, указательным пальцем вперёд. Я и должен знать, что он хочет: или подать ему какой-то предмет, инструмент. Или сам я должен удалиться в этом направлении. Когда я угадаю его желание, то он, молча, примет то, что я подаю и мне можно побыть около него. Если же я не угадал его желание, то он рявкнет, как медведь! Нож или топор, или что другое, мало ли в хозяйстве вещей, которая нужна ему в сей миг.
Тогда я должен молнией вскочить и бежать за тем, что ему нужно. Когда подам, тогда молчит. Так мы с ним прожили бок-о-бок шесть лет. За это время что мы только с ним не переделали. И лапти плели, и грабли делали, и кадушки под капусту чинили. Сушили хлеб в овине. Ходили за пчёлами. Весной, во время роения пчёл, караулили на пару выход роёв. Он в нижнем огороде – я в верхнем. Или, наоборот, по его усмотрению. Где матка раньше петь начала – там он караулит, где позже – там я. Но, бывало, и ошибался он: там, где я караулю – рой вперёд выйдет, чем у него. Моя обязанность заключалась в том, чтобы укараулить момент выхода роя, уследить, куда он привьётся, и, не дай бог, – улетит! Я должен задержать его. И надо деду дать знать, что у меня рой пошёл.
Инструменты для этого в моём распоряжении: ведро с водой, веник и сабан с боронным зубом, подвешенным на черёмуховый куст. Когда на мой звон приходит дед, я должен идти на его место и караулить там. Летом во время медосбора я тоже ходил с ним, то подать таз, то нож, то дымарь, то подать створки от улья. Под осень на пару с ним собирали черёмуховые ягоды, малину. Вот за земляникой я бегал в вересники со своим сверстником, Колькой Пашкиным. Это тоже была моя обязанность, кружку земляники к ужину, во что бы то ни стало, иначе мог получить очередную порцию ремня. Её хлебали с молоком и с хлебными крошками. Малина росла в верхнем огороде, около гумна. Её мы собирали обычно с бабушкой.
Родился дед в этой же деревне, был единственным сыном у родителей. Потому имел большой надел земли. И его отец тоже был единственным наследником. Потому многие поколения пользовались одним и тем же клочком земли. Не знаю, сколько её было, но точно больше, чем у других соседей.
Помер дед зимой 1925 года, мне шёл шестой год. Молотили хлеб на своей деревянной молотилке силами своей семьи. Дед целый день гонял лошадей, сидя на беседке ваги. Простыл, отказался от ужина. Забрался на полати и там заснул. Наутро объявил, что заболел, плохо себя чувствует. Заложило в груди. Помню, это было в пятницу.
Привезли фельдшера, Тимофея Александровича Иванова. Он осмотрел его, пошутил с ним: «Ничего, Ананий Фёдорович, скоро поправишься, вот у Ивана Наумовича на девишнике спляшем вместе с тобой». А отцу дорогой сказал: «Положение более чем серьёзное, навряд ли справится. Двухстороннее воспаление легких, в 86 лет одолеть сложно. Надежды мало». И на следующей неделе, в четверг, деда не стало. Морозы в то время стояли крепкие: сорок-сорок пять градусов.
Бабушка, Вшивкова Арина Михайловна, родилась в деревне Зорино. В многодетной семье. Было у них четыре брата и три сестры. Старший брат её, Сергей Михайлович, рано стал главой семьи, потому, как отец их, Михаил Петрович, помер в молодом возрасте. Второй брат, мой дядя Степан Михайлович, жил до глубокой старости, тут, в родной деревне Зорино. Третий брат, Гурьян Михайлович, тоже жил в Зорино. Четвёртый брат, Евсей Михайлович, в молодом возрасте ушёл из деревни. Жил вначале на станции Верещагино, работал стрелочником. Построил огромный деревянный дом недалеко от вокзала. Потом переехал в Пермь, тоже работал на Железной дороге. На Разгуляе построил двухэтажный дом. До пенсии работал и жил в Перми. По выходу на пенсию построил дом на станции Сылва, жил там до конца своих дней.
Сёстры
Старшая – Наталья Михайловна, вышла замуж в деревню Заверниха, около Верещагино. Там и прожила свою жизнь. Вторая сестра – Арина Михайловна, вышла замуж в деревню Петрованово, за Анания Фёдоровича. Это и есть мои дедушка и бабушка. Младшая сестра Мария Михайловна, вышла замуж в деревню Погорелка, за Азанова Николая Антоновича, вот это мои папа и мама настоящие, которые произвели меня на этот свет. Как сложилась семья Анания Фёдоровича и Арины Михайловны, для меня это белое пятно. Из обрывков рассказов разных людей в разное время, у меня сложилась такая картина: в молодости Ананий Фёдорович был постоянным посетителем кабака. Там проводил дни своей молодости, часто там и ночевал, в углу за бочкой. Не только был постоянным посетителем, но и своим человеком. Кабак этот содержали в Погорелке семья Праздничных. Кто-то мне рассказал, что когда там разгуливал дед, хозяйкой кабака была пожилая женщина. Напротив кабака, через дорогу жила тётка Арины Михайловны, богатая и властная старуха. Арина Михайловна у неё часто гостила, или прислуживала ну и, видимо, встречалась с Ананием Фёдоровичем.
Потом у неё появилась дочь, Евдокией крещённая. Арина Михайловна её до последних дней своих Дунькой звала, и никак больше никогда не называла. Так вот потом Ананий Фёдорович с Ариной Михайловной сошлись, и стали вместе жить. В церковь венчаться ездили, когда уже Дунька была большая. Она мне сама рассказывала про свадьбу родительскую. Земли у деда много было, да работали на ней батраки, то один, то два, а то и три, когда он в кабаке обосновался. Дошло дело до того, что в один из годов хлеба не хватило до свежего урожая. Батраки похозяйничали. Поехал он в деревню Исаково, хлеба мешок занять у Фёдора Михайловича. Тот посмотрел на него, головой покачал: «Ладно, говорит, дам я тебе хлебушка мешок, и два. Но прежде песенку спою, да ты послушай. И на другой раз уж не приезжай ко мне, я и зёрнышка не дам тебе». И прочёл деду нотацию: что мол, самому в поле надо работать и самому хлебушко в амбар складывать и расходовать по мере надобности. Нахлебников да жуликов из дому разгони, чтобы они на своей земле кормились.
Горьким видимо, показался деду занятый хлеб. Забросил он кабак. Привёл домой Арину Михайловну. Хлебушка больше заимовать не ездил. На базар сам тоже не ездил, если что сошлось на продажу, так Арина Михайловна всё и продавала. Или он считать не умел, или боялся, что пропьёт выручку – не знаю, только так было. С ней он тоже обращался страшно грубо: как я рассказал, пальцем показал, так бегом подавай, не то получишь! Тем, что в руки на ту пору попадёт. Бабка рассказывала, что однажды дед запрягал лошадь и бабка что-то не угадала ему подать ли, сказать ли, так он в неё дугой запустил, бабка увернулась, дуга ударилась о землю одним концом, потом со звоном, как камертон, полетела дальше гулять по под-сараю. Но толи бабка бойкая была и много раз увёртывалась от таких посылок, толи они не часто случались или умела угадывать его желания, только бабка его пережила.
«Мать»
Дунька, дочь ихняя, то ли гены от деда унаследовала, толи научилась от него, во всяком случае, точная копия его была. Тупа была, как сибирский валенок, жадна, самолюбива и зла, как самый хищный зверь. Во времена ликбеза я сам потратил много времени, чтобы научить её читать. Да где там, ни одной буквы так и не усвоила! В первые годы её замужества купили ей швейную машину с ножным приводом. Маялась она с ней несколько лет, да так и не сшила ни одного шва на ней. Продали.
На моей памяти, ещё в деревне жили, в ту пору бабка уже больна была, Дунька хозяйничала. Я ещё маловат был с лошадью управляться, потому нанимали на лето подростка, парня. Двоюродного брата мне и Дуньке, Александра Степановича. Так она ему в любой день работы находила от темна и до темна. В любую погоду, в праздник или будний день, в дождь ли, в слякоть ли. А вот накормить его со всеми наравне, по-человечески, за одним столом – боже упаси! Не было такого!
Когда сами поедим, тогда меня посылает: «Иди, зови Санка обедать». Пойду, Санка приведу, а на столе огромная чашка капусты и каравай чёрствого хлеба, такого, что когда его режут, так нож скрипит в нём. Когда парень одолеет эту чашку капусты, тогда ему несколько ложек плеснёт чего-нибудь: супу или молока с творогом. Потом, когда он уйдёт на работу, полдня Дунька охает: «И куда это жрёт тако место?» Молодой, здоровый парень, наработавшись до-упаду, понятно, аппетит отличный! Человек больше желудка не съест. В то время было всё, что угодно. Потом и на моём желудке экономить стала, когда туго приходилось со жратвой. Чтобы свой поплотнее набить!