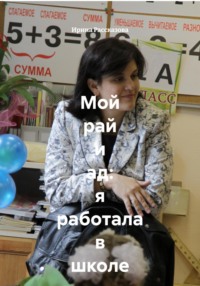Czytaj książkę: «Мой рай и ад: я работала в школе»
Об авторе и книге
Ирина Валерьевна Рассказова — учитель начальных классов и английского языка, преподаватель высшей категории с 25-летним стажем практической работы. Лауреат конкурсов, в том числе «Самый классный классный» (в рамках конкурса «Учитель года»), "Невзрослый театр", конкурсов ГМЦ и других. Обладатель экспертного уровня по результатам диагностики МЦКО (Москва).
«Мой рай и ад: я работала в школе» — автобиографическое повествование, в котором со всей откровенностью рассказывается о реалиях современного образования, иногда шокирующих, и о «подводных камнях» в работе учителя. Автор пишет не только о победах, но и о промахах и ошибках на своем пути. Книга будет интересна учителям-практикам, как опытным, так и начинающим карьеру, родителям, которые найдут в ней ответы на многие вопросы о воспитании детей и особенностях современной школы, а также всем, кому небезразлична ситуация, сложившаяся в российском образовании.
Ирина Рассказова
Мой рай и ад:
я работала
в школе
Посвящение: моей маме, Нине Борисовне Моисеевой. Без тебя не было бы этого труда.
Пугаться нельзя. Кто начнет пугаться – тот сразу все проиграет
В.Путин (из выступления)
Сражения выигрывают учителя
О.Бисмарк
В условиях гибридной войны
педагоги должны находиться
на переднем крае,
они должны формировать личность
Н.Патрушев
Некоторые имена взрослых и детей, а также номера школ изменены
Часть первая. Зонтик над классом
Учитель, который не хотел идти в школу
В детском саду каких только профессий я не примеряла на себя. Сходила в парикмахерскую «Чародейка» с бабушкой – заворожили ряды разноцветных флакончиков с лаком и запах средств для химической завивки – буду парикмахером. Побывала у стоматолога и получила в подарок кукольные инструменты – зубы лечить оказалось не страшно – буду зубным врачом. Восхищалась ловкостью, с которой детсадовские нянечки протирали наши столы после обеда и оставляли до блеска отмытый линолеум, один раз махнув тряпкой, – обязательно буду уборщицей.
«Все работы хороши: выбирай на вкус» – звучал в ушах избитый советский лозунг. Любой труд почетен. Тогда я не понимала, что не любой. И даже представить себе не могла, насколько не любой. Сейчас думаю – может, все было бы проще, стань я уборщицей? Но, наверное, даже тогда я пыталась бы внести что-то свое в давно понятную всем работу и умудрилась бы нажить проблем.
Я родилась и первые десять лет прожила во Владимире. Очень спокойное время, у меня было ощущение полного счастья. Мы жили с бабушкой, мама училась в аспирантуре в Москве и приезжала каждые две недели. Я скучала и ждала ее, она привозила с собой очень родной, но какой-то московский, будоражащий запах, а еще целую сумку всего того, чего во Владимире в те советские времена было не купить: пепси-колу, бананы, забавные игрушки, одежду, а однажды даже велосипед. Москва казалась раем, как для многих когда-то – Америка, и втайне я мечтала уехать в столицу. Тогда я не могла предположить, что Москва ответит мне совсем не тем, на что я надеялась.
В школу я идти не хотела. Большинство детей – хочет; мало кто понимает, зачем, но ради нового статуса – уж точно: я школьник, я большой! К концу первого месяца они разбираются, что к чему, а дальше – дальше все зависит уже от родителей…
Рай:
Мою первую учительницу Ирину Константиновну Наумову я помню только обращенной к нам лицом: вот она объясняет урок у доски, вот склонилась над тетрадями во второй половине дня, вот зорко следит за нами на перемене. Строгие серые глаза, чаще недовольные, чем довольные. Самым странным и интересным мне казалось то, что она видит нас как-то совсем иначе, с другой точки. Это я уже тогда понимала. И одним из моих желаний было хоть на секунду встать за ее стол. На ее место. Просто почувствовать, как это. «Еще бы, – думала я, – наверное, все просто: видишь сверху, кто чем занят. Она же выше… И командуешь». Но просто подойти или попросить сесть на место учителя никто бы не решился, так что путь туда был заказан. И вот однажды возможность представилась. Я пользовалась доверием Ирины Константиновны, возможно, что-то такое она во мне чувствовала. В тот день она вела нас в столовую и вдруг вспомнила, что оставила на столе нужную вещь. Дала мне ключ от класса и отправила обратно.
Я открыла класс, он был пуст. Вот он, мой шанс. Помню, я осторожно, чтобы ничего не сдвинуть, села на ее стул. Потом встала и посмотрела на парты, вдаль, представила сидящих за ними детей. Оглянулась на дверь, взяла дыхание. Попыталась произнести: «Дорогие мои, открываем тетради номер один, пишем число. Классная работа, сегодня двадцатое марта…» И поняла, что не могу. Меня не слышно. Мои усилия – словно попытка поднять огромную штангу, которую я вижу первый раз в жизни. Я только прикоснулась, только попыталась встать на место учителя. И поняла, что будет непросто. Что нужно много чего уметь и знать, чтобы держать класс, чтобы чувствовать себя как рыба в воде здесь, на этом месте. Я ощутила, что это огромный труд, и вот лишь малая его часть, а я не смогла и этого. Но уже тогда для себя решила: я вырасту, выучусь и сумею. Я буду не хуже. Я сделаю.
Десятилетия спустя директор школы, в которой я к тому времени проработала двенадцать лет, скажет в зале суда обо мне: чтобы попасть в класс к Рассказовой, родители «жгли костры» возле школы. А представитель родительского комитета подтвердит на том же суде, что к Рассказовой – девяносто желающих, но администрация, к сожалению, не может открыть для нее одновременно три первых класса. В тот момент я пойму, что состоялась как педагог. Но все это будет еще так нескоро…
Рай:
Ирина Константиновна уже тогда приближалась к пенсионному возрасту, но она была настоящим, крепким профессионалом. Откровенно скажу: за почти пятьдесят лет моей жизни я встретила от силы пару учителей, кто мог бы с ней сравниться. Пытаясь разгадать секрет успеха Ирины Константиновны, я осознаю, что она была и учителем, и воспитателем, и наставником, и актрисой, и судьей, и мамой, и совестью нашей. И любила нас, не жалея, и наказывала, и боролась за каждого, за наши души, и пропускала через себя все наши ошибки и поражения. И, спрашивая с нас, спрашивала и с себя.
Я помню некоторые ее уроки так ярко, словно это было вчера. Вырезанные Ириной Константиновной чашечки с синим горохом приклеивались к доске пластилином (о магнитах и скотче тогда речи не было), а за чашечками прятались примеры. Это был завершающий этап большого путешествия. Мы спасали сказочного героя. Он и по дорожке бежал, и через реку нужный мосточек прокладывал – и благодаря нам, детям, в реку не свалился, потому что мы вычислили и начертили нужный отрезок. А из чашечек мы с Буратино пили чай в гостях у Мальвины. Но наклеить все это на доску несложно, вырезать – тоже. А запомнилось ощущение праздника, включенности, радости от усилий, приносящих результат. Я не знал, а теперь – знаю.
Я не помню, чтобы на уроках кто-то из одноклассников заскучал. Сама Ирина Константиновна – теперь я это понимаю – забывала вместе с нами обо всем и получала огромное удовольствие от урока. Мы тянули руки, и она увлеченно решала задачку вместе с нами. И я не могу припомнить ни одной ошибки, ни одной описки, которую она допустила бы на уроке, а уж в тетрадях – тем более.
Однажды я проходила мимо учителей, которые на перемене делились друг с другом, как прошел урок. В то время в параллели давали одну и ту же тему буквально день в день. И я услышала: «Сегодня деление на однозначное давала, вся в поту…» Детский мой мозг не понял, я про себя удивилась: «Это так сложно? Не может быть…» Теперь я знаю: работать так, как Ирина Константиновна – на разрыв, как сыграть «Юнону и Авось» – каждый день – да, это «вся в поту», это сложно. И с первых дней моей работы после вуза я поняла: урок удается, только если ты отдаешь частичку себя. Каждый день.
Настоящие учителя, каких сегодня осталось мало, работают именно так потому, что это их призвание, а не потому, что хотят за это больших денег, славы, признания или подарков. Просто они так живут – как дышат. А те, кто ждет подарков, как раз так не умеют. Они учителя только по образованию. Не больше. Хотя наверняка тоже хорошие люди. Но если настоящим Учителям не нужны подарки и слава, то на человеческое уважение они могут и должны рассчитывать, потому что своим примером, своей жизнью, уважением к собственной профессии и ученикам они это заслужили.
Но сейчас все чаще они получают в ответ хамство и унижение, и не только от родителей, но и от администрации школ – от тех, кто, казалось бы, должен понимать учителей лучше всего, так как изначально они – коллеги. Или нет?
Так что наставников таких почти уже нет, люди, вы их предали.
Воспитать истинное чувство собственного достоинства может только тот, кто сам им обладает. Он не даст себя растоптать. Поэтому такие Учителя уходят из школ. И что бы вы ни делали, они не вернутся. Они не терпят халтуры, подмены понятий, попыток усомниться в вечных ценностях. Леность, дурные поступки, нежелание преодолевать трудности – это не должно становиться для детей нормой, это должно наказываться. Иначе система рухнет. Так и произошло.
Ад:
Рассказывает учительница со стажем более 20 лет, филолог. Ее ученики сдавали ЕГЭ на 100 баллов. Она пришла в самую крупную и известную московскую школу номер 5… (директор – народный учитель), где существуют специализированные классы, где сохранился отбор и куда непросто попасть. Получила филологический класс: это история, языки, русский и литература прежде всего. Дети, поступающие туда, и их родители должны бы быть неглупыми, культурными, уж по крайней мере нацеленными на учебу именно в гуманитарном классе, где всегда много чтения, много текстов, в том числе наизусть. Иначе не добиться результата в этой сфере. Учитель в первый месяц работы поняла: дети, прошедшие отбор в такой класс, не читают. С произведениями знакомятся только в кратком изложении, стихи запоминать не приучены и не собираются. Задала им программные стихотворения для 10 класса – не выучили. Результат – вереница «двоек» в журнале в конце триместра. Но этим не закончилось. Учитель получила оскорбления в чате и жалобу в администрацию школы и выше. Претензии родителей: как вы могли задать учить им что-то наизусть (это же так трудно!) и выставить колонку «неудов».
Еще один случай, уже в другой школе: одна «яжемать» пожаловалась в департамент образования на то, что учительница открыла тетрадь первоклассницы на нужной странице, дала ручку и попросила начать писать вместе со всеми. Претензия: «Как посмел учитель открыть тетрадь моего ребенка, то есть тронуть вещь, которая ей не принадлежит, и заставить что-то делать? Дома ничего не заставляем, все по желанию. Вот и в школе – когда захочет, тогда и откроет тетрадь!»
Легко представить, сколько учителей могло уволиться после общения с этой мамашей, пока ее дочь не получила аттестат. Я думаю, что первой, кто столкнется с результатами такого воспитания, будет сама эта мама в старости. Воистину, мир сошел с ума. Узнав об этих историях, прочитав множество подобных в интернете (про интернет часто думаю, что фейк и, что называется, «делю на два», но здесь-то – из первых рук!) – хочется крикнуть: родители, а что вы хотели за невыученный урок? Пятерки?! И с чего вы решили, что лучше учителя знаете, как готовить выпускников, как вести урок у первоклашек? Когда, кто вас убедил, что здесь вы можете диктовать что-то? И чего вы добиваетесь? Вы добиваетесь для своих детей права остаться неучами? Зачем?
У китайцев есть поговорка: пожалел палку – потерял сына. У нас – аналогичная: учи дитя, пока поперек лавки лежит. Древние не отрицали принуждения при обучении чему бы то ни было. Да, надо заставлять. А как вы хотели?
Что касается случая с невыученными программными стихотворениями в самой большой школе Москвы, к чести директора, конфликт как-то замяли и «неудов» не исправили. Но учителя все же вызывали на ковер. Видимо, пытались объяснить что-то в духе «не умеете работать с родителями». Формулировка эта стала модной, я и мои коллеги слышали ее множество раз, и расчет верный: учитель на явную глупость со стороны администрации даже не знает, что ответить, и молчит. Что значит «не умеете работать»? В чем мы должны убеждать взрослых людей? Разве не родитель с нами вместе, в одной связке должны трудиться над тем, чтоб вылепить из каждого чада образованного и воспитанного человека? И разве не вы, администрация, первые и главные люди, кто должен им это объяснить? Чего вы боитесь? Что прикрываете? Или кого? Что защищаете, заставляя себя подпевать жалобщикам, растаптывая хороших профессионалов? Кто вас призывает и вынуждает предавать нас, коллег? Поверить не могу, что вы искренни в ваших мотивах.
Ничего не могу с собой поделать, мне вспоминаются предатели (простите за жестокое сравнение). Когда им задавали вопрос, что их заставило идти против собственного народа, они отвечали: мы думали, что так надо, так правильно. Они находили оправдание себе. Время, мол, было такое. Что же сейчас за время, когда надо смешать учителя с грязью и пытаться убедить его, что он ничего не стоит, что он неправильно учит – только потому, что им недоволен «потребитель образовательных услуг»?!
И ведь как ни ужасно, многих учителей удается в этом убедить. И идут, и извиняются. Извиняются за то, в чем не виноваты. Мало кто пытается постоять за себя. Нет сил, времени, а чаще – нет воли. Есть страх, что останешься без работы. Боишься прогневать царя-батюшку, еще чего-то боишься. Борешься с собой: плевать, пусть живут, как хотят, это не мои дети. Пусть не учатся. Но ведь «сегодня – дети, а завтра – народ». Настоящий учитель готов бороться за детские души. Выставляя «два», он показывает ребенку: так нельзя, переделай, вот чего ты пока стоил в этой работе, у тебя пока не получилось, надо трудиться. Только через труд можно выиграть. Освоить, усвоить, победить. И это нормально. Но объяснять то же самое родителям, мало того – еще и администрации мы не готовы. И непонятно, почему мы должны это делать. Потому что это унижение нашего достоинства. Разве все это не очевидно взрослым людям? Если не учил – «два». Иначе теряется весь смысл: результат будет, в том числе и моральное удовлетворение от знаний, когда ты преодолеваешь себя. А нам бьют по рукам и не дают этому учить. Хуже: дети знают, что им нарисуют любые отметки, которые захотят они сами и их родители. И самое ужасное, что они правы: нарисуют.
Я уверена: учитель должен быть свободен от ответственности за детскую и родительскую лень. Точка.
В советское время, когда я росла, некоторым тоже, говоря простым современным языком, учеба «не заходила». Но учительский труд был в почете, и никому не приходило в голову качать права, требовать ту или иную отметку, несмотря на явное отсутствие знаний по предмету (если знания есть, не придется ничего требовать, пятерка и так обеспечена). В правоте учителей не сомневались, их уважали. Сейчас проще заставить школу поставить нужную оценку, чем получить ее заслуженно, выучив тему. Дети не получают радости от знания. Они не понимают, что без труда не будет и рыбки из пруда, потому что имеют все и так, без усилий. А это неправильно.
В советской школе было только так: если у тебя тройка – то не зря, значит, ты не знаешь на больший балл. И не сможешь выбирать профессии, которые тебе не по плечу. Из-за собственной ли лени или по другим причинам – уже второй вопрос. Хотя мой опыт убеждает меня в одном: как правило, дело в лени. И в том, что ребенку не хватает поддержки семьи. Хотя это тоже вид лени, я считаю. Я не касаюсь сейчас проблем со здоровьем, которые не позволяют учиться в полную силу, об этом в книге будет отдельная глава.
Были способы заставить работать. Тебе будет стыдно перед классом, тебя не примут в октябрята, в пионеры, в комсомол. В конце концов, дети стремились заслужить уважение учителя. И я пишу об этом не для того, чтобы впустую сожалеть об утраченном времени моего детства, а чтобы проанализировать, что происходит сейчас.
Очевидно одно: тогда способы воздействия на детей существовали, сейчас их нет. Родители и школа находились, что называется, в одном окопе, и все было направлено на то, чтобы и ребенок перешел на их сторону. И чем скорее это происходило, тем увереннее он становился полноценным членом общества.
Сейчас самые важные для ребенка люди – учителя и родители – по разные стороны баррикад.
Конечно, родители ближе, и ребенок примет ту модель поведения, которую транслирует семья, как бы ни боролся учитель. Сколько бы ни объяснял педагог, что нельзя бросать фантики на улице, сколько бы ни показывал это своим личным примером, но если отец и мать швыряют бумажки мимо урны, ребенок будет делать так же. А поскольку ценности у семьи и школы подчас сильно разнятся, это в итоге означает развал образования.
Я не хотела идти в школу, потому что тоже сперва не хотела трудиться. Теперь понимаю, что дело было еще и в возрасте. Мне исполнилось всего шесть, а в первый класс в то время брали только с семи. Но меня приняли – потому, что к шести годам я умела читать, для того времени редкость. Читать научила мама, она заставляла меня, и регулярные занятия я воспринимала как необходимость. Мама у меня с сильным характером, возражать ей было бесполезно. Да и в глубине души я понимала, что она делает все правильно. Потому подчинялась. Училась бороться с собой. Чтобы сделать «через не могу», нужна воля, а ее развить труднее всего, потому что человек по натуре своей ленив. Но трудно передать, какую радость я испытала, когда выяснилось, что благодаря стараниям мамы я читаю чуть ли не лучше всех в классе. Причем колоссальное преимущество проявилось не только на уроках чтения: у меня обнаружилась интуитивная грамотность. И я искренне удивлялась, как мои одноклассники могут делать ошибки в том или ином слове.
Теперь я понимаю: это связано с ранним чтением. Раз увидев напечатанное слово, я запоминала его написание, а знаки препинания для меня были как пауза, где нужно взять дыхание. Все правила, которые мы проходили на уроках русского языка, для меня лишь подводили «научную базу» под то, что мне было уже известно. Любое правило можно вывести, если его не помнишь. Но, несмотря на это, по русскому у меня в начальной школе была стабильная тройка, потому что я писала хоть и грамотно, но до безобразия неаккуратно. И до сих пор я считаю те тройки справедливыми. Потому что учеба – это не только приобретение знаний. Это воспитание ответственности за то, что и как ты делаешь. И система работала, никто из родителей не пытался ее оспаривать. Учителям верили, с ними были заодно.
Но самое главное, что я приобрела в школе в первый же день своего появления в ней – это цель, к которой, я сразу поняла, буду идти всю жизнь и обязательно ее достигну. Я выбрала профессию. Решила, что стану учителем начальных классов.
Директор на мотоцикле
Меня потряс до глубины души один эксперимент, который был проведен в советское время. В комнату с двумя световыми мишенями и ружьем по одному заводили учеников и объясняли: если ты выстрелишь в одну мишень, получишь выгоду для себя, в другую – для всего класса. И демонстрировали якобы почти уже заполненную его одноклассниками мишень «личной выгоды». Однако большинство выдержали испытание с честью. Почти каждый выстрелил в «общественную» мишень. Можно задаться вопросом: какой результат был бы сегодня?
Очень хорошо помню уроки, посвященные Великой Отечественной войне. Ирина Константиновна плакала. Плакали мы. Она находила слова для нас, маленьких детей. Мальчишки сжимали кулачки. Примеряли на себя. Воспитывай волю – с малого: нет сил, а добеги кросс на физкультуре. Поделись конфетой с товарищем, не ешь сам. Мы говорили о том, как оставались людьми жители блокадного Ленинграда. Это проникало в нас, детей, не видевших войны и голода. Трепетное, жгучее до слез восхищение, восторженное отношение к ветеранам я пронесла через всю жизнь. И потому уже в наше время моя семья не оказалась в стороне: мы делали сухой душ, блиндажные свечи для бойцов, собирали средства на беспилотники. Ничто не может сравниться с тем, какую ношу несут там, на передовой наши ребята во все времена. И если я их хоть немного согрею этой свечкой, хоть на один день – я буду счастлива. Самый любимый мой праздник – День Победы, 9 мая. Не могу ни думать, ни говорить об этом без слез.
Я знаю, что все дети, которые учились у Ирины Константиновны, пропустили это через себя. Мы играли в нашу победу после уроков. И побеждали немцев. Мы все выросли людьми, не понимающими многих современных реалий. Мы учились в обычном, «неотобранном» классе. Наши родители не позволяли себе отправить нас в школу без выполненного домашнего задания. Это было бы стыдно. Маленький штрих: все мои одноклассники получили высшее образование.
Ад:
Пожилая учительница в современной школе эмоционально провела урок о Великой Отечественной войне, дети плакали. Господи, какой успех наставника, какая молодец. Но нашлась «яжемать» – простите, далее в книге буду употреблять это слово без кавычек – написала на учителя жалобу: как можно так провести урок, что ребенок пришел домой в слезах. В итоге учительница написала заявление по собственному желанию. Мать не понимает, что ее дочери достался настоящий педагог, и у нее поднимается рука писать кляузы и разрушать то хорошее, что еще остается в школе.
Рай:
Чуть забегу вперед, но касаясь темы Великой Отечественной, не могу об этом не написать. Одной из главных своих побед считаю не высокие показатели успеваемости, не почетные грамоты, а вот этот эпизод.
Каждый год с марта или апреля я начинаю беседовать со своими учениками о шагах к Великой Победе. Рассказываю о главных сражениях, нахожу стихи на эту тему, эпизоды из фильмов. Делаю это уже в который раз, но и сейчас часто голос мой дрожит, не могу сдержаться. Слушают внимательно. Радуюсь, если хотя бы у кого-то из детей промелькнет слезинка. Не реагируют те – точно это знаю – у кого дома не поддерживается зароненное мной зерно, не поливается… И вот к 9 мая в школе организовали концерт, пригласили ветеранов. Мои дети прошли в зал, сели далеко от входа, ближе к сцене. А мне нужно было дождаться кого-то из родителей возле охраны – сейчас не могу вспомнить, что за важная причина, почему я к началу концерта оказалась не с классом. Родитель опоздал. И я влетела в зал в тот момент, когда по расстеленной красной дорожке уже шли – медленно, опираясь на палочки, —старички-ветераны. И мой класс встал. Сам, без моей подсказки. Только мой класс, один из всей школы. И стоя аплодировал.
Я поняла, что победила. Не помню, отчего больше у меня текли тогда слезы: от гордости за своих учеников или от торжественности момента? Не знаю.
Как «держать» класс, даже если не видишь прямо сейчас глаз и лиц? Этим тонкостям не учат в вузах, вернее, далеко не везде учат. Мне досталась на дипломной практике наставница, чем-то похожая на Ирину Константиновну, я задала ей вопрос о том, чего не было в программе, и она рассказала мне про «зонтик».
– Это сложно, приходит со временем, но если ты будешь об этом помнить, у тебя появятся «глаза на затылке». Надо встать в центре класса и представить, что ты раскрываешь над ним большой темный зонт. Он охватывает тебя и всех детей. И ты постоянно следишь, объясняя материал и беседуя с ними, не капает ли дождь на кого-то, все ли под зонтом.
Теперь я это умею. Почти никогда не капает. Но пока «держишь зонт» весь урок, вот тут он и есть, тот самый пот… Все просто, и все сложно.
Ад:
Коллега искала работу в Москве и проходила собеседование в школе в Марьиной Роще. С ней разговаривали заместители, было очевидно, что она подходит, ее тоже все устраивало. Перед встречей с директором замы зачем-то предупредили: «Он у нас молодой. Ездит на мотоцикле». Ничего другого, кроме того, что он большой оригинал, ей в голову не пришло, пока она не оказалась в его кабинете. (Надо сказать, чтобы попасть работать в эту школу, нужно дать пробный урок; стажа, категории и диплома недостаточно. Коллега урок провела, но директор не пришел, заместители сняли для него видео.)
Во время собеседования видео вывели на экран, но директор на него не взглянул, а спросил: «Какие у вас дефициты при подготовке к урокам?» Коллега удивилась вопросу и честно сказала: «Никаких». Действительно, какие могут быть дефициты? С таким стажем любую тему даешь с закрытыми глазами. Если и нужно найти какой-то материал – книги, интернет в твоем распоряжении. А если у тебя «дефициты» после стольких лет работы – ты не учитель. В ответ коллега услышала от приехавшего на мотоцикле менеджера-директора – которого, кстати, ей пришлось прождать три часа: «Ответ неверный, мне с вами все ясно. Дефициты есть всегда и у всех в любом деле». Обстановка в кабинете при этом впечатляла (а опытный взгляд высвечивает все, от уровня культуры до комплексов его хозяина): директор сидит за столом в своем кресле, а кандидат и завучи, пожилые женщины, стоят перед ним в ряд, полукругом. Сесть никому не позволено. И вдруг коллега ощущает тычок в бок и слышит шепот: «Выпрямитесь! Он у нас сутулых не любит!»
Большего унижения она не испытывала за всю жизнь. Звонила мне, плакала: «За что?» Я успокаивала: «Да это счастье, что тебя туда не взяли, под таким работать – себя не уважать!» И думала: что сказала бы Ирина Константиновна, столкнувшись с этаким юнцом, маленьким царьком? Как бы ответила? Была бы потрясена? Насколько? Ведь пожилые женщины с огромным опытом работают там и вытягиваются в струнку перед столом юного директора. Зачем?
Я зашла на официальный сайт школы. Там даже не было указано, какое образование получил этот директор…
Я убеждена, что деньги пахнут. Есть вещи, которые нельзя делать ни при каких условиях. Ни за какие деньги нельзя терять себя. Есть у человека «предел сжатия», как у пружины, как говорили в известном фильме. Неужели этот предел у людей настолько разный?
Запомнился один методический прием у Ирины Константиновны: коллективное комментируемое письмо. Учитель диктует предложение, ученик повторяет. Начинает писать и одновременно вслух объясняет орфограммы, которые встречаются в тексте. Все пройденные. В идеале все пишут в одном темпе. Отвлечься нельзя – отстанешь. Ясно, что кто-то пишет чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. Но в этом тоже особый смысл: задача усложняется, ведь нужно держать в голове и то, что прямо сейчас диктует учитель, и то, что успеваешь сейчас ты. Это невероятно трудно, а еще труднее – организовать в классе такую работу, помня, что у детей разные успехи в освоении письма. Ирина Константиновна умела. Она использовала этот прием на каждом уроке. Не думаю, что я в полной мере овладела этим навыком. Но это самая настоящая работа по огранке будущего бриллианта – обученного малыша, становление письменной грамотности. На которую мой педагог не жалела сил и времени. И только когда все было усвоено, давала контрольный диктант по теме.
То же с математикой. Контрольные устраивали редко. В основном мы решали и решали, набивали руку. Много примеров, много задач. Каждый день. Основа основ, черновой труд, тренировка. То, что не любишь показывать на открытых уроках. Но это и есть главная учительская работа.
Рай:
Контрольные – вообще особая история. Здесь мы видели актрису – Ирину Константиновну во всей красе. Со сценическими паузами, достойными театральных подмостков, являла она нашим взорам пачку тетрадей для контрольных работ, обернутых цветной бумагой. Красной – пятерки, синей – четверки, зеленой – тройки, черной – двойки. И никто не знал, кто из нас слабое звено, кто тянет класс назад. Просто вместе переживали, если зеленых и черных полосок в стопке было больше, чем красных и синих. Затем мы говорили о недостойном поведении, об ответственности октябрятских «звездочек», о звании пионера… Цель была одна: затронуть самые тонкие стороны наших душ, чтобы мы прониклись. Научить нас не быть равнодушными. Помню день, когда мы увидели много красных корешков – и ни одного черного. Мы кричали «ура!». Ирина Константиновна не останавливала нас. Она радовалась вместе с нами. А потом все же осадила. Нельзя останавливаться, нельзя успокаиваться. Теперь я понимаю: она учила нас жить. Быть настоящими. Я все очень живо воспринимала. Все мотала на ус. Брала на вооружение.
Я представить себе не могла тогда, что пройдет пара десятков лет, и именно за эти лучшие качества, которые нам прививали таким трудом, я буду расплачиваться своей судьбой, своим здоровьем, своим счастьем в профессии. Меня ждало впереди много лишений, боли… говоря честно – меня ждала настоящая трагедия.
Но даже теперь, оглядываясь назад, я не жалею, что я такая, какая есть, и я останусь собой. Думаю, благодаря Ирине Константиновне я сильно отличаюсь от многих своих коллег.
Ад:
В школе 203… я проработала недолго. Директором тогда была не педагог, а юрист. По слухам, ее муж, бизнесмен, пивной магнат, благодаря связям устроил жену на эту должность. Что у нее было идеально – так это документы, договоры, все с юридической точностью. Но в педагогике она не понимала ничего. Как-то пришла ко мне в класс как к новому учителю, познакомиться, и сказала: «За урок я должна запомнить, как каждого из детей зовут, а у вас я не запомнила; значит, урок плохой. Так что если вы будете давать такие уроки, ищите себе другое место». Рядом стояла завуч и подпевала. Я была в ужасе. Проработав к тому времени около десяти лет, я уже кое в чем разбиралась, но все же считала, что директор, раз занимает эту должность, понимает больше. Но тут впервые подумала, что могу ошибаться. Таких критериев оценки урока я еще никогда не встречала. И впервые в жизни усомнилась в правоте человека, который выше по статусу.
Я хорошо обдумала и решила рискнуть: как в омут головой. Собрала все возможные документы, конспекты уроков и поехала с жалобой в Департамент образования Москвы. В те времена для подтверждения категории, например, вызывали комиссию из департамента, все боялись этих визитов как огня, радовались, если комиссия по какой-то причине не приезжала. Но я сознательно пошла на то, чтобы пригласить комиссию на свой урок. Я решила: если бред, который я услышала от директора, вдруг (!) подтвердят и в департаменте, я уйду из профессии.
Тогда представительства департамента были в каждом округе Москвы. Думаю, сейчас в подобной проблеме никто не стал бы разбираться, меня просто растоптали бы, подпев нерадивой директрисе. Но тогда справедливости можно было добиться. Наверное, представителей департамента еще и поразила моя дерзость: думаю, ни один учитель по своей инициативе их еще в школу не вызывал.