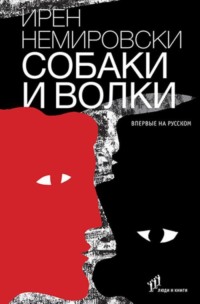Czytaj książkę: «Собаки и волки»
* * *
© Л. Шендерова-Фок, перевод, 2025
© А. Веселов, обложка, 2025
Об авторе
Французская писательница Ирен Немировски родилась в 1903 году в Киеве, в состоятельной еврейской семье. Ее отец, Лев (Арье) Немировский, был членом правления нескольких коммерческих предприятий, президентом банка и купцом первой гильдии, что давало ему и его семье право жить вне черты оседлости. До революции 1917 года семья жила в Санкт-Петербурге. С трехлетнего возраста Ирен воспитывала гувернантка-француженка, поэтому французский язык стал для нее вторым родным, тем более, что с матерью, Фанни Маргулис, у Ирен были весьма сложные отношения – мать заботилась в основном о том, как сохранить свою молодость и красоту, и не только не испытывала к дочери никаких материнских чувств, но открыто ненавидела ее. Дочь платила ей тем же, что найдет отражение во многих ее произведениях. Однако Ирен получила блестящее домашнее образование, кроме русского и французского бегло говорила на нескольких языках – польском, английском, баскском, финском, понимала идиш.
После революции, спасаясь от большевиков, семья переехала в Финляндию, затем в Париж. Льву Немировскому удалось сохранить свое состояние, он встал во главе одного из филиалов своего банка и семья продолжала вести роскошный образ жизни. Ирен училась в Сорбонне, затем вышла замуж за эмигранта Михаила Эпштейна, в этом браке родились две дочери. В 1929 году был опубликован ее первый роман «Давид Гольдер», который сразу принес ей широкую известность. Постепенно она становится популярной писательницей, ее романы высоко оценивают современники, а «Давид Гольдер» почти сразу экранизируют. Однако получить французское гражданство ни ей, ни ее семье так и не удастся. Во Франции, как и повсюду в Европе, начинают поднимать голову антисемитские настроения, и в 1939 году Ирен Немировски решает перейти в католичество. В 1940 году после немецкой оккупации Франции она с семьей переезжает жить в деревню, надеясь найти там убежище. Но к власти приходит коллаборационистское правительство Виши, и в 1941 году в стране принимают пакет антисемитских законов. Положение семьи становится тяжелым – муж Ирен Михаил Эпштейн лишается работы, сама она больше не может публиковаться. Свидетельство о крещении ничем ей не помогло. Она и ее семья были обязаны носить желтую звезду, в июле 1942 года ее арестовали «как лицо еврейского происхождения без гражданства» и депортировали в Освенцим, откуда она уже не вернулась. Согласно лагерным документам, причиной смерти был указан грипп, но в те годы этот диагноз ставился умирающим от тифа. В газовой камере Освенцима погиб и ее муж, но дочери, благодаря спасшей их няне, уцелели, сохранили бумаги матери и, спустя много лет, в 2004 году был опубликован ее самый известный роман «Французская сюита», посвященный оккупации Франции.
Предлагаемый читателю роман «Собаки и волки» – последняя работа Ирен Немировски, опубликованная при ее жизни. Роман в некотором смысле автобиографичен. Двое главных героев, отпрыски двух эмигрантских семей, мятежная художница Ада Зиннер и ее возлюбленный, богатый банкир Гарри, связанные давними воспоминаниями – две ипостаси, в которых угадывается личность автора. Жизнь в черте оседлости, эмиграция и попытки ассимиляции, перипетии, через которые приходится пройти тем, кто решил изменить свою жизнь, поиск корней, осознание своего еврейства, способность и неспособность интегрироваться – вот лишь немногие из тех вопросов, которые поднимает роман.
Любовь Шендерова-Фок
1
Украинский город, родина семьи Зиннер, с точки зрения живших там евреев состоял из трех совершенно обособленных частей, совсем как на старинных полотнах: внизу, в темноте и языках адского пламени – грешники; в середине – освещенные бледным и спокойным светом обычные смертные, а наверху – прибежище избранных.
В нижнем городе, у реки, жила всякая шантрапа, евреи, не внушающие доверия: мелкие ремесленники, бродяги, арендаторы дрянных лавчонок – там дети копошились в грязи, говорили только на идише, носили драные рубахи, а над ломкими шеями и длинными черными завитыми пейсами возвышались огромные картузы. Очень далеко от них, высоко на холмах, усаженных липами, среди домов важных русских чиновников и польских помещиков стояло несколько красивых особняков, принадлежавших богатым евреям. Этот район они выбрали не только из-за чистого воздуха, но и прежде всего потому, что в России в начале века, в царствование Николая II, евреям было разрешено жить совсем не везде – только в определенных городах, районах или улицах, а иногда даже только на одной стороне улицы, в то время как селиться на другой им было запрещено. Однако подобные ограничения существовали только для бедняков. Еще никогда никто не слыхал, чтобы самый строгий из этих запретов нельзя было обойти за взятку. Вести себя заносчиво для евреев было делом чести, не из напрасного тщеславия или духа противоречия. Было совершенно необходимо дать понять своим соплеменникам, что ты лучше них, что заработал больше денег, что выгоднее продал свою свеклу или пшеницу. Это был удобный способ обнародовать размеры своего состояния. Такой-то и такой-то родился в гетто. В двадцать лет у него были гроши, он поднялся по социальной лестнице – переехал подальше от реки, поближе к рынку, на границу нижнего города. Женившись, стал жить на четной (запрещенной) стороне улицы, прошло время, и он поднялся еще выше – поселился в квартале, где по закону ни один еврей не имел права ни родиться, ни жить, ни умереть. Его уважали, он одновременно и был предметом зависти, и внушал надежду: вознестись на эти высоты возможно. С такими примерами перед глазами голод, холод и грязь были нипочем, и многие взгляды из нижнего города были устремлены на желанные холмы богачей.
Посередине между этими двумя районами располагался средний город, зона умеренности, тусклое место, где не рождались ни бедность, ни богатство, и где без особых стычек мирно сосуществовали русские, евреи и поляки.
Однако же средний город тоже был разделен на несколько кланов, каждый из которых завидовал другим или, наоборот, их презирал. Верхнюю ступеньку занимали врачи, адвокаты, управляющие больших поместий, а презренную чернь составляли аптекари, портные, лавочники, и т. п.
Но существовала и еще одна социальная категория, служившая связующим звеном между разными районами, она зарабатывала свой хлеб тяжким трудом, бегая из дома в дом, из нижнего города в верхний. Отец Ады Израиль Зиннер был членом этого братства «маклеров», проще говоря – посредников. От имени своих клиентов они занимались куплей и продажей свеклы, сахара, пшеницы, сельскохозяйственных машин – то есть всего того, чем торговала Украина, но к списку товаров, в зависимости от потребностей клиента, они добавляли шелк и чай, рахат-лукум и уголь, икру с Волги и фрукты из Азии; они клянчили, умоляли, поносили соперников и их товар, сетовали, лжесвидетельствовали, использовали всю силу своего воображения и изощренное искусство вести полемику; их узнавали по торопливому говору и суетливой жестикуляции (хотя в те времена и в тех краях никто никуда не спешил), по их подобострастности и настойчивости, да и по многим другим качествам, присущим этой братии.
Ада, еще совсем маленькая, иногда ходила по делам вместе с отцом, маленьким худеньким человечком с грустными глазами, который любил ее и в возможности держать ее за руку находил поддержку и утешение. Ради нее он сбавлял шаг, заботливо наклонялся над ней, поправлял коричневую бархатную шапочку с ушками и большую серую шерстяную шаль, которую она носила поверх старого пальто, прикрывал ей лицо рукой, когда сильно задувало: на перекрестках улиц резкий холодный северный ветер высматривал прохожих и бросался на них с какой-то веселой свирепостью.
– Как ты? Тебе не холодно? – спрашивал отец.
Он говорил ей дышать через шаль, чтобы ледяной воздух согревался, проходя сквозь шерсть, но это было практически невозможно: она начинала задыхаться, а стоило ему отвернуться, как она ногтями проделывала дырку в ткани и пыталась поймать снежинки кончиком языка. Ада была так закутана, что представляла собой маленький угловатый сверток на худых ножках, а между темной шапкой и серой шалью видно было только пугливый и внимательный, как у дикого зверька, взгляд больших черных глаз, казавшихся еще больше из-за густых темных ресниц.
Ей только что исполнилось пять лет, и она начала замечать то, что ее окружало; до сих пор мир, в котором она жила, был ей настолько несоразмерен, что она едва осознавала, что он вообще существует: он ее подавлял. Ее это волновало не сильно больше, чем притаившееся в траве насекомое. Но она выросла и начала знакомиться с настоящей жизнью: оказалось, что огромные великаны, неподвижно стоящие у домов, с ледяными сталактитами, свисающими с усов, выдыхающие алкогольные пары (любопытно было смотреть, как они сначала превращаются в струйки пара, а затем в ледяные иголки), эти гиганты – просто обычные люди, дворники и сторожа. Еще она познакомилась с другими существами – за ними волочились блестящие сабли и казалось, что их головы теряются где-то в облаках. Они назывались офицерами. Они были страшные, потому что отец, завидев их, старался стать еще меньше и вжимался в стену, но, несмотря ни на что, она верила, что они принадлежат к роду человеческому. Она уже осмелела настолько, что у нее получалось на них посмотреть – кое у кого из них серые широкие пальто были на красной шелковой подкладке (блестящую ткань, знак генеральского достоинства, было видно, когда они садились в сани), у некоторых были длинные белые бороды, совсем как у ее дедушки.
На площади она ненадолго останавливалась, чтобы полюбоваться на лошадей. Зимой их покрывали красными или зелеными сетками с помпонами, чтобы снег с копыт не попадал на брюхо. Здесь был центр города – прекрасные гостиницы, магазины, рестораны, огни и шум; но очень скоро они с отцом опять оказывались на маленьких плохо замощенных извилистых улочках, сбегающих вниз к реке в тусклом свете фонарей, и наконец останавливались перед домом потенциального клиента.
В накуренной полутемной комнате с низким потолком пять или шесть человек, они орут как резаные. Лица у них красные, на лбу набухли вены. Они воздевают руки к небу или бьют себя в грудь. Они говорят:
– Пусть Господь покарает меня прямо здесь, если я лгу!
Иногда они указывают на Аду:
– Над головой этого невинного ребенка перед Богом клянусь, что шелк был нетронут, когда я его покупал!.. Виноват ли я, обремененный семьей бедный еврей, что его часть по дороге погрызли мыши?
Они сердятся; уходят; хлопают дверями; останавливаются на пороге; возвращаются; покупатели с притворным безразличием пьют чай из больших стаканов с серебряными подстаканниками; посредники – когда пахло выгодной сделкой, их всегда оказывалось человек пять-шесть одновременно – обвиняют друг друга в жульничестве, воровстве, в самых ужасных преступлениях; казалось, они готовы прямо сейчас растерзать друг друга. Затем все успокаивается: сделка состоялась.
Отец берет Аду за руку, и они уходят. На улице он испускает тяжелый глубокий вздох, заканчивающийся качанием головы и глухими сетованиями: «О Господи, Господи Боже ты мой!» – и в том случае, когда «гешефт» не состоялся, и все усилия и целые недели переговоров и хлопот оказались напрасными; и даже когда сделка состоялась и он одержал верх над своими соперниками. Вздыхать и сетовать надо было в любом случае: Бог был здесь, он караулил, застыв, как паук в центре своей паутины, готовый наказать любого, если он будет так тщеславно гордиться своим счастьем. Бог всегда был здесь, ревнивый и завистливый; его надо было бояться, и, воздавая ему благодарность за доброту, ни в коем случае не давать ему понять, что он исполнил все желания своего создания, чтобы он его не оставил своими заботами и продолжал защищать.
Потом они шли в другой дом, потом в следующий. Иногда поднимались до самых особняков богачей. Ада ждала в вестибюле, настолько потрясенная великолепием мебели, количеством домашней прислуги и толщиной ковров, что не смела даже пошевелиться. Она сидела на краешке стула, затаив дыхание и широко раскрыв глаза; иногда ей приходилось щипать себя за щеки, чтобы не уснуть. Наконец они возвращались домой на трамвае, молча и держась за руки.
2
– Симон Аркадьевич, – сказал отец Ады. – Я как тот еврей, что пришел к цадику жаловаться на свою бедность и просить совета…
Израиль Зиннер изобразил разговор бедняка с цадиком:
«Ребе, я очень беден, у меня десять детей, которых надо кормить, сварливая жена, теща в добром здравии, бодрая и с очень хорошим аппетитом… Что мне делать? Помогите!» Ребе отвечает: «Заведи дюжину коз». – «Но что мне с ними делать? У нас так тесно, что мы как сельди в бочке; спим все вместе на дрянном соломенном тюфяке. Мы и так задыхаемся. Куда я их дену?» – «Слушай меня, маловер. Возьми коз к себе в дом и будешь благодарить Господа». Через год бедняк возвращается. «Ну что, ты стал счастливее?» – «Счастлив? Да моя жизнь – просто ад! Если мне придется держать и дальше этих проклятых коз, я руки на себя наложу!» – «Ну вот, а теперь убери коз, и ты познаешь счастье, о котором и не подозревал раньше. Без козьей вони и рогов твоя бедная лачуга тебе дворцом покажется. Все на земле познается в сравнении». Симон Аркадьевич, я и сам роптал на провидение. Мне нужно было содержать тестя и кормить дочь. Я много работал и плохо их кормил, но это же естественно – человеку надо пролить много пота, чтобы заработать немного хлеба. Я зря жаловался. Теперь я узнал, что мой брат умер, и моя невестка, его вдова, переезжает жить ко мне с двумя детьми. Еще три рта, которые надо кормить. Трудись, трудись, несчастный человек, бедный еврей: ты только под землей и отдохнешь…
Вот так Ада узнала о приезде кузенов, да и вообще об их существовании. Она силилась представить себе их лица. Эта игра надолго захватила ее, она не видела и не слышала ничего, что происходило вокруг, а потом словно очнулась ото сна. Она услышала, как ее отец сказал Симону Аркадьевичу:
– Мне говорили про груз изюма из Смирны. Купите?
– Оставьте меня в покое! Что вы хотите, чтобы я сделал с этим вашим изюмом?
– Не сердитесь, не сердитесь… Я могу добыть вам партию ситца из Нижнего, по хорошей цене.
– Идите вы к черту вместе с вашим ситцем!
– А что вы скажете насчет парижских дамских шляпок, они немножко помялись из-за аварии на железной дороге? Они сейчас на складе на границе, их можно купить за полцены.
– Хм… Сколько?
Когда они вышли на улицу, Ада спросила:
– Они будут жить у нас, тетя и кузены?
– Да.
Они шли вдоль широкого пустынного бульвара. Новые улицы, согласно грандиозному плану, пронзали город насквозь; они были такими широкими, что между двойными рядами лип мог совершать маневры целый эскадрон, но сейчас по ним гулял только ветер, раздувая пыль с резким и веселым свистом. Это было летним вечером. На чистом прозрачном небе пылал красный отблеск заката.
– В доме будет женщина, – наконец сказал отец, грустно посмотрев на Аду, – она будет о тебе заботиться…
– Я не хочу, чтобы обо мне заботились.
Он покачал головой:
– Чтобы прислуга больше не воровала, и чтобы ты больше не таскалась со мной целыми днями…
– Тебе не нравится? – спросила Ада дрожащим голосом.
Он ласково погладил ее по волосам:
– Мне нравится, но я должен ходить медленно, чтобы у тебя ножки не устали, а мы, комиссионеры, зарабатываем на хлеб, бегая по городу. Чем быстрее мы бегаем, тем быстрее доберемся до богатых. Другие зарабатывают больше меня, потому что бегают быстрее: они оставляют детей дома, в тепле.
Он подумал: «С женщиной…».
Но говорить о мертвых не следовало из суеверного страха навлечь на себя болезни и несчастья (демоны всегда были начеку) и чтобы не огорчить ребенка. У детей будет достаточно времени, чтобы понять, как трудна жизнь, как она неопределенна, как всегда готова отнять самое дорогое…
Да и в конце концов, что прошло, то прошло. Если думать об этом, можно растратить силы, которые нужны, чтобы жить. Поэтому Ада росла, едва помня имя своей умершей матери, никогда не бывала на ее могиле и ни разу не слышала, чтобы о ней и о ее недолгой жизни сказали хоть слово. Дома хранилась выцветшая фотография, на которой была запечатлена молодая девушка в школьной форме, с длинными распущенными черными волосами, спадающими на плечи. Полускрытый тенью от шторы портрет, казалось, смотрел на живых с выражением упрека: «Я была такой же, как вы, – говорили ее глаза. – Почему вы меня боитесь?» Но какой бы нежной, какой бы робкой она ни была, она пугала, она жила в царстве, где нет ни еды, ни сна, ни страха, ни горьких споров – словом, ничего из того, что уготовано человеку на земле.
Отец Ады побаивался приезда невестки с детьми, но дом был слишком запущен, там было слишком грязно, и нужна была женщина, чтобы заботиться о малышке. Что же касалось его самого, то он смирился с тем, что навсегда останется необразованным бедняком, хотя он мечтал совсем о другом, когда женился… Но ни он сам, ни его собственные желания не имели больше никакого значения. Живут, работают, надеются – ради детей. Не есть ли они наша плоть и кровь? Пусть Аде достанется больше земных благ, и он будет доволен. Он представлял себе ее хорошо одетой, в нарядном вышитом платье, с бантом в волосах, как у детей богачей. Откуда ему было знать, как одевать ребенка? Ее одежда, которую он выбирал только из-за качества ткани, была для нее слишком широкой и длинной, из-за чего девочка выглядела болезненно и старомодно, да и цвета не всегда хорошо сочетались… Он взглянул на ее платье из шотландки и черный бархатный жакетик, сшитый кухаркой Настасьей. Ему не нравилась и прическа дочери, густая челка до самых бровей и черные кудри, неровно подстриженные на шее. Бедная тоненькая шейка… Он взял ее пальцами и легонько сжал. Сердце затрепетало от нежности. Но так как он был евреем, ему в мечтах недостаточно было видеть, что его дочь сыта, ухожена, а позже – удачно выдана замуж. Ему хотелось обнаружить в ней какой-нибудь талант, какой-то необыкновенный дар. Не станет ли она когда-нибудь музыкантом или великой актрисой? Его желания простирались недалеко, ведь у него была только дочь. Ах, что за напрасные мечты, какое горькое разочарование!.. Сын!.. Мальчик!.. Господь не захотел! Но он утешался мыслью о своих друзьях, чьи сыновья совсем не радовали их в старости, а, напротив, были бедой, позором и видимым наказанием Всевышнего: одни пошли в политику, их посадили в тюрьму или отправили в ссылку по приказу правительства; другие скитались где-то на чужбине. Не то, чтобы он не хотел когда-нибудь послать Аду учиться в Швейцарию, в Германию или во Францию… Но надо было работать, надо было беспрестанно копить. Он сверился с засаленным блокнотом, где были записаны товары, и ускорил шаг.
3
Вечером в тесной столовой все, с трудом уместившись на кожаном диване, пили чай. Крепкий, горячий, один стакан за другим, с ломтиком лимона и сахаром вприкуску, до тех пор, пока Ада не засыпала прямо тут же, сидя на стуле. Дверь в кухню была все время открыта, оттуда тянуло дымом от плиты. Там копошилась Настасья, гремела посудой, ворошила дрова в печке, время от времени то напевая, то полупьяно ворча. Она была грузная и оплывшая, босая, голова повязана косынкой. От нее сильно пахло спиртным, зубы у нее все время болели и щека была обмотана старым полинявшим платком. Несмотря на все это, она слыла местной Мессалиной – редки были те ночи, когда перед грязной и драной занавеской, закрывавшей кровать, не стояла пара солдатских сапог – казарма была совсем рядом.
Дед Ады со стороны матери, красивый старик с длинной белой бородой, тонким носом и покатым высоким лбом тоже жил у своего зятя. Жизнь его была странной: еще совсем молодым он сбежал из гетто и путешествовал по России и по Европе. Им двигала не жажда богатства, а страстное желание учиться. Он вернулся таким же бедным, как и уехал, но с сундуком, полным книг. Его отец умер, ему надо было содержать мать и выдать замуж сестер. Он никогда никому не рассказывал ни о своих странствиях, ни о том, что ему пришлось пережить, ни о своих мечтах. Он принял дело отца – у того была ювелирная лавка; он продавал недорогое столовое серебро и украшенные уральскими самоцветами кольца и брошки, которые покупали новобрачные из нижнего города. Но если весь день он проводил за прилавком, то как только наставал вечер, он вешал на дверь замок на цепи и открывал сундук, доверху забитый книгами, доставал пачку бумаги и старое скрипучее перо и писал книгу, конца которой Ада так и не дождется и о которой она знала только совершенно непонятное для нее название: «Личность и оправдание Шейлока».
Лавка располагалась на первом этаже дома, где жили Зиннеры. После вечернего чая дедушка с рукописью подмышкой, с пером и чернильницей в руке спускался в магазин. На столе чадила керосиновая лампа, набитая дровами раскаленная докрасна печка гудела, испуская волны жара. Отец Ады уходил в город, а сама она, оставив Настасью в объятиях очередного солдата и потирая сонные глаза, спускалась вниз вслед за дедом. Она молча проскальзывала на стул, стоявший у стены. Дедушка читал или писал. Ледяной сквозняк с улицы задувал сквозь щель между дверью и косяком и трепал конец его длинной бороды. Эти тихие задумчивые зимние вечера были самыми приятными моментами в жизни Ады. И вот теперь, когда приедут тетя Раиса и ее дети, такого больше не будет.
Тетя Раиса была худой, сухопарой, языкатой и энергичной, с острым носом и подбородком; взгляд ее блестящих глаз был колючим, как игла. Она очень гордилась своей тонкой талией, которую по тогдашней моде потуже затягивала в высокий корсет, а сверху еще надевала пояс с пряжкой. Она была рыжая, контраст между пламенеющими волосами и невыразительным поблекшим лицом был странным и неприятным. Прическа у нее была в стиле Иветт Гильбер – тысячи завитков на лбу и висках; она держалась очень прямо, немного втянув худую грудь, чтобы казаться еще прямее. Тонкие губы были плотно сжаты; от пронизывающего, пугающего, всепроникающего взгляда из-под полуопущенных век ничто не могло ускользнуть. Когда она бывала в хорошем настроении, у нее бывала своеобразная манера слегка надувать шею и немного помахивать руками, что делало ее похожей на длинное и тонкое насекомое, шевелящее крыльями. Худобой, живостью и бодрой и деятельной злобой она была похожа на осу.
В молодости тетя Раиса разбила не одно сердце; по крайней мере, она намекала на это, легонько вздыхая. От нее веяло высокомерием – когда-то она вышла замуж за владельца типографии, но овдовев, почувствовала понижение статуса в обществе: знававшая многих интеллектуалов – говорила тетка с самодовольной и надменной улыбочкой – теперь она просто бедная родственница! Ее приняли из милости! Теперь ей приходится жить над убогой лавчонкой в еврейском квартале, какое падение!
– И все же, Изя, – говорила она деверю, – разве ты не обязан, ради имени, которое ты носишь, растить детей не в таком грязном и позорном месте? Ты, кажется, забыл об этом, но пока я жива, я буду помнить, что фамилия моего бедного мужа, а значит и твоя, – Зиннер.
Ада слушала, сидя на своем обычном месте, на старом диване между кузенами, Лилей и Беном. Скорее всего, эта сцена происходила сразу после приезда тети Раисы. Это было одно из первых воспоминаний Ады. Пили чай вечером. Дедушка, отец и тетя Раиса сидели за столом на плетеных стульях с черными спинками – Ада не понимала, почему они назывались венскими, хотя были куплены у старьевщика на рыночной площади. Дети расположились на обитом коричневой кожей диване с прямой высокой спинкой. Дом всегда казался Аде мрачным и негостеприимным, и так оно и было. Это был старый дом; четыре комнаты соединяли узкие, плохо освещенные коридоры, повсюду были глубокие шкафы; все комнаты были на разных уровнях, так что, чтобы пройти из одной комнаты в другую, надо было подниматься и спускаться по шатким ступенькам, проходить через какие-то клетушки без определенного назначения с ледяным кирпичным полом, куда по вечерам проникал бледный дрожащий свет уличного фонаря. Дом часто пугал Аду, но диван был ее убежищем: на нем она играла, ждала отца, засыпала по вечерам, когда вокруг нее разговаривали, забыв отправить ее в кровать. Она прятала за подушками старые картинки, сломанные игрушки – те, которыми больше всего дорожила, и цветные карандаши. Диван был старый, потертая кожа висела клочьями, пружины скрипели. Но она его любила. Теперь на нем будет спать Бен, и ей казалось, что ее обокрали, у нее отобрали то, что принадлежало ей по праву.
Она держала в обеих руках полную чашку с чаем и дула на поверхность так усердно, что ее маленькое личико, казалось, почти исчезло – было видно только густую темную челку.
Тетя посмотрела на нее и сказала, стараясь быть поласковее:
– Иди сюда, Адочка. Я подвяжу тебе волосы красивой ленточкой, дорогая.
Ада покорно встала, но места между ногами сидящих и столом не было, поэтому она медленно обошла вокруг. Когда она подошла к тетке, та уже о ней забыла. Ада проскользнула на колени к отцу и стала слушать взрослый разговор, пытаясь просунуть палец в колечки дыма от отцовской сигареты; они были голубоватые, невесомые, и исчезали, как только она протягивала к ним руку.
– Мы же Зиннеры, – спесиво заявила тетя Раиса. – А кто в этом городе самый богатый? Старый Соломон Зиннер. А в Европе?
Она повернулась к дедушке Ады:
– Иезекииль Львович, вы же путешествовали, вы видели фамильные дворцы в Лондоне и в Вене?
Отец Ады сконфуженно усмехнулся:
– Мы не такие уж близкие родственники.
– Да неужели? Не такие уж близкие? Почему, ну я тебя умоляю? Не была ли твоя собственная бабушка двоюродной сестрой старого Зиннера? Они оба бегали по грязи босиком. А потом она вышла замуж за твоего деда, который торговал одеждой и подержанной мебелью в Бердичеве.
– Это называется старьевщик, – встрял вдруг Бен.
– Помолчи, – строго сказала ему мать. – Ты не знаешь, о чем говоришь. Старьевщики таскают на спине поношенное тряпье и ходят по дворам из дома в дом, предлагая его купить. А у твоего деда был магазин и приказчик, даже два в удачные годы. В это время Соломон Зиннер работал и разбогател, а его сыновья процветали и разбогатели еще больше – настолько, что их состояние теперь сравнимо с тем, что есть у Ротшильдов.
Но тут по недоверчивому выражению их лиц она поняла, что зашла слишком далеко.
– Ну да, у них на несколько миллионов меньше, чем у Ротшильдов, на два или на три, не знаю, но они очень и очень богаты, а мы их родственники. Не следует забывать об этом. Если бы ты, мой бедный Изя, был более предприимчивым, и если ты не был похож на побитую собаку – это выражение было написано у тебя на лице с самого твоего рождения, как говорил твой брат, – ты мог бы стать кем-то в этом городе. Деньги есть деньги, но родня есть родня.
– Деньги… – мягко сказал отец.
Он вздохнул, слабо улыбнулся. Все замолчали. Он налил немного чая на блюдечко и выпил, покачав головой. Деньги нужны всем, но еврею они необходимы, как вода, как воздух. Как жить без денег? Как платить взятки? Как устроить детей в школу, если процентная норма превышена? Как получить разрешение на поездку туда или сюда, на продажу того или этого? Как уклониться от военной службы? Ах, боже мой, как жить без денег?
Дедушка слегка шевельнул губами и вспомнил наконец ускользавшую от него цитату из псалма, нужную ему для седьмого параграфа двенадцатой главы его книги. Семейная болтовня для него как будто не существовала. Внешний мир имел значение только для грубых натур, не способных к абстракции, бескорыстным размышлениям и чистой игре разума.
Тетя Раиса с плохо скрываемым отвращением оглядела бедную и неубранную комнату, полную дыма, который сквозняком тянуло с кухни. Темно-зеленые обои с серебряными пальмами были грязными и ободранными, единственное кресло – просиженным, а плюшевая обивка протерлась до дыр. С берега реки было слышно нечеловеческие крики пьяного, которого избивали полицейские. У нее больше не было сил, чтобы восстановить свое состояние. Когда-то давно она, однако, сделала все, что могла. В молодости она не хотела довольствоваться услугами свахи: она сама искала себе мужа среди городских студентов, серьезных и умных, от которых можно было ожидать, что они добьются успеха в жизни; она не сдавалась, но сколько раз приходилось начинать охоту заново… До тех пор, пока один из них не попался в ловушку, и сколько же мучений ей это стоило! Сколько раз она терпеливо перешивала шелковые нижние юбки, сколько раз в ночной тишине, закрывшись в спальне, переделывала шляпки! Как долги были прогулки по улицам родного города, где в вечерних сумерках фланировали молодые люди и девушки на выданье! Столько взглядов искоса, столько безмолвно проглоченных обид, столько уловок и упорных размышлений, как увести избранника от более богатых и красивых подруг! Какая долгая, жестокая борьба! Но что она могла сделать теперь, бедная беззащитная вдова? Она состарилась, а муж, которого она после стольких интриг и борьбы наконец завоевала, – хороший муж, владелец лучшей типографии города, внезапно умер и оставил ей двух детей – прелестную Лилю и шалопая Бена. Теперь ее единственной надеждой была Лиля.
Одетая в школьную форму Лиля с нежным и серьезным лицом и подхваченными на затылке черным атласным бантом темными волосами, и Бен с длинными черными кудрями и тонкой прозрачной шеей сидели рядом на диване, бросая вокруг боязливые и любопытные взгляды. Бен выглядел скорее насмешливым, нежели напуганным. Ему было шесть лет, и для своего возраста он был слишком маленьким, но казался старше из-за саркастического, горького и проницательного выражения лица, если такие чувства в этом возрасте вообще возможны. Временами он напоминал хилую и болезненную хитрую обезьянку. Лицо у него все время подергивалось, он говорил мало, но взгляды и улыбки были вполне красноречивыми, руки все время двигались, губы шевелились, он по очереди изображал то мать, то дядю, то деда – не столько в насмешку, сколько повинуясь бессознательному желанию им подражать. Его интересовало все: он поднял крышку сахарницы, чтобы посмотреть на муху, попавшую внутрь, моргнул, скорчил гримасу, наклонился, чтобы лучше уловить движение ее маленьких лапок, поймал ее и опустил в чашку Ады, потом схватил дядины часы, проворными пальцами открыл их и начал двигать стрелки. Время от времени он сползал со своего места и подходил к окну, прижимался к стеклу бледным точеным личиком, но стекла замерзли; он живо вертел головой то направо, то налево; его дыхание протаивало влажный и темный круг в морозных узорах; так он мог разглядеть улицу, где не было ни души, а во всех магазинах было темно; потом возвращался к Лиле.