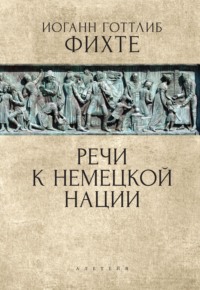Czytaj książkę: «Речи к немецкой нации»
Речи к немецкой нации
(1808)1
Предисловие
Нижеследующие речи были произнесены в Берлине зимой 1807–1808 в виде ряда лекций, и как продолжение прочитанных мною там же зимой 1804– 1805 «Основных черт современной эпохи» (напечатанных в том же книгоиздательстве в 1806)2. То, что следовало мне сказать публике в этих речах и этими речами, высказано в них самих, и постольку к ним не нужно никакого предисловия. Между тем за истекшее время (вследствие того, в каком виде эти речи были напечатаны) возникло пустое пространство, требующее заполнения. Я наполню его тем, что отчасти уже прошло цензуру и было напечатано в другом месте, о чем напоминают нам слова, бывшие причиной возникновения упомянутого пробела, и что, в общем, могло бы найти здесь применение – укажу в особенности на заключение двенадцатой речи, касающееся того же самого предмета.
Берлин, в апреле 1808 года.Фихте
Из сочинения «О Маккиавелли как писателе, и фрагменты из его работ» 3
I
Из заключения этого сочинения
Прежде всего нам приходят на мысль два рода людей, от нападок которых мы желали бы защититься, если бы только могли.
Прежде всего – такие люди, которые, коль скоро сами они никогда не выбираются мыслью дальше последнего номера газеты, полагают, что и никто другой не в состоянии мыслить шире; что, стало быть, все, о чем говорят или что пишут, имеет некоторое отношение к этой газете, и призвано служить для нее комментарием. Этих людей я прошу принять во внимание, что никто не может сказать: «смотри, он разумеет здесь такого-то и такого-то», – если прежде сам не составит в самом себе суждения, что «такой-то» и «такой-то» человек действительно и в самом деле таков, что его здесь могли иметь в виду; что поэтому писателя, рассуждающего в общем и забывающего всякое частное время в изложении правила, объемлющего все времена, никто не может обвинить в сатире на личности, если прежде сам, как изначальный и самобытный творец, не составил такую сатиру, и поэтому, обвиняя, самым глупейшим образом выдает свои собственные сокровеннейшие мысли. Затем есть еще такие люди, которые не стыдятся никакой вещи, но стыдятся, и притом безмерно, слов об этих вещах. Ты можешь топтать их ногами у всего света на виду – им от того ни стыда, ни вреда не будет; но вот если пойдут разговоры о том, что кого-то топтали ногами, это уже будет нестерпимое для них оскорбление, и тут только начинаются для них неприятности: Ведь, кроме того, ни один разумный и благожелательно настроенный человек и не начнет подобного разговора из злорадства, а разве только для изыскания средств к тому, чтобы этого более не случилось. Так же точно обстоит у них и с будущими неприятностями: Они хотят, чтобы им не мешали предаваться их сладким мечтаниям, и потому плотно закрывают глаза на будущее. Поскольку же другим, у которых глаза открыты, это не мешает видеть то, что приближается, и они могут впасть в искушение сказать, и назвать по имени, что они видят, – самым надежным средством от этой опасности этим людям представляется: помешать зрячим это сказать и назвать. Как будто, в противоположность действительному порядку вещей, не-сказавший станет оттого невидящим, а не-видение предмета означает его небытие. Так лунатик разгуливает по самому краю пропасти. Из милосердия к нему не зовите его – сейчас его состояние хранит его невредимым, но если он проснется, то упадет в пропасть. Пусть же и сновидения тех людей дают им привилегии, дарование и уверенность лунатиков: тогда у нас будет средство спасти их, не крикнув и не разбудив их. Говорят, что страус так же закрывает глаза при виде подходящего к нему охотника – и тоже полагает при этом, будто опасность, которая ему более не видна, вообще более не существует. И не будет ведь врагом страусу тот, кто крикнет ему: «Открой глаза, смотри – вон идет охотник, беги в ту сторону – и спасешься от него».
II
Бо́льшая свобода пера и печати в эпоху Маккиавелли
Быть может, кто-нибудь из наших читателей удивится, как могло случиться с Макиавелли все только что рассказанное нами. Ввиду этого и в связи с предшествующим разделом, вероятно, стоит труда, в начале 19-го столетия, из стран, которые хвалятся величайшей свободой мысли, бросить взгляд на ту свободу пера и печати, какая была в Италии и в папской резиденции, Риме, в начале 16-го столетия. Из тысяч примеров я приведу лишь один. «История Флоренции» написана Макиавелли по предложению папы Климента VI4, и посвящена ему же. В этой «Истории», уже в первой книге, мы находим следующие слова: «До этих пор мы ни разу не упоминали ни одного племянника или родственника какого-нибудь папы, отныне же история будет полна подобных упоминаний, пока нам не придется заговорить об их сыновьях. Таким образом, для будущих пап остается только одна возможность достичь здесь большего: а именно, как до сих пор они старались поставить этих своих сыновей во главе княжеств, оставить им же в наследство и папский престол».
На эту «Историю Флоренции», как и на книгу о «Государе» и на «Рассуждения»5, тот же Климент, honesto Antonii (так звали издателя) desiderio annuere volens6, объявляет привилегий (Privilegium), в котором всем христианам запрещается перепечатка этих сочинений, под страхом отлучения от Церкви, а для папских подданных кроме того конфискации экземпляров и штрафа в 25 дукатов.
Впрочем, это вполне объяснимо. Сами папы и церковные гранды рассматривали все свои труды лишь как иллюзию для самой подлой черни и, если возможно, также для ультрамонтанов, и они были достаточно либеральны, чтобы позволить всякому образованному итальянцу с утонченным вкусом думать, говорить и писать об этих предметах так же, как они и сами говорили о них в своем кругу. Образованного человека они не хотели обманывать, а чернь не читала книг. Так же точно легко объяснить, почему впоследствии понадобились иные меры. Реформаторы учили немецкий народ читать, они ссылались на таких писателей, которые писали на виду у пап; пример народного чтения стал заразителен для других стран, и отныне писатели превратились в страшную силу, которую поэтому надлежало содержать под более строгим надзором.
Эти времена тоже миновали, и теперь – особенно в протестантских государствах – известные отрасли писательства, как например, философское утверждение общих принципов всякого рода, подвергаются цензуре, конечно же, только потому, что это уж так издавна повелось. Поскольку же при этом оказывается, что тем, кто ничего не способен сказать, кроме того, что все и так уже знают назубок, всемерно позволяется употребить на то столько бумаги, сколько им угодно; а если действительно хотят сказать что-то новое, то цензор, будучи неспособен сразу же понять это и полагая, что в этом может заключаться некий яд, скрытый лишь от него одного, склонен бывает скорее запретить сочинение, чтобы уж наверняка не ошибиться: то, может быть, иного писателя в протестантских странах в начале 19-го столетия не стоит упрекать за то, что он желает для себя скромной и приемлемой доли той свободы печати, которую папы без колебаний признавали за авторами в начале 16-го столетия.
III
Из предисловия к оставшимся ненапечатанными беседам о любви к отечеству и ее противоположности 7
…В этих же пределах, каких требует справедливость и рассудительность, они, я полагаю, должны позволить нам сказать не стыдясь то, что сами они не стыдятся делать в действительной жизни; ибо ведь, без всякого сомнения, поступок, который бросается в глаза, даже если мы ничего о нем не скажем, чинит много больше неприятностей, чем все наши последующие речи об этом поступке. И хотя тем людям, которые по долгу своей службы исполняют надзор за публичным книгопечатанием, ничто не мешает лично самим принадлежать к одной из спорящих ныне партий в духовном мире, – но все же они могут защитить интересы этой своей партии лишь в том случае, если сами выступят однажды в роли писателей. Но как должностные лица они не имеют партии, и должны предоставить слово разуму (который и так уж много реже просит у них слова, чем неразумие) так же точно, как позволяют они всякий день неразумию тешить свою нужду сколько вздумается; однако им отнюдь не позволено запретить нам издавать вслух какой-нибудь звук потому, что для их ушей он звучит непривычно и парадоксально.
Написано в Берлине, в июле 1806 года
Первая речь
Предварительные напоминания и обозрение целого
Речи, которые я теперь начинаю, объявлены мною как продолжение лекций, читанных мною три года назад здесь, на этом самом месте, и изданных под заглавием: «Основные черты современной эпохи». В упомянутых лекциях я показал, что наше время находится в третьем основном разделе совокупного мирового времени, в каковом разделе мотивом всех живых движений и побуждений оказывается сугубо чувственная корысть; что это время вполне понимает и постигает себя самое также лишь под условием названного мотива как единственно возможного; и что благодаря этому ясному постижению своей сущности оно глубоко укоренено и прочно основано в этой своей живой сущности8.
У нас, более нежели в какую-нибудь эпоху с тех самых пор как существует мировая история, время идет вперед гигантскими шагами. За три года, прошедшие с тех пор, как я дал это истолкование текущего отрезка мирового времени, этот отрезок где-то совершенно истек и завершился. Где-то эгоизм, через полное свое развитие, уничтожил сам себя, утратив благодаря такому развитию свою самость и ее самостоятельность; и ему – коль скоро он по доброй воле не желал полагать себе никакой иной цели, кроме себя самого – внешняя сила навязала эту иную и чуждую цель. Кто однажды взялся толковать свое время, тот должен сопровождать своим истолкованием и его дальнейший ход, если оно получает этот дальнейший ход. И поэтому на меня ложится обязанность – перед той же самой публикой, пред которой я назвал нечто настоящим временем, признать его прошедшим, после того как оно перестало уже быть настоящим.
То, что утратило свою самостоятельность, утратило в то же время и способность вмешиваться в течение времени и свободно определять его содержание; для него, если оно задержится в этом состоянии, его время и само оно в этом своем времени совершается чуждой властью, которая повелевает его судьбой; отныне у него уже вовсе нет более своего собственного времени, но оно считает года по событиям и отрезкам истории чужих народностей и царств. Из этого состояния, в котором весь его прежний мир неподвластен его самодеятельному вмешательству и в этом мире ему остается только слава послушания, оно могло бы подняться единственно лишь при условии, что перед ним открылся бы некий новый мир, создав который, оно начало бы новый и свой собственный отрезок во времени, и развитие которого наполнило бы его совершенно. Однако, поскольку уж оно подчинено чуждой власти, этот новый мир должен быть таким, чтобы он остался незаметен для этой власти и никоим образом не возбуждал бы в ней ревности; и даже, чтобы собственная выгода побуждала эту власть не чинить никаких препятствий устроению этого нового мира. И если бы для поколения, утратившего свою прежнюю самость и свое прежнее время и прежний мир, существовал таковой мир, как средство порождения новой самости и нового времени, то для всестороннего истолкования даже и возможного времени надлежало бы указать на этот мир с таким именно свойствами.
И вот, что касается меня, я полагаю, что такой мир существует; и цель этих речей в том и заключается, чтобы доказать Вам существование и подлинного хозяина этого мира, представить Вашим глазам живой образ этого мира и указать средства для его созидания. А потому эти речи станут таким образом продолжением читанных мною некогда лекций о том времени, которое было тогда настоящим, ибо они раскроют перед Вами новую эпоху, которая может и должна непосредственно последовать за разрушением, чуждою властью, царства эгоизма.
Однако прежде, чем я приступлю к этому делу, я вынужден просить Вас предположить (так, чтобы это ни на минуту не ускользнуло от Вашего внимания) и согласиться со мною, там и постольку, где и поскольку это необходимо, в следующих пунктах:
1). Я говорю для немцев вообще, о немцах вообще, не признавая, но решительно отставляя в сторону и пренебрегая всеми теми разделяющими различиями, которые злосчастными событиями созданы были в течение веков в единой нации. Хотя Вы, почтенные слушатели, для моих плотских глаз оказываетесь первыми и непосредственными представителями, в которых воплощены для меня любезные мне национальные черты немцев, и зримым фокусом, в котором возгорается пламя моей речи; но дух мой собирает вокруг себя образованную часть всей немецкой нации, из всех тех земель, по которым она рассеяна, учитывает и разумеет положение и обстоятельства, общие для всех нас, и желает, чтобы частица той живой силы, с которой охватят Вас, быть может, эти речи, осталась и в немом отпечатке, который только и попадет на глаза здесь отсутствующим, и дышала в нем, и воспламеняла повсюду души немцев к решимости и к действию. Я сказал: «только о немцах и для немцев вообще». В свое время мы покажем, что любое другое обозначение единства или национальная связь либо не имела в себе никогда истины и значения, либо же, если бы она и имела в себе истину, эти объединяющие точки уничтожены и отняты у нас нашим нынешним положением – и им никогда не дано возвратиться; и что только общая основная черта нашей немецкости позволит нам предотвратить гибель нашей нации в слиянии ее с заграницей, и что лишь в ней мы сможем вновь обрести самость, покоящуюся лишь на себе самой и решительно исключающую всякую зависимость. И когда мы постигнем это последнее обстоятельство, для нас совершенно исчезнет и мнимое противоречие этого утверждения другим обязанностям и почитаемым священными задачам – противоречие, которое теперь, может быть, пугает некоторых из вас.
И поэтому, раз я говорю только о немцах вообще, кое-что из того, что не относится непосредственно к собравшимся здесь людям, я выскажу как то, что верно все-таки и для нас, и так же точно другое, справедливое прежде всего только для нас, я выскажу как то, что верно для всех немцев. В духе, излиянием которого являются эти речи, я вижу прочно сросшееся единство, где ни один член не считает судьбу какого-нибудь другого члена чуждой для себя, единство, которое должно и обязано возникнуть, если нам не суждено до конца погибнуть, – вижу это единство уже возникшим, законченным и предстоящим нашему взору как действительность.
2). Я предполагаю не таких немецких слушателей, которые предаются всецело всем существом своим чувству боли от пережитой утраты, и довольны собою в этой своей боли и пробавляются своей безутешностью, и думают примириться в этом чувстве с обращенным к ним призывом к действию; но таких слушателей, которые уже возвысились или, по крайней мере, способны возвыситься даже через эту справедливую боль до ясной сознательности и рассуждения. Эта боль мне знакома, я чувствовал ее подобно всякому, я чту ее; тупость, что бывает довольна, если находит себе пищу и питье и не испытывает физической боли, и для которой честь, свобода, самостоятельность суть имена без смысла, неспособна ощущать ее. Но и эта боль является в нас единственно для того, чтобы побуждать нас к размышлению, решимости и действию; не достигая этой своей конечной цели, она лишает нас способности осмысливать жизнь и всех тех сил, что еще остаются у нас, и тем усугубляет наши бедствия; ибо, кроме того, как свидетельство нашей косности и трусости, она служит наглядным доказательством, что наши бедствия достались нам по заслугам. Но я отнюдь не собираюсь возвысить Вас над этой болью, обнадежив помощью, которая придет к нам извне, и сославшись на всякого рода возможные события и перемены, которые, положим, могли бы произойти с течением времени: Ибо, даже если бы этот образ мысли, который предпочитает витать в непрочном мире возможностей, но не опираться на необходимость, и который хочет быть обязан своим спасением слепому случаю, но не себе самому, не обнаруживал уже сам по себе самого предосудительного легкомыслия и глубочайшего презрения к себе (как это и есть в самом деле), то, кроме того, все подобные утешения и указания еще и совершенно неприменимы к нашему нынешнему положению. Можно строго логически доказать (и мы в свое время это докажем), что никакой человек, никакой бог, и никакое событие из всех событий, находящихся в пределах возможного, не сможет помочь нам, но что, если нужна нам помощь, только мы сами должны помочь себе. Скорее, я попытаюсь возвысить Вас над этим чувством боли через ясное понимание нашего положения, силы, которая еще остается у нас, и средств нашего спасения. Поэтому я, конечно, потребую от Вас известной меры размышления, известной самодеятельности и некоторой самоотверженности, и потому рассчитываю на таких слушателей, от которых всего этого ожидать возможно. Между прочим, все требуемое мною легко и не предполагает сколько-нибудь большей силы в человеке, чем та, какую, по-моему, вполне можно признать возможной в нашу эпоху; что же до опасности, то опасности здесь вовсе никакой нет.
3). Собираясь образовать в немцах как таковых ясное понимание их настоящего положения, я предполагаю слушателей, которые склонны смотреть на предметы такого рода собственными глазами, а вовсе не таких, которые находят более удобным дать подсунуть себе при рассмотрении этих предметов чужой иностранный бинокль, либо нарочно рассчитанный на искажение, либо же по самой природе своей имеющий иную точку зрения или меньшую резкость, и потому отнюдь не пригодный для немецких глаз. Далее, я предполагаю, что эти слушатели, рассматривая предмет собственными глазами, имеют достаточно смелости, чтобы честно взглянуть на то, что есть, и честно сознаться себе, что именно они видят. И что они или уже победили, или хотя бы способны победить в себе часто проявляющуюся склонность вводить себя в обман относительно своих собственных дел и рисовать себе не столь безотрадную картину этих дел, как та, которой требует истина. Эта склонность есть трусливое бегство от своих собственных мыслей и детский ум, который мнимо полагает, что если он не видит своего бедствия или по крайней мере не сознается сам себе в том, что видит его, то тем самым его бедствие уничтожается и в самой действительности, как оно уже уничтожено в его мысли. Напротив, мужественная смелость состоит в том, чтобы твердо смотреть в глаза беде, заставлять ее выдерживать наш напор, спокойно, хладнокровно и свободно проникать в нее взглядом и разлагать ее на составляющие ее части. К тому же, благодаря такому ясному пониманию, мы становимся хозяевами своего бедственного положения и уверенным шагом движемся в борьбе со злом, потому что, не теряя из виду целое в каждой его части, мы всегда знаем, где мы находимся, и, однажды достигнув ясности, уверены в победе своего дела; а тот, другой, вслепую и на ощупь бродит, погрузившись в мечтания, без прочной путеводной нити и твердой уверенности.
И почему же мы должны бояться этой ясности? Беда не становится меньше оттого, что мы о ней не знаем, или больше оттого, что мы познаем ее; благодаря последнему она просто станет поправимой; а вину здесь вовсе не следовало бы выставлять на вид. Бичуй косность и себялюбие суровой обвинительной речью, язвительной насмешкой, разящим презрением, и если не можешь добиться от них большего, побуди их по крайней мере к ненависти и ожесточению против самого обвинителя – это все-таки тоже сильное душевное движение, – до тех пор, пока не исполнится мера бедствий как необходимого последствия их и пока еще могут они ожидать себе, вместо исправления, спасения или послаблений. Но когда эти бедствия исполнятся уже настолько, что лишат нас и возможности грешить далее таким же образом, то порицание грехов, которых мы уже не можем более совершать, становится бессмысленным, и имеет вид злорадства; и наше рассуждение в таком случае падает из области учения о нравах в область истории, для которой свобода осталась в прошлом, и которая рассматривает случившееся как необходимый результат предшествовавших событий. Для наших речей остается возможным только это последнее воззрение на современность, и поэтому мы ни разу не прибегнем к другому способу ее рассмотрения.
Итак, я предполагаю в Вас этот образ мысли: представление о себе самом как о немце вообще, не скованное даже болью утраты, стремление видеть истину и смело смотреть ей в лицо. На этот образ мысли рассчитывает каждое слово, которое я здесь произнесу, и если кто-нибудь явился в это собрание с другим воззрением, то все неприятные ощущения, которые вызовет у него услышанное здесь, он должен будет приписать единственно лишь себе самому. Скажем это теперь раз навсегда – и на том покончим; а теперь я перейду к другому делу, и представлю вам в общем обзоре основное содержание всех последующих речей.
Где-то, – сказал я в начале речи. – эгоизм, вполне развившись, уничтожил сам себя, утратив тем самым свою самость и способность самостоятельно полагать себе цели. Это, произошедшее ныне, уничтожение эгоизма составляло указанное мною дальнейшее развитие времени, и совершенно новое событие в этом времени, которое, по моему убеждению, делало для меня возможным, а равно и необходимым продолжить данное мною некогда описание этого времени. Это уничтожение, стало быть, есть наше собственное настоящее, на которое должна непосредственно опираться наша новая жизнь в новом мире, существование которого я также при этом утверждал. Поэтому оно должно составлять подлинный исходный пункт моих речей; и прежде всего мне надлежит теперь показать, как и почему подобное уничтожение эгоизма необходимо последует из его наивысшего развития.
Эгоизм бывает развит до наивысшей своей степени, когда, покорив себе сперва всех правителей, за незначительными исключениями, он от этих правителей овладевает и всей массой управляемых и становится единственным влечением их жизни. Подобное правление, прежде всего, во внешних своих отношениях начинает пренебрегать теми узами, которыми его собственная безопасность привязана к безопасности других государств, отрекается от целого, один из членов которого составляет, единственно лишь затем, чтобы его не потревожили в его неподвижном покое, и предается печальному заблуждению эгоизма, будто государство пребывает в мире, лишь до тех пор, пока никто не нападает на его собственные границы. Затем является в нем та слабость рук, держащих бразды государственного управления, которая величает себя иностранным именем гуманности, либеральности и популярности, но которую по-немецки вернее будет назвать дряблостью воли и недостойной манерой.
Если он овладеет и управляемыми, сказал я сейчас. Народ вполне может быть испорчен, т.е. эгоистичен (ибо эгоизм есть корень всякой иной нравственной порчи), – и при этом, однако, не только существовать, но совершать даже блестящие по наружности деяния, если только правительство в нем не будет так же точно испорчено; это правительство может даже действовать в отношении с другими вероломно, забыв и честь, и долг, если только внутри страны оно найдет в себе смелость натянуть суровой рукой бразды правления и заставить подданных еще больше бояться себя. Но где соединится все вышеназванное, там общежитие погибнет при первом же серьезном покушении на него, и как само оно вероломно отделилось от того тела, членом которого было, так теперь члены его, не сдерживаемые никаким страхом перед этим правительством и побуждаемые более сильным страхом перед чужими, отделятся от него с таким же вероломством, и разойдутся каждый в свою сторону. Тогда их, стоящих отныне порознь, охватит еще более сильный страх, и они щедрою рукой и с принужденно-веселой миной на лице отдадут врагу то, что скупо и крайне неохотно давали они защитнику отечества; пока впоследствии и правители, всеми преданные и оставленные, не окажутся вынуждены купить свое существование ценою подчинения и послушания чужим планам и целям; а впоследствии и те, кто бросил оружие в борьбе за отечество, под чужим знаменем научатся храбро действовать этим оружием против своего отечества. Так и получается, что эгоизм уничтожается наивысшим своим развитием, и тем, кто по доброй воле не хотел поставить пред собою никакой иной цели, кроме себя самих, эту иную цель навязывает чуждая сила.
Никакая нация, опустившаяся до такого состояния зависимости, не может подняться из этого состояния с помощью обычных или прежде применявшихся средств. Если сопротивление ее было бесплодно, когда она была еще в полной своей силе, то что же может дать сопротивление теперь, когда она лишилась большей части своих сил? То, что могло бы помочь ей прежде, – а именно, если бы ее правительство властно и строго натянуло бразды правления, – то бесполезно теперь, когда бразды эти только лишь по видимости остаются в его руке, и саму эту руку правительства ведет и направляет чужая рука. На саму себя подобная нация уже не может более рассчитывать, и так же точно не может она рассчитывать на победителя. Этот победитель наверное будет так же безрассуден и так же уныло труслив, какова была сама нация, если он не удержит завоеванных им преимуществ и не станет всеми способами утверждать их за собою. А если бы он с течением времени и стал все же столь безрассуден и труслив, то хотя и погиб бы в этом случае так же точно, как и мы, но гибель его была бы не на пользу нам: Он стал бы добычей нового победителя, а мы стали бы неким самоочевидным и малозначительным придатком к этой добыче. Если для опустившейся таким образом нации все же возможно спасение, то это спасение должно совершиться с помощью совершенно нового, никогда еще доселе не употреблявшегося средства, – посредством созидания совершенно нового порядка вещей. Давайте же посмотрим, что в прежнем порядке вещей было причиной, в силу которой этому порядку необходимо должен был однажды прийти конец, и тогда, в противоположность этой причине, мы найдем то новое звено, которое нужно внести в наше время, чтобы благодаря ему опустившаяся нация воспрянула к новой жизни. Отыскивая эту причину, мы найдем, что во всех до сих пор бывших формах государственного устройства участие индивида в жизни целого было связано с участием индивида к себе самому такими узами, которые как-то совершенно разорвались, так что индивид уже вовсе не проявлял участия к жизни целого, – узами страха и надежды на дела индивида в связи с судьбою целого, в будущей и в настоящей жизни. Просвещение рассудка, занятого лишь чувственными расчетами – вот сила, которая уничтожила связь настоящей жизни с будущей в религии в то же время признала обманчивыми миражами и другие дополняющие и замещающие средства нравственного образа мысли, как то, например, честолюбие и национальную честь. Слабость правительств – вот что уничтожило боязнь за успех дел индивида в связи с его поведением в отношении целого (даже в отношении настоящей жизни), оттого что забвение своего долга нередко оставалось безнаказанным, и так же точно сделало бессильной надежду, оттого что удовлетворяли эту надежду слишком часто по совершенно иным правилам и мотивам, вовсе не принимая во внимание заслуги индивида перед целым. Именно такого рода связи почему-то совершенно разорвались, а от разрыва их разрушилось и все общежитие.
Тем не менее победитель может отныне делать со всем усердием то, что он только и может делать, а именно, вновь прилаживать и усиливать последнюю частицу связующей людей среды – страх и надежду за свою настоящую жизнь. Но это поможет только ему, а отнюдь не нам: Ибо, если только он понимает, в чем состоит его выгода, он соединит в эту обновленную связь прежде всего только дела, важные для него, а нашу пользу лишь постольку, поскольку для него самого будет важно сохранить нас, как средство для достижения его целей. Для настолько падшей нации страх и надежда уже не существуют, потому что бразды руководства нацией выпали у нее из рук, и хотя ей самой есть чего бояться и на что надеяться, но ее никто уже более не боится и никто на нее не надеется; и ей не остается более ничего, как только найти совершенно иное и новое связующее средство, стоящее выше страха и выше надежды, чтобы важные цели своей целокупности поставить в связь с участием каждого индивида в ней к своей собственной судьбе.
По ту сторону чувственного мотива страха и надежды находится – и к нему на первых порах примыкает – духовный мотив нравственного одобрения или неодобрения и высший аффект благорасположения или отвращения к нашему состоянию или состоянию других людей. Так же, как одно-единственное пятно, которое ведь не причиняет непосредственной боли нашему телу, или вид предметов, лежащих беспорядочно и как попало, все же мучит и тревожит, будто бы непосредственной болью, наш внешний глаз, привыкший к чистоте и порядку, между тем как человек, привыкший к грязи и беспорядку, чувствует себя при этом зрелище совсем неплохо; так же точно и внутренний духовный глаз человека можно образовать и приучить так, что один лишь вид путаного и беспорядочного, недостойного и бесчестного существования его самого или родственного ему племени, независимо от того, чем это грозит или что обещает его чувственному благополучию, причиняет ему внутреннее страдание, и что эта боль не оставит в покое обладателя подобного глаза – опять-таки совершенно независимо от чувственного страха или надежды, – пока он не уничтожит, насколько это в его силах, неприятное для него состояние и утвердит вместо него такое, которое одно только может ему понравиться. В душе обладателя такого глаза важные цели окружающего его целого побуждающим чувством одобрения или неодобрения неразрывно связаны с важными целями его собственной расширенной самости, которая ощущает себя лишь частью целого и для которой ее бытие может быть сносно только в любезном ей целом. А потому образование в себе такого глаза и будет надежным и единственным средством, которое остается у нации, утратившей свою самостоятельность, а с нею и всякое влияние на страх и надежду в общежитии народов, для того чтобы вновь подняться в бытие из пережитого уничтожения и уверенно вручить руководству возникшего в ней нового и высшего чувства свои национальные интересы, которые со времени ее гибели неинтересны ни для людей, ни для богов. И таким образом оказывается, что средство спасения, которое я обещал указать, заключается в образовании в некоторую совершенно новую самость, до сих пор встречавшуюся, может быть, как исключение у индивидов, но никогда еще не появлявшуюся в виде самости всеобщей и национальной, и в воспитании нации, прежняя жизнь которой угасла и обратилась в придаток чужой жизни, для совершенно новой жизни, которая или останется ее исключительным достоянием, или же, если перейдет от нее к другим, останется целой и не умалится, сколь бы бесконечно ни делилась. Одним словом, я предлагаю, как единственное средство сохранить жизнь немецкой нации – совершенное изменение существовавшей до сих пор системы воспитания.