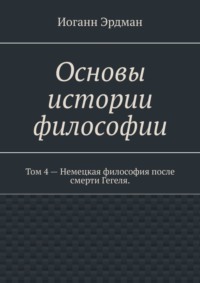Czytaj książkę: «Основы истории философии. Том 4 – Немецкая философия после смерти Гегеля.»
Валерий Алексеевич Антонов Переводчик
© Иоганн Эрдман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-0260-7 (т. 4)
ISBN 978-5-0062-9073-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
VI. Космософия и теософия на критической основе и их посредничество
§325.
3. Al. Ecker, Lor. Oken, Stuttg. 1880. C. Güitler, Lor. Oken u. sein Verhältniss zur modernen Entwicklungslehre, Leipz. 1884. – 5. Ant. Lutterbeck, Ueber den philosophischen Standpunkt Baader’s, Mainz 1854. J. Hemberger, Die Cardinalpunkte der Franz Baad ergehen Philosophie, Stuttg. 1855. Fr. Hoffmann, Acht Abhandlungen über Baader’s Lehren, Leipz. 1857. Ders., Franz v. Baader als Begründer der Philosophie der Zukunft, Leipz. 1856. Der»., Die Weltalter, Lichtstrahlen aus Franz. Baader’s Werken, Erlangen 1868. Joh. Claueeen, Fr. v. Baader, Leben u. theosophische Werke, 2 Bde., Stuttgart 1886, 87. – 8. Ant. Lutterbeck, Aus Baader’s Naturphilosophie, fünf Artikel in Frobeckammer’e Athenäum, II u. III, 1863 ff. Ders., Baader’s Lehre vom Weltgebäude, Frankfurt 1866. – 9. JuL Hamberger, Fundainentalbegriffe von Franz Baader’s Ethik, Politik und Beligionsphilosophie, Stuttgart 1858.
1. Хотя с тех пор, как в своей часто цитируемой работе я назвал Окена и Ф. Баадера в качестве двух представителей, отдельно, но, следовательно, с гораздо большей последовательностью, утверждающих ту двуединую суть, что юный и стареющий Шеллинг последовательно допускали в совершенно самостоятельных мировоззрениях, это утверждение оспаривается, особенно друзьями и учениками Баадера, я все же не могу признаться, что не был научен чему-то лучшему. Поэтому я ссылаюсь на §44 моей часто упоминаемой книги, поскольку мне пока не известно более подробное изложение философии Окена и поскольку, хотя мое уважение к Баадеру с тех пор еще больше возросло благодаря трудам Гофмана, Люттербека и других, я придерживаюсь в основном того же мнения о его позиции, что и тогда.
2. Лоренц Окен (собственно, Окенфус; родился 1 августа 1779 года, профессор в Йене с 1807 года, в Мюнхене с 1827 года, в Цюрихе с 1832 года, где он умер 11 августа 1851 года) уже в 1802 году написал свой труд «Grundriss der Naturphilosophie», в печати появился только обзор, но копии были в руках Эшенмайера и других. Вероятно, также Шеллинг, чьи лекции в Вюрцбурге содержат многое из того, что впервые сказал Окен, например, что классы животных являются репрезентациями органов чувств и поэтому должны быть классифицированы в соответствии с ними. До появления Grundriss он представил читающей публике свою работу Die Zeugung (1805), трактат об образовании кишечного канала (1806), важный для истории развития, а также праздничные трактаты о значении костей черепа (1807) и о Вселенной (1808). Идеи, изложенные в первой работе, возможно, нашли бы поддержку раньше, если бы он назвал « пузырьки», являющиеся, по его мнению, элементами всех органических тел и образующие «в воде животных, в воздухе – растений», клетки, а не инфузории. Вторая работа развивает идею, о которой Окен не знал, что череп представляет собой комбинацию измененных позвонков, и стала эпохальной для морфологии. Наконец, в третьей работе в ораторской манере развивается прославление природы как единственного Абсолюта и показывается, как макрокосм интериоризируется и концентрируется в микрокосме, так что можно с тем же успехом назвать органы чувств качествами вселенной, ставшими внутренними, а вселенную – продолжением системы органов чувств. В том же году, что и «Вселенная», появилась вторая брошюра, посвященная проблемам «Идеи к единой теории света» (Ideen zu einer Theorie des Lichts, der Finsterniss, der Farben und der Wärme, 1808), где свет рассматривается как напряжение эфира, вызванное полярностью центрального тела и планет, движение которого есть тепло, проявляющееся, таким образом, везде, где материализуется свет. Наконец, в 1809 году вышло первое издание его Lehrbuch der Naturphilosophie (Jena, 3 vols.; второе издание в одном томе; также значительно улучшенное третье Zurich 1843, и в нем он также рассказал о своих достижениях). Учебник естественной истории назывался натуралистами его самым солидным трудом; сочинение «Naturgeschichte für alle Stände» (13 томов, Штутгарт, 1833—1841) нашло самую широкую читательскую аудиторию.
3. То, что Окен прямо заявляет, что его учение является сквозной «Физикой», не противоречит ни тому, что он определяет натурфилософию как учение о вечном превращении Бога в мир, ни тому, что он рассматривает в своем учении искусство, науку, государство и т. д. Ведь под Богом он понимает только целое или вселенную (поэтому он и в третьем издании употребляет эти слова), под миром – отдельных людей, а искусство, наука и т. д. являются для него только природными явлениями. В трех своих частях натурфилософия рассматривает целое, индивида и, наконец, целое в индивиде, и, таким образом, делится на матезис, онтологию и биологию (ранее пневматологию). Матезис, или учение о целом, устанавливает в качестве высшего математического понятия «ноль», от которого кто-то другой, возможно, предпочел бы отказаться, назвав его неопределенным количеством. Определенные кванты возникают из него в силу противопоставления. Это разделение на «+» и «-» – первичный акт самораскрытия, благодаря которому монады становятся числами, единство – множеством, Бог – миром и тем самым самосознанием. Отдельными фазами этого перехода являются первозданный покой как узуальная форма первоакта или как сущность Бога, движение как энтелехия Бога или энтелехиальная форма первоакта, где вселенная есть время, наконец, время, пришедшее в состояние покоя, пространство или форма Бога, мыслимое как сфера, так что существо Бога или вселенная есть бесконечная сфера. Отсюда всякий образ его или тот образ, какой является тотальным. Эти же стадии повторяются, но в более явном виде, в первозданной субстанции, эфире, где первой стадией будет просто эфир, тьма, хаос, тяжесть, вторая проявится в напряженном эфире, свете, третья, наконец, даст тепло, расширяющееся во всех измерениях, что приведет к текучести, то есть отмене определенных измерений. Все три объединяются в огне. Огненная сфера эфира образует переход ко второй части натурфилософии, онтологии как учению об индивидуальном. Космогония, в которой делается попытка «не создавать мир толчками и ударами, но одушевлять его», а центральные тела, планеты и кометы изображать как работу активной полярности, стоикбиогения и последующая стоихиология, в которой рассматриваются элементы земля, вода, воздух, огонь и их функции, явно подчеркивая, что они должны быть химически составленными веществами.
Переход к отдельным царствам природы осуществляется таким образом, что сочетание элемента земли с одним, двумя или тремя элементами приводит к появлению бинарных, тернарных или четвертичных соединений, то есть минералов, растений или животных. Первые по-прежнему рассматриваются в онтологии под рубриками минералогии и геологии и подразделяются на земные, водные, воздушные и огненные минералы, то есть земли, соли, руды и металлы, первые из которых образуют собственно тело планеты, а вторые – ее внутренности. В образовании планеты показана роль, которую играют магнетизм, электричество и химия.
Первые по-прежнему рассматриваются под рубриками минералогии и геологии в онтологии и подразделяются на земные, водные, воздушные и огненные минералы, то есть земли, соли, руды и металлы, из которых первые образуют собственно тело планеты, а другие – ее внутренности. Показана роль, которую сыграли магнетизм, электричество и химия в формировании планеты. Растения и животные рассматриваются в третьей части натурфилософии, биологии, а жизнь в целом – в органософии, переход к которой осуществляется через гальванизм. Первозданная слизь, из коей все возникло, – это мягкая углеродная масса или выветренная и обводненная земная материя. Она существовала как морская слизь, из нее же вышли люди, возможно, только в один благоприятный момент. Она также является посредником при переходе жизни от одного индивида к другому, в результате чего индивиды погибают, и только целое продолжает существовать. Первоэлементы всего органического – это везикулы, или органические точки, в которые распадается и мертвый организм. Выброшенные на сушу, эти первозданные везикулы становятся растениями, в которых повторяется планетарная жизнь; брошенные в воду, они становятся животными, в которых повторяется космическая жизнь (микропланеты, микрокосм). Первые рассматриваются в фитософии. Растение определяется как организм, привязанный к земле, соединенный с углеродом и тянущийся в воздухе к свету. Необходимые органы растения также указывают на систематику растительного царства; ибо это царство есть лишь независимое представление этих органов, растение анатомировано самой природой. Поэтому все растительное царство делится на три группы: растения с сердцевиной, оболочкой и конечностями (акотиледоны, монокотиледоны, дикотиледоны), каждая группа – на несколько кругов и так далее. За фитософией следует зоософия. Животное можно назвать самодвижущимся цветком, потому что самодвижение добавляется к высшей функции растения. Если растение было только планетарной организацией, то животное – солнечная и космическая. Оно разделяет сексуальную активность с растением; только оно обладает чувством. Три части зоософии, полностью соответствующие трем частям фитософии, – это зоогения, которая рассматривает ткани животного организма, зоономия, которая рассматривает его функции, и, наконец, зоология, которая рассматривает систему животного царства. И здесь то, что является органом (целого или высшего) животного, предстает как самостоятельное животное. Животное царство – это раздробленный человек. Поэтому сначала возникают две группы: растительные (висцеральные) и животные (плотские). Первые содержат девять классов в трех кругах; вторые, напротив, содержат десятый, одиннадцатый и двенадцатый классы (рыбы, земноводные, птицы) в первом из двух своих кругов, а класс млекопитающих, который делится на пять гильдий, – во втором. Это сенсорные животные, и высший ранг среди них занимает глазное животное – человек. Человек образует только одну гильдию и один род, только один род, и в нем можно выделить только виды (расы), которые опять-таки различаются, как органы чувств: глазной человек – это европеец. Высшие функции животного, в частности высшего животного, рассматриваются в последней части зоологии – психологии. Душу следует понимать как функционирование не только одного органа, но и всего организма. Поэтому низшие явления психической жизни будут теми, выше которых низшие животные никогда не поднимаются. Поскольку человек возвращается к этому в болезни сомнамбулизма, Окен называет состояние моллюсков, в котором один орган ощущается и слышится без разделения, месмеризмом. Отсюда животное поднимается через чувство задумчивости (улитки), силы и ловкости конечностей (насекомые) и т. д. до того, что все его органы становятся для него объектом, и оно таким образом становится равным животному царству и вселенной, человеку. Его интеллект – это мировой разум, в нем Бог становится плотью; в нем инстинкт искусства становится чувством искусства, сравнение – наукой. Как в художественном инстинкте низших животных, так и в реализации человеческого искусства высшим является то, чего хочет природа. Это называется красотой. Поскольку природа не желает и не производит ничего более высокого, чем человек, человек также является истинным объектом искусства. Человек, изображаемый искусством, – это герой в языческом искусстве и святой в христианском. Ибо боги язычников были людьми, а святые христиан – это люди, которые являются богами. В науке, отображающей мир разума, существуют различные уровни, на которых повторяются различные искусства. Самое высокое место занимает философия, а в ее рамках – искусство управления. Но все искусства и науки объединяются в искусстве войны, то есть искусстве свободы, справедливости, блаженного состояния человека и человечества, принципа мира. Вот почему герой – это высший человек. Через него человечество становится свободным, он – Бог.
4. Окен преобразовывает всю философию в натурфилософию и всерьез берется за то, к чему Шеллинг лишь прикоснулся в период системы тождества. И Блаше нельзя упрекнуть в том, что он назвал Окена совершенством натурфилософии: то, что человек делает в одиночку, он, как правило, делает мастерски, и по сей день каждый, кто делает натурфилософию своей задачей, хотел бы иметь возможность научиться у Окена большему, чем у кого-либо другого. То, что государство занимает высшее место среди явлений природы, похоже на апофеоз государственного деятеля (героя), завершающего систему, не считая того, что это напоминает шеллинговского богоподобного завоевателя, что может показаться чуждым христианскому взгляду, но говорит от души античности, считавшей, что человек был гражданским животным. Но о том, насколько Окен пытается поставить себя вне христианского мировоззрения, наиболее ярко свидетельствует тот факт, что он приписывает героя язычникам, а святого – христианам, но затем не находит места для общины святых в своей системе, касающейся всего. Церковь не упоминается среди человеческих, то есть природных, явлений. В силу такого положения не должно быть странным, когда он вспоминает Анаксимандра (§24, 3) в своей теории моря, когда он ссылается на пифагорейцев в своем сведении физики к математике, когда вес, придаваемый сферической форме вселенной и человеческому черепу, напоминает о Ксенофане и платоновском «Тимее» (§78, 6), и т. д. Столь же естественным, однако, будет и то, что здесь нет абсолютно никаких точек соприкосновения со средневековыми идеями и что как только в Шеллинге появляются первые следы склонности к ним, Окен, посвятивший ему как другу свои юношеские сочинения, оставляет его в стороне. Если Шеллинг в мюнхенский период снова называет почти детским учение Окена, от которого он так много заимствовал во время своей вюрцбургской педагогической деятельности, то это так же объяснимо, как если бы тот назвал детскими тенденциями то, от чего он отказался. Но если между этими двумя людьми хотя бы на время были возможны отношения взаимного признания, то такие отношения никогда не могли состояться между Океном и человеком, в котором с начала и до конца его научной деятельности утвердились именно те моменты, которым Шеллинг лишь позднее дал место в себе, а Окен – никогда. Баадер противостоит Окену так же, как Маймон – Рейнгольду, Иротлер – Вагнеру, Шопенгауэр – Гербарту, даже более того, ибо контраст между средневековьем и античностью более резок, чем между Хвеном и Лейбницем или между элеатами и атомиками. Случайно ли, что этот резкий контраст возник между двумя людьми, родившимися в католической церкви, – вопрос небезынтересный, но и ответить на него нелегко.
5. Бенедикт Франц Ксавер Баадер (родился 27 марта 1765 года в Менхене, умер 23 мая 1841 года в Мюнхене), по-видимому, получил первое философское вдохновение от Гердера, затем изучал Канта, особенно как противовес сенсуалистическим теориям, близким ему в Англии, но еще больше нашел его в трудах Якоба Бёме, к которому его привели Иоганн Фр. Клейкер (1749—1827) и Л. КИ. де Сен-Мартен. Этот философ, а затем и другие философы Средневековья, как мистики, так и схоласты, а позднее и Отцы Церкви, стали очень важны для его развития, не допускавшего, подобно почти всем его современникам, в себе «места» для спинозизма. Поэтому, сблизившись с Шеллингом после возвращения из Англии, Баадер, принимавший не только натурфилософию, всегда оставлял без внимания все пантеистическое в трудах Шеллинга и даже боролся с ним, хотя и не называя Шеллинга. С другой стороны, когда Шеллинг, не без подсказки Баадера, стал более основательно знакомиться с учением Бёме и следы этого проявились в его теории свободы, вполне понятно, что Баадер выразил свое согласие с этими поздними трудами Шеллинга гораздо более безоговорочно. Как и Штеффенс, также считавший поздние труды Шеллинга более совершенными, он едва ли признавал Окена как философа. Однако Франц Гофман уже давно показал, насколько неверна повторяющаяся характеристика Баадера как шеллингианца, в своем предисловии ко второму изданию малых сочинений Баадера, вышедшему также отдельной работой (Baader im Verhältniss zu Hegel und Schelling, Leipzig 1850). За исключением «Fermenta cognitionis» (6 томов, 1822—1825), лекций по религиозной философии и лекций по спекулятивной догматике (четыре тома, 1827—1836), все труды Баадера представляют собой отдельные трактаты объемом всего в несколько страниц, некоторые из которых были написаны в ходе его обширной переписки, а другие возникли в связи с актуальными вопросами. Их полный список в хронологическом порядке я привел в своей более крупной работе. С тех пор издание полного собрания сочинений Баадера, которое в то время только начиналось, было завершено. Франц Гофман в Вюрцбурге (1804—1881) вместе с несколькими друзьями организовал его и снабдил каждый раздел, внутри которого произведения расположены в хронологическом порядке, поучительным введением. Из шестнадцати томов последний содержит указатель имен и предметов, составленный Ант. Люттербека, пятнадцатый – биографию Баадера, написанную Гофманом, вместе с письмами Баадера, одиннадцатый – выдержки из его дневников.
6. Доказывая, что царства природы и благодати параллельны, что каждый естественный процесс также имеет этическое значение, Баадер неоднократно ставил перед собой задачу создания философии, в которой философия и теософия не разделены. Конечно, чтобы найти решение, не нужно брать в учителя древнего Аристотеля или современного Спинозу, а лучше ориентироваться на Мейстера Экхарта и других теологов Средневековья, Парацельса и Якоба Бёме. В отличие от Просвещения XVIII века, он сожалеет о разрыве между философией и традицией и при каждом удобном случае вспоминает героев патристики, схоластики и переходного периода Средневековья, у которых мы можем научиться его исцелять. Конечно, не путем чистого возвращения к ним, а таким образом, чтобы то, чему они учили, получило дальнейшее развитие – требование, кое средневековые люди не простили Баадеру, в то время как для просвещенных оно было слишком средневековым. В противоположность океновскому превращению философии в простую физику, где не было места религии и церкви, Баадер требует, чтобы философия была религиозной насквозь, чтобы за основной религиозной наукой следовала религиозная философия природы, за ней – религиозная философия духа, которая, поскольку дух реализуется только в обществе, завершается религиозной философией общества, являющейся в то же время философией религиозного общества. Введением ко всей системе является, и по этой причине должно быть направлено, прежде всего, базовая и фундаментальная философия, называемая Баадером логикой, затем трансцендентальная философия, затем эпистемология. Он признает одной из величайших заслуг Кану то, что он выявил необходимость такой философии. Конечно, предпосылка о том, что человеческое познание все еще остается res integra, и абсурдная попытка начать с простой самоочевидности и таким образом, без Бога, найти Бога, солипсизм и субъективизм, выведенные Декартом, не заслуживают похвалы. Столь же далеким от этого солипсизма и противоположной крайности, пантеизма, понимающего наше познание как часть божественного самопознания, является правильное учение, согласно которому наше знание есть часть божественного самопознания, со-знание с ним, истинная conscientia. Из того факта, что бытие Бога не может быть отделено от его самораскрытия и что, как доказал Эйхте, всякое истинное бытие есть самосознание, следует (что пантеизм отрицает), что Бог (также) знает себя в нас. Теперь следует различать последовательность стадий, в зависимости от того, вселяется ли божественное знание в тварное знание только через него, когда тварь вынуждена знать о Боге (как это делают дьяволы), или вселяется в него, что дает обычное эмпирическое знание, а также веру в авторитет, или вселяется в него, благодаря чему знание становится свободным, спекулятивным. По этой причине знание не обременено авторитетом, но свободно противостоит ему, искореняя возможность неверия не тем, что приостанавливает использование разума, но тем, что ведет к правильному использованию разума через подчинение божественному разуму В своей истине логика есть учение Логоса; и те, кто делает своим содержанием только законы мышления, забывают, что как закон и принуждение Логос говорил бы только с неразумными. Для тех, кто отдается разуму, он является не принудительным бременем, а освобождающим наслаждением. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Подобно тому, как явление Бога – это формирование, лепка, так и со-знание – это со-формирование; поэтому спекулятивное знание – генеративное, генетическое, гениальное. Scimus quod facimus. Но гениальность не исключает классицизма так же, как знание исключает авторитет; и противопоставление веры и знания, которое поддерживают как фарисеи веры (пиетисты), так и саддукеи (ложного) знания, является скандалом нашего времени.
7. При такой теории познания вполне естественно, что основной наукой для Баадера является теология. Он описывает отказ от начала с Богом как отрицание Бога. Он развивает свое богословие таким образом, что всегда связывает его с Якобом Бёме и Сен-Мартеном, часто становясь простым комментатором обоих. Баадер пытается избежать двух ловушек – абстрактного теизма, понимающего Бога как безжизненное бытие и мертвый покой, и современного пантеизма, допускающего, что Бог приходит к сознанию в человеке только после того, как он прошел свой путь (у Гегеля – логический, у Шеллинга – исторический), подчеркивая имманентный (логический) жизненный процесс Бога, (вечное самопорождение Бога, как называет его ученик Гофман, или его самопроизводство из его не-откровения), в котором Бог вечно раскрывает себя, как активная троичность, охваченная пассивной восприимчивостью (Идея), из эманентного (реального), в котором Бог становится три-личностью. Это происходит благодаря вечной природе или принципу самости, который Богу так же необходимо преодолеть и упразднить (отрицать, сохранять и возвышать), как любой другой жизни необходимо разорвать мать, чтобы возродиться и стать совершенной. Если в имманентном, эзотерическом откровении Бог говорил вовне, то в эманентном, экзотерическом откровении Он говорил отдельно. Учитывая большое соответствие между этими учениями и учениями Якоба Бёме, вполне понятно, что Баадер постоянно ссылается на последнего (и обоснованно отвергает это изложение в §234, 3). Однако помимо этих апелляций Баадер часто пытается, особенно в лекциях по спекулятивной догматике, дать своему учению обоснование, называемое им антропологическим, или также регрессивным, поскольку оно выводит вечные процессы в архетипе из того, что возникает при наблюдении человека (как образа). Более подробную информацию об этих двух процессах можно найти в изложении о. Германа, написанном под руководством Баадера и признанном правильным в его предисловии: Spekulative Entwicklung der ewigen Selbsterzeugung Gottes, aus Baaders Schriften zusammengetragen, Amberg 1835. Они были использованы в подробном развитии, содержащемся в §44 моей большой работы. С тех пор они были очень хорошо представлены Люттербеком в обзоре учения Баадера, приложенном им к указателю работ Баадера. Не только эти два процесса вносят путаницу в пантеизм, ставящий всеединое учение на место истинного всеединого учения, но вместе с ними и третий, акт творения, каковой, поскольку он есть акт свободы, не может быть сконструирован, может быть только описан, к чему Бога приводит не необходимость или недостаток, а скорее изобилие. Гегель и другие пантеисты допускают, что в творении Бог соединяется (только) с самим собой, в то время как он является лишь своим образом, и только в этом смысле мы можем назвать творение воссозданием Бога, как это делает Сен-Мартен. Не спекуляция, а история учит нас, что Бог из любви вступает в процесс, в ходе которого он хочет возродиться в образе творения. Моисей рассказывает не о начале, а о более поздней части этой истории; однако древние мифы говорят о том, что было раньше. Баадер не уточняет, относятся ли к ним и предположения Бёме. Достаточно сказать, что и здесь связь настолько велика, что §234, 4 можно отбросить, а учение Баадера представить очень кратко. Субстанция и, следовательно, причина, из которой Триединый Бог порождает мир, – это вечная природа, без которой Творец и творение распались бы. Из двух частей творения, разумной (небо, ангелы) и бескорыстной (земля, природные существа), между которыми находится человек, последняя должна была быть неустойчивой, чтобы из безвольной невинности перейти в состояние свободных детей Божьих, преодолев абсолютно необходимое искушение. В то время как истинное умозрение помещает возможность зла в вечную природу (самость) и объявляет его необходимым, ложное, пантеистическое умозрение утверждает это из эгоизма или реального зла. Истинное умозрение говорит далее, что это падение может быть двойным: через высокомерие и через подлость. История добавляет, что первый случай произошел с Люцифером, который своей возмущенной ненавистью вывел себя из воли Бога в его неудовольствие и теперь испытывает эту fata nolentem trahunt. Этот лживый дух хочет, следовательно, личности; но то, чего он хочет, – реальное бытие – он никогда не достигает: это манящее желание реализовать себя. Средство для этого – стать человеком, которому, благодаря разделению бездны и небес, уготована судьба стать эго-спасителем бескорыстного существа, развращенного падением Люцифера через депотенциацию эго, для чего ему позволяет его dominium in naturam. Но для того, чтобы человек стал этим восстановителем, необходимо, чтобы Бог на мгновение отступил, чтобы человек мог выбрать, хочет ли он закрепить незаслуженное и потому шаткое райское счастье, преодолев искушение, или лишиться его. Спекуляции не могут определить, какой выбор он сделает, но они могут определить, что какой бы выбор он ни сделал, свобода выбора уступит место детерминированности, так что человек должен теперь отпустить себя и действовать так, как он стал. История учит нас, что человек тоже пал, но не так, как Люцифер, из чувства надежды, а так, что он, нечестивец, увлекся природой, лежащей ниже его, стал животным. Отпав от Бога и сделав выбор, человек, а вместе с ним и все творение, быстро устремились бы в ад, если бы Бог не остановил их в падении и не удержал над пропастью. Эта детархаризация или основание земли, о которой радуются утренние звезды и с которой у Моисея начинается opue sex dierum, происходит через пространственно-временное, то есть материальное становление, так что материя, конкретность пространства и времени, не является, как учат гностики, причиной зла, а скорее наказанием, то есть следствием зла, но в то же время и средством защиты от него. Ибо в том, что человек был помещен из вечности как истинного времени, которое есть единство всех трех измерений времени и, следовательно, всегда, а также из везде в пространство, в (иллюзорное или обычно так называемое) время, любовь Бога оказалась темпорализующей. Благодаря постоянно повторяющимся модификациям человек теперь может отрицать en ditail то, что он утверждал в целом; у того, кто был подвержен искушениям, теперь есть время противостоять искушениям. В этом подвешенном состоянии человек, живущий в (иллюзорном) времени, действительно удален от вечности (истинного времени) и живет без нее, как тот, кто ищет или оплакивает только настоящее (наслаждение); но в то же время он отделен и от более глубокого падшего злого духа, живущего в ложном времени или подвременном состоянии отчаяния, которое не имеет будущего, так что материя, а если называть первую материю водой по Священному Писанию, теперь отделена от будущего. Если называть первую материю водой, то это слеза сострадания, которой Бог гасит мировой пожар. Материя, таким образом, скрывает бездну хаотических сил, сама не является разрешением противоречия, а лишь его задержанием, поэтому в ней нет ничего рационального или вечного, кроме того, что однажды должно исчезнуть. Это строительная хижина, в которой формируется истинный кредит, в котором человек все больше и больше преодолевает материальное, что происходит, в частности, в культуре, которая, таким образом, не просто лингвистически связана с культом. Поскольку материя служит защитной оболочкой от всепоглощающего гнева, изгнанный инфраприродный дух может войти в материальный мир только через человека, так что то, что пантеизм баснословит о Боге, верно и для дьявола, что он приходит к реальности, т. е. действенности, только в человеке.
8. Только что упомянутое значение материи также знаменует переход к натурфилософии Баадера (физиологии, физике), являющейся второй частью его теологии. Первое, что здесь следует подчеркнуть, – это решительная оппозиция материализму, отождествляющему природу и материю. Заслуга Канта и последовавшей за ним натурфилософии в том, что она, по крайней мере, содержала указания на то, как выйти за эти рамки. Сам факт, что сущность материи помещается в гравитацию, указывает, поскольку гравитация – это смещение, отклонение от центра, на то, что материальное существование не может быть ни изначальным, ни естественным. Точно так же дихотомия, повсеместно демонстрируемая Шеллингом, наличие которой Шеллинг, по общему признанию, считает естественным, должна побудить нас больше сосредоточиться на состоянии, предшествующем дихотомии, и признать, что жизнь состоит только в преодолении оппозиции. Современная натурфилософия, однако, заслужила свою величайшую заслугу тем, что вновь утвердила понятие взаимопроникновения, отрицаемое механистическим взглядом, и указала с помощью динамизма, что наглядный продукт является продуктом нематериальных принципов, и поэтому не исключено, что этот продукт однажды может стать невидимым. Однако до сих пор игнорировался один главный закон, который, пожалуй, можно назвать фундаментальным законом природы: все, что основывается и питается в занятии, оказывается неосновательным и гибнет в проявлении, или то, что необходимо для жизни как латентность, враждебно ей как потенция. (Гегель – единственный, кто признает это в своем «Aufheben»). Без этого закона не может быть решена ни главная проблема физиологии – как бескорыстное существо стало материальным, ни проблема антропологии, тесно связанная с проблемой того, как человек стал злом. Этапы этого распада описываются со ссылкой на Моисеево повествование, совсем как у Якоба Бёме (s. §234, 5), этапы этого распада осуществляются через тягу к животному поведению, в результате чего человек погружается в сон, становится сексуальным, падает, и показывает, как триединство, которое человек носит в себе как образ трехличности, теперь смещается, так что он, который должен быть полностью духом через одухотворение тела и души, является таковым лишь частично, и представляет собой существо, расщепленное в себе, лишь составное существо, три компонента которого могут поэтому также отделиться. Так происходит в смерти, так происходит в двусмысленных и часто патологических явлениях сомнамбулизма, так происходит в религиозном экстазе.