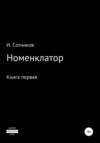Czytaj książkę: «Номенклатор. Книга первая»
Дисклеймер.
Данный материал был создан на основе реальных событий, по свидетельствам о них Тацита Публия Корнелия. Кто дал столько поводов для размышлений, поделившись некоторыми подробностями из своих знаний вермён эпох Цезарей.
*****
«Пусть свершится правосудие, хотя бы погиб мир». – На мир смотрит чья-то самонадеянная позиция.
Император Цезарь Флавий Юстиниан… привет Трибониану, своему квестору.
1. Тогда как среди всех дел нельзя найти ничего столь важного, как власть законов, которая распределяет в порядке божественные и человеческие дела и изгоняет всяческую несправедливость, мы, однако, обнаружили, что все отрасли законов, созданные от основания города Рима и идущие от Ромуловых времен, находятся в таком смешении, что они распространяются беспредельно и не могут быть объяты никакими способностями человеческой природы. Нашей первой заботой было начать с живших прежде священных принцепсов, исправить их конституции и сделать их ясными;
мы их собрали в один кодекс и освободили от излишних повторений и несправедливых противоречий, дабы их искренность давала всем людям быструю помощь.
2. Совершив это дело…
Часть Первая
Глава 1
На подступах к Вечному городу.
Публий Марк, путешественник, и Кезон Клавдий, его друг.
Гай Юлий Цезарь и все, все, все.
Вераций – знаток права.
«Рим – вечный город. Но что есть в своём значении эта вечность, как не основа и фундамент истин, где самая незыблемая из них – Рим это вечный город», – легко вот так рассуждать чужестранцу, а тем более путешественнику, необременённому заботами насчёт того, где остановиться на ночлег и в какой придорожной хижине приложить свою голову на приготовленную для него постель. Где вся эта его жизненная беспечность и чуть ли не безрассудство мысли, крепится на одной из мирских истин – человека при деньгах и оттого с глубоким философским взглядом на мир и себя в нём, такие приземлённые вопросы никогда не заботят и не волнуют. А вот когда его сума исчахнет и перестанет радовать своего носителя своими округлыми от наполнения формами, то тогда можно будет подумать и об этих приземлённых вещах, носящих характер вечных истин для того, чья жизнь служит подтверждением верности этих обыденных истин.
Ну а что даёт такое свободное право так смело и чуть ли не открыто выражаться чужестранцу, известному для своих родственников и друзей, с кем у него заключён общественный договор о дружбе, под именем Публий Марк, а личного имени, когномена, он, этот чужестранец, ещё не заслужил, как он говорил при случае, когда его об этом имени спрашивали, и он начинался запоминаться людям под прозвищем Инкогнито, то для этого были свои следующие предпосылки: Публий Марк скромно умалчивал то, что он далёк от понимания местных ландшафтов и житейских истин для начала, небезосновательно делая акцент на том, что и он гражданин Рима, по причине того, что рождён в урочище Афин, где проходил свою службу его родитель из славного рода Марков. Кто оставил ему о себе долгую память в виде приличного наследства и рекомендательных писем к своим товарищам из всаднического сословия, кто на первых порах должен будет принять участие в жизни Публия Марка, его отпрыска от Ливии.
В общем, Публий Марк явился под стены вечного города не с пустыми руками, а за его плечами был приличный багаж знаний и воспитания, которых он набрался от первых философских умов Эллады, плюс его карманы не были пусты на деньги. И как самое серьёзное обеспечение все этих его сбережений и самого него, то это взявшийся его сопровождать в этой поездке в вечный город, Кезон Клавдий, не последний человек, не только в провинциальных Афинах, но и говорят, что и в самом Риме.
И хотя во все времена всегда что-нибудь да говорят и при этом не умолкая, отчего сказанному вслух слову всё меньше и меньше оказывается доверия, а всё чаще к слову требуют какого-нибудь обеспечения, – лучше, конечно, финансового подкрепления, – тем не менее, посмотришь на товарища Публия Марка Кезона, так сурово и непререкаемо выглядящего, то хочешь всему хорошему, что о нём говорят верить, а вот всё то, что о нём говорят непочтительного и негативного, принимаешь немедленно за наветы и наговоры на столь выдающегося мужа, ясно что только по причине своего бескорыстия и широты своей души взявшегося сопроводить в столь долгий путь своего отныне друга Публия Марка. Ну а то, что он был щедро одарен Публием за эту свою помощь, то всё это мелочи, недостойные упоминания среди людей чести, какими были и считали себя Публий и Кезон.
А между тем они, прибыв под стены этого вечного города, решили здесь не просто отстояться в ногах после долгого пути, где и их ногам нужна передышка, несмотря даже на то, что основную тяжесть в этом пути на себя взяли лошади под ними, с которых они спешились по прибытию сюда, а чтобы так же отстоять в себе расшатанные долгой дорогой мысли. Где их нужно было привести в спокойное состояние духа, что, пожалуй, непосильная задача, когда стоишь перед воротами вечного города. И если этого всё же не получиться сделать, то хотя бы собраться с ними, чтобы потом не слишком выглядеть глупо на улицах вечного города, когда, например, к тебе подойдут, и спросят: «Откуда ты такой олух тут взялся? Судя по одёжке, прямо с острова Крита».
На что и ответить сразу и не найдёшься, и в подтверждении этой насмешки над собой, начнёшь с удивлённым и просто глупым выражением лица отыскивать в своём одеянии подтверждения всех этих, в чём-то, конечно, каверзных и пренебрежительных предположений неравнодушного и до всего есть дело римского гражданина, не могущего пройти мимо всякого для себя непонятного и вызывающего вопросы обустройства в голове и во внешнем виде человека со стороны. И тут помощь Кезона будет как нельзя кстати, и он быстро, с помощью крепкого слова, а прежде всего, силы своего духа в своих огромных плечах и кулаках, раз кулаком и надолго усмирит нрав этого самонадеянного гражданина, кто с высоты своего столичного статуса и положения, и считаться с римскими гражданами из провинций перестал.
Вот, наверное, почему, Публий начал придавать такое большое значение своему внешнему виду, когда они прибыли к стенам Рима. – По одёжке встречают. – Скорей всего, не только у одного Публия родилась в голове эта истина, когда он начал себя предупредительно осматривать и руками отбиваться от пыли на своей одежде – с тоги и дорожного плаща.
А как только Публий был озарён провидением этой, явно имеющей здесь хождение истиной, то вот оно и подтверждение ранее им озвученного утверждения, что Рим есть город вечных истин. Где истины может и не все здесь рождаются, но очевидно одно для Публия, что они, как и все дороги ведут в Рим, сюда в разной степени готовности сходятся и здесь фундаментируются в свою знаковую истинность. – И, хотя пути к обретению истины могут быть разными, как и дороги, ведущие в вечный город, они всё равно в итоге приходят к одному конечному результату – к истине. – Задрав голову вверх с выражением просветления в лице, вот так напыщенно и насыщено выражался и смотрел на стены Рима Публий, человек для этого города новый и оттого стены так смотрели на него неприступно, в отличие от Кезона, человека бывалого и не только в столице империи, но и по делам в других доступных для ноги гражданина Рима местах.
А учитывая то, что для ноги гражданина Рима не было на этом свете недоступных и недосягаемых для его ног мест, то можно было только догадываться о том, где не вступала нога Кезона, как уже было выше сказано, человека бывалого и многого на своём веку повидавшего. И оттого он, всего вероятней, почерствев сердцем от всего им ранее виденного, не был столь воодушевлён и вдохновлённо настроен при виде стен вечного города, о ком он многое знает не понаслышке. И поэтому он не расположен как Публий гореть в глазах от восхищения при виде этих, всего-то ворот, ведущих в вечный город, а он присел на валун на дороге, явно специально здесь сваленный для уставших путников, кому прежде чем переступить ногой ворота Рима, не мешает как следует подумать о том, а хорошо ли они подумали о том, куда они идут и ждёт ли их вечный город. А уж он в отличие от того же Керзона столько всего необыкновенного повидал, что ни у одного, даже философски мыслящего человека в голове не уместится.
Вот и они, эти философски мыслящие люди, и записывают все эти события в свои философские книги, которые они потом выдают за исторически последовательное описание событий, свершившихся частично на их глазах, а так-то всё тут ими описанное произошло на глазах других людей с большими ушами и длинным языком. Ну а так как эти люди мыслящие, рассуждают не простыми категориями мысли, а они философски на всё вокруг себя и на всё им рассказанное смотрят, то это по их словам им и позволяет отделить зёрна правды от плевел выдумки, и тем самым приблизиться к наиболее близкому к реальности изложению произошедших событий.
– Тут без помощи самого Геракла не обошлось. – Огладывая мощь городских стен, вон как глубоко, чуть ли не в мифического прошлое заглядывают эти люди от философского ума, рождённого от того же мифического прошлого. И оттого они так глубоко копают в своих знаниях реальности. С чем не всегда, а если точнее, то постоянно не имеют согласие люди-реалисты и скептики по жизни, чей ум национализирован под местные реалии жизни, и они не желают все лавры триумфа настоящего отдавать этому далёкому даже на понимание прошлому.
– Какой ещё Геракл, и кто, собственно, он такой, чтобы его вспоминать здеся?! – нет пределу возмущения тем людям, кто отстаивает свою собственную национальную самоидентичность и право на то, чтобы иметь собственную историю, на основе своих мифов, хоть местами и жестоких и трагичных. – Вы нам ещё за Энея ответите! – в момент затыкают рот этим восхвалителям Геракла, у кого у одного ума хватило не присоединяться к воинству, осаждающему Трою.
И только с одной стороны отбили попытку переписать историю, наполнив её никак не подтверждёнными фактами, не укладывающимися в голове даже у человека со своими знаниями человеческих пороков, как уже с другой стороны подступаются, чтобы опорочить память людей выдающихся, кто собой может быть олицетворяет целую эпоху.
– Вот не мог во времена республики Цезарь так сокрушаться над тем, что Понтий Аквил, народный трибун, и не подумал встать со своего места тогда, когда Цезарь во время триумфа проходил мимо трибунских мест. При виде чего Цезарь не смог сдержаться и в негодовании воскликнул: «Не вернуть ли тебе и республику, Понтий Аквил, народный трибун?». После чего Цезарь много дней спустя, давая кому-нибудь обещание, приговаривал: «Если Понтию Аквилу будет благоугодно». – Вот с такой критической точки зрения смотрят некоторые истографы на немыслимые с их разумения, имевшие по словам почитателей собственных слухов факты и события, что является совершеннейшим искажением той исторической реальности, свидетелями которой были эти стены вечного города.
– Вот не могло такого случится и всё. – Со свойственной себе убеждённостью, только с виду выглядящей как высокомерие (хотя эти философски мыслящие люди, пишущие о событиях исторических с высоты своего настоящего, имеют полное право так смотреть на вас, всего лишь современника и в вас трудно предугадать историческую личность), рассуждают эти люди с историческими знаниями и их казусов (явно поклонники всяких Брутов). – И на это указывают нестыковки в словах Цезаря, вдруг решившего утверждать, что уже и республики при нём никакой нет, а есть лишь деспотизм его личной диктаторской власти. – В общем, есть ещё время и место в умах людей, заточенных своим умом на исторические знания для того, чтобы тешить своё самолюбие, приписывая себе отличнейшее знание данной исторической эпохи.
Но такое смеют утверждать только большие завистники к людям неординарного ума и образа жизни, кто погряз в своей ординарности и обычности, и как тут не обойтись без своих конъюнктурных соображений, которые движут всеми этими карьеристами, автократами и деспотами в душе по самому малому поводу, для кого чужая тирания как бальзам на душу, чтобы оправдать свой инфантилизм и связанную с ним жестокость. Вот не могут они до сих пор простить тому же Гаю Юлию Цезарю, что на его месте оказался он, а не они, и оттого они и начинают передёргивать факты из его исторического времени.
Тогда как в противовес им есть и такие благородные мужи, и не только из плебейского сословия, а среди них встречаются и сенаторы, кто всё это видел под другим историческим углом и соображением, и у них есть со своей стороны аргументы и факты, указывающие на то, как Юлий Цезарь без всякого стеснения со своей стороны не гнушался близости с самым рядовым римским гражданином и сидел с ним на равных в общественном месте, латрине, не воротя свой орлиный нос даже в случае того, если этот гражданин позволял себе лишнего и в некотором роде своевольничал.
– Вот здесь, как сейчас помню, прохаживался в своё время сам Юлий Цезарь, – с очень самоуверенным выражением лица и его видно ни в чём не переубедить, начнёт вести рассказ один из таких всё знающих из первых источников людей, – вот те пыточный крест, сам всё видел, – о делах так давно минувших дней, что их в пору записывать в анналы истории в самом лучшем случае, а так-то всё это подходит под те легенды и мифы, на которых строилось это здание современной государственности Рима, – а сюда он заходил когда его застанет неожиданно нужда. Чему я первый свидетель. Сам знаешь какие у меня сложности с пищеварением, и я не раз посиживал в общественной латрине, куда как-то раз заглянул сам Юлий Цезарь. И знаешь, он проявил демократичность, и не стал от нас требовать приветственного уважения: «Аве, Цезарь!», с вставанием на ноги своим нетерпеливым взглядом, с каким он, как и все здесь находящиеся сограждане сюда спешно вошёл.
– И знаешь, что дальше случилось? – с загадочным лицом и с интригой во взгляде и голосе переведёт в плоскость загадки свой рассказ этот столь информированный рассказчик, не сводя со своего слушателя пристального взгляда. Отчего его невольный слушатель, сразу заволнуется сверх меры и начнёт в своём животе чувствовать не прежнее благоустройство, а прямо какой-то непорядок, с позывами поскорее узнать, что там случилось такого, что этот рассказчик так акцентировал твоё внимание на этом, как ему ещё недавно думалось, сугубо личном моменте.
– И что? – сглотнув набежавшую слюну, задастся с придыханием вопросом его слушатель.
– Юлий проявил деликатность своего там присутствия и не стал выставлять там себя за самого авторитетного и могущественного гражданина. – Полушепотом сообщил эту новость этот даже не рассказчик, а распространитель исторических фактов, чему он по его же словам был свидетель.
– Понимаю. – Кивая, даст свой ответ его невольный слушатель.
Но видно по этому всё знающему свидетелю столь важных исторических фактов, раскрывающих подноготную природу исторических личностей, о которых тебе никто кроме них не расскажет и как результат, ты в полной мере не сможешь понять, что всё-таки двигало историческими личностями и посредством их мировыми событиями, что его не устроил такой ответ своего слушателя, и он решил усилить тот момент действительности, свидетелем которого он по его словам стал. А вот здесь уже и начинается художественная мифология и мифотворчество, к которым прибегают быть может и на самом деле свидетели тех давно забытых для всех, но только не для них событий. Где эти рассказчики, неудовлетворённые вялой заинтересованностью слушателей в своём историческом рассказе, начинают его разбавлять различной отсебятиной, которая должна повысить интерес к их рассказу.
– Да не может такого быть?! – вот такого ответа ожидают от своего слушателя эти интриганы от исторических подробностей чужого прошлого, свидетелями которого они как бы были.
– Как на духу говорю. – Крепко так заверяет рассказчик своих слушателей, ополоумевших от таких приведённых им подробностей и фактов. А сам рассказчик при этом отводит свой нос и дыхание в сторону, чтобы не быть заподозренным в буквальности этого своего изречения. Но при этом он держит нос по ветру и закрепляет свой успех тем, что ещё раз повторяет то, чем он ввёл в такое несознательное расположение духа своего слушателя.
– Как сейчас помню, так и сказал Юлий: «Доколе!» (это злоупотребление рассказчиком в сторону панибратского отношения к Юлию Цезарю, уже никем не замечается и принимается за должное; всё-таки не ему, слушателю, выпало такое счастье сидеть чуть ли не плечом к плечу рядом с Юлием в общественной латрине или как он (Юлий) любил по словам того же рассказчика, выражаться, клоаке: всех вас подлецов, общественных деятелей из сената, там вижу). – А вот на этом месте в голове слушателя что-то щёлкнуло, – стремление к справедливости в деле изложения исторических фактов что ли, – и он перекосил лицо рассказчика тем, что перебил его.
– Как мне помнится, – с не менее непререкаемым авторитетом в своём лице вот так заявил слушатель, – то автором этого крылатого вступления был Цицерон. – А рассказчик, этот проводник в туманное историческое прошлое, какой-нибудь обязательно Тиберий, чьё имя указывает на его буквальную близость к местам всех этих исторических событий (я если что, из местных), нисколько не смущён такой принципиальностью своего визави на наличие своей точки зрения на уже свершившиеся исторические факты, и Тиберий знает как и что ему на это ответить.
– Как вас зовут, гражданин, как я вижу? – поинтересуется для начала Тиберий у своего слушателя о его именной идентификации.
– Гай Аврелий, трибун. – Готов и представится, как и должно слушатель.
– А не хотите ли сказать, Гай Аврелий, народный трибун, что раз сказанное слово, никем больше не может повторно сказаться? – вот с какой ловкостью подходит Тиберий к этому вопросу.
Но его оппонент с некоторого времени, Гай Аврелий, народный трибун к тому же, и сам из не простых граждан, и он не стал бы никогда народным трибуном, если бы не поднаторел в словесной казуистике, риторике, и знаний у него тоже в голове достаточно. – Но только не в устах Юлия Цезаря, как нам, всеми его продолжателями дел и просто наследниками известно, имевшего очень и очень непростые отношения с Цицероном. – Делает заявление Гай Аврелий.
– Но они, во-первых, в итоге замирились, – в свою очередь выказывает немалые знания и сам Тиберий, не просто болтун на вашем доверии и невежестве, а как видно, и понаслышке имеющий знания исторических фактов, – а во-вторых, чего только не сболтнёшь, когда тебя приспичит.
– И то верно. – Вынужден согласиться с этим заявлением Тиберия Гай Аврелий, по себе зная, на что он способен в такие дикие моменты, когда естество берёт вверх над его разумом, который в этот момент отступает по всем позициям и с ним всё в нём перестаёт считаться. При этом Гай Аврелий с большей чем раньше заинтересованностью во взгляде смотрит на Тиберия, явно ожидая от него пояснения тому, к чему всё это было Юлием Цезарем сказано.
А Тиберий всё понял по этому внушающему уважение взгляду Гая Аврелия и детализировал свой чуть ранее прерванный самим же Гаем Аврелием рассказ. – Доколе! – Как и должно всякому рассказчику, кто подвизается на этот роде искусства и он для него есть основной источник дохода, Тиберий сделал выразительную и красноречивую паузу в устах Юлия Цезаря, кто, усевшись на одно из свободных мест в этом общественном заведении, выдержал некоторую паузу (Юлий тот ещё мастер интриги), а когда установившаяся тишина в латрине начала давить на мозг и желудки здесь так не по своей воле, а по воле своего естества собравшихся сограждан, то тут-то Юлий и оглушает всех тут этой своей многоходовой недосказанностью, которая всё что угодно может значить.
«А так как все здесь собравшиеся вдруг и по стечению различных обстоятельств сограждане, не самые простые, а всё сплошь состоящие из патрициев, только слегка разбавленные плебсом из народных трибунов, – а так-то здесь есть сенаторы, так же граждане из всаднического сословия, плюс пару цензоров и один проконсул, и все они умеют глубоко копать и заглядывать прямо сквозь глубины сказанного слова, и видеть и слышать своим чутким на опасности для себя слухом, что оно, это слово, в себе может подразумевать, утаивать и недоговаривать непостижимое обычному плебейскому уму, – то тут в их головах и начинаются разборы и предположения того, чтобы могло всё это значить в устах Юлия Цезаря, кто с такой невоздержанностью высказал этим одним словом своё нетерпение к чему-то или к кому-то точно из них.
Хотя и были, у того же проконсула, не зрелые мысли о том, что Юлий Цезарь, как в своё время сейчас остановился у Рубикона, только в фигуральном плане, и сейчас в нерешительности погрузившись в глубокие раздумья насчёт того, что его будет дальше ждать, когда он его пересечёт, ожидал может быть какого-нибудь предзнаменования со стороны богов, – орёл в небе или гроза, – которое бы его подтолкнуло к решительным действиям. А в виду того, что Юлий Цезарь нетерпящий промедления человек, то он таким словесным образом попытался побудить небеса дать ему знамение.
– Доколе, мне вас ещё ждать! – примерно что-то такое подразумевалось в этом требовательном выкрике души Юлия, где он давал понять небесам, а может и самому Юпитеру, что он если что, то и сам может принять решение перейти Рубикон, без всякой подсказки с его, Юпитера, стороны. И он, как в своё прежнее, решительных поступков и дел время, положится на свои внутренние силы, которые и станут тем толчком, позволившим ему перейти свой Рубикон.
А вот не был бы Юлий Цезарь столь напряжён и взволнован тем сложным обстоятельством дел, за которым стоит обязательно и их представляет пока неизвестный им всем согражданин, ясно о нём лишь одно, что он большой проходимец и человек без чести, раз вызывает у них всех столько вопросов теперь, то он бы, заняв своё место среди своих сограждан, с приветливым выражением лица сказал: В добрый час, сограждане!
А так как всего этого не случилось, то все эти сограждане прежде всего, а затем уже люди, облечённые сановитостью и родовитостью, начинают волноваться, нервничать и кое-кто впадать в истерику, объясняемой ими запором мысли. Где теперь они без прежней приветливости и благочинности смотрят по сторонам и, судя по их непримиримым с действительностью лицам, в чём-то даже неприветливым, то они не видят тут никого, кто бы не подошёл под общее подозрение, связанное с этим нетерпением Юлия Цезаря, как все знают, большого тирана в деле касающегося общественного блага. Которое как все тут теперь понимают, кто-то решил нарушить, задерживая на месте товарища Юлия Марка Юния Брута (как они об этом прознали, загадка чрезвычайная только с первого поверхностного взгляда и знания этих людей, а если знать насколько чуток их слух, то вам не заставит никакого труда отгадать этот их секрет в деле такой прозорливости), кто сейчас там, на улице, стоит переминаясь с ноги на ногу, и из последних сил ждёт, когда его сограждане надумают освободить тут место для него.
А так называемые его сограждане, и думать не думают пойти навстречу всем этим естественным вроде как пожеланиям Брута, и всё сидят и сидят, не желая, как они считают и думают, таким образом демонстрировать перед Юлием свою большую сноровку даже в таком, прямо сказать, самом естественном деле. Да и кому хочется, а это равносильно потере репутации, чтобы за его спиной начались разговоры, и тем более с Юлием Цезарем, по одному щелчку которого, тебя запросто могут выпнуть с твоей хлебной должности, как минимум.
И такие разговоры за твоей спиной обязательно заведутся, хоть и не самым Юлием Цезарем, с явным недовольством и противностью в своём лице посмотревшего на спину и потерпеть никак не могущего сенатора Квинтилия, пролежни, видишь ли, у него уже образовались, а кем-нибудь из его врагов-сограждан, кому он в чём-то не подсобил, а может и того больше, дорогу перешёл.
– Немощен уже наш Квинтилий. – По выходу из латрины Квинтилия, заметит за ним такую особенность Квест Фабий, сенатор и большой не любитель сенатора Квинтилия. А то, что он так с ним чуть ли не разлучен, то истина «Врагов нужно держать рядом» до сих пор актуальна.
И с этим утверждением Квеста Фабия все здесь согласны, в том числе и Юлий Цезарь, так и сидящий с тошнотворно выглядящим лицом, чей вид крепко связан так и стоящим перед его глазами видом Квинтилия, стоящего к нему спиной в тот момент, когда он занимался гигиеническими процедурами хотелось бы сказать, но не получается этого никак сказать, когда так и кричится: подробностями на свою гад задницу.
И одного взгляда на Юлия Цезаря сейчас достаточно для того чтобы понять, как неразумно поступил Квинтилий, так поспешив вставать. И теперь все тут будут сидеть до последнего, пока Юлий не соблаговолит … Но он не успевает никак соблаговолить, а всё по причине присутствия здесь Гая Аврелия, народного трибуна и человека крепкого духа, огромной выдержки и высокого таланта красноречия, как бы описал и описал себя сам Гай Аврелий, засунувший себя в своём воображении в это место и посадивший опять же себя буквально рядом с Юлией Цезарем, по другую сторону от Тиберия, чья версия рассказа этого события пока что умалчивается и Гай Аврелий взял на себя смелось в своём воображении так дополнить всю эту историю.
И Гай Аврелий, как только Квинтилий всех их тут оставил на свою голову, нисколько не тушуясь такой близости к самому Гаю Юлию Цезарю, – меня как-никак избрал на эту трибунскую должность римский народ, и я ничем не обязан Юлию, – громко так заявляет. – Вот прямо чую, что Квинтилий, сенатор, подкинет нам свинью.
И бл*, точно, как выразился бы устами Юлия Цезаря современник, как только все вокруг стали принюхиваться к словам такого проницательного и ловкого на слова Гая Аврелия. – А Квинтилий, как сдаётся мне, – заявил всадник Нумерий Север, – уже подбросил нам свинью, крепко сегодня пообедав свиными колбасами.
И теперь уже с Нумерием Севером все согласны, в том числе и показавшийся на входе Юний Брут, к кому при его входе с хитрым видом обратился Юлий. – Знаешь Юний, какую нам всем тут свинью подложили? – А Юний Брут как всё это услышал, так и забыл на месте, зачем он сюда так спешил и даже на пороге возмущался». – Но на этом мысли и воображение Гая Аврелия, человека своего времени, где вещи назывались своими именами, хоть и находились на стадии своего формирования в понятия и знания о них, где человек ничего не видел прискорбного и противного своему духу самовыражения в вот в таких общественных походах туда, куда зовёт мать природа, человека таким социальным создавшая и ничего паскудного в том не видящая, что теперь себе надумал видеть современник, заточенный и социализированный под новые понятия самого себя и своей жизни вне себя инклюзивного.
«Доколе же ты, Понтий Аквил, будешь злоупотреблять нашим терпением?», – со вздохом вырывается из уст Юлия Цезаря это изречение. – С трагическим выражением лица, наконец, делает это заявление Тиберий. И хотя для всего этого им рассказанного есть свои предпосылки, Гай Аврелий, народный трибун, хоть и называл себя последователем политики Цезаря, всё же он лукавит, раз так противоречиво сейчас реагирует на сказанное Тиберием. – О времена, о нравы! – схватившись за голову, можно сказать, что закатил истерику Гай Аврелий, когда ему вслух сказали то, что не отвечало его политическим убеждениям.
На что у Тиберия тоже нашлось что сказать, и он сказал. – А вы откуда знаете, что он это после сказал перед своим уходом, когда окинул взглядом это благородное собрание и не нашёл поблизости специальную губку-валик, сами знаете для какой надобности.
Но у этого Гая Аврелия, народного трибуна, что за невероятной придирчивости римского гражданина, уже сложилось своё предубеждение против любых рассказанных Тиберием подробностей из жизни того же Юлия Цезаря. И он больше не стал спокойно его слушать, а перекосившись в лице, выразитель высказался. – Тьфу на тебя за такие подробности. – И бегом отсюда, не от своего точно избирателя.
Но вернёмся к тем людям с философским мировоззрением и с таким же вкладом в историю, о коих так сурово и неприступно не упоминают эти стены вечного города, хотя они его часто упоминают в своих сочинениях. Ну а так-то они в каждой бочке затычка, как их назвали бы их современники, – вечно суёт свой нос Светоний туда, куда его не просят. Нашёлся тут второй Плутарх, тот ещё плут, или Фукидид, те ещё конъюнктурщики, кем и являются все эти ниспровергатели фактов реальности в угоду собственных разумений и должного обоснования для прискорбных дел и самоуправства того или иного правителя, кто стоит над душой этого историка, и фигурально направляет его ход мысли в какую надо сторону.
– Всех подлецов и наглецов данной исторической эпохи, как себя знаю, и значит, не ошибусь нисколько в их описании и описании их дел, а что до людей честных и благообразных, то не они движут судьбами мира, и о них значит речи и упоминания нет. – Вот так сами себя вдохновляют эти люди философского склада ума, взявших на себя труд стать для будущего человечества проводниками в их исторического прошлое и тем самым в собственное самосознание. Где доверяющий им всем сердцем просто любопытствующий на свой счёт исследователь, всё это прочтёт, если сумеет задумается, и как итог, тронется умом, став ярым последователем теории происхождения видов небезызвестного Дарвина. Явно воспитанного прежде всего на вот таких исторических фактах из жизни человечества, где движущей силой человечества к его эволюционному настоящему стало не его человеколюбие, а всё как раз наоборот, внутривидовая борьба за собственную выживаемость, приведшая в самый верх пищевой цепочки самых подлых на подвижность людей с хищным оскалом на ваш собственный счёт.
А если прочитать или хотя бы прослышать, что насчёт всего исторического прошлого думал и не скрывал всего этого тот же, часто приводимый в качестве примера объективизма в различных источниках Фукидид (по крайне мере у нас нет других примеров такой ожесточённости к своей реальности, а тем более к чужой), – более древние события было невозможно достоверно исследовать по давности времени, но при долгом размышлении над тем памятниками, которым можно было довериться, я полагаю, что не было совершено никаких великих дел: ни военных, ни каких-либо других, – то уже и не знаешь, что обо всём написанном и приведённом в качестве исторических примеров им и такими как он, философского склада людьми думать. Ясно только одно, завистливы они были чрезмерно к тому, что не им был дан шанс стать тем же Юлием Цезарем.